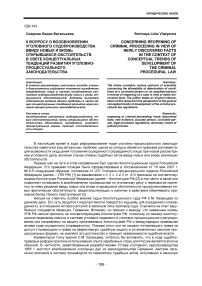К вопросу о возобновлении уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в свете концептуальных тенденций развития уголовно-процессуального законодательства
Автор: Смирная Лидия Витальевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены различные взгляды ученых о допустимости ухудшения положения осужденного (оправданного лица) в случаях возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Автором высказано собственное видение данной проблемы в свете общих концептуальных тенденций развития норм уголовно-процессуального законодательства.
Возобновление уголовного судопроизводства, новые обстоятельства, вновь открывшиеся обстоятельства, обвиняемый, осужденный, уголовнопроцессуальные нормы, принцип состязательности сторон
Короткий адрес: https://sciup.org/14936824
IDR: 14936824 | УДК: 343
Текст научной статьи К вопросу о возобновлении уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в свете концептуальных тенденций развития уголовно-процессуального законодательства
В настоящее время в ходе реформирования норм уголовно-процессуального законодательства наметился ряд актуальных проблем, одной из которых является правовая регламентация возможности ухудшения положения осужденного (оправданного лица) при новом рассмотрении уголовного дела, включая случаи отмены судебных актов ввиду новых или вновь возникших обстоятельств.
Первый шаг на пути в этом направлении был сделан Конституционным судом Российской Федерации. Его правовая позиция была сформулирована в постановлении от 16 мая 2007 г. № 6-П следующим образом: положения ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] во взаимосвязи с п. 2 ч. 2 и 3 ст. 413 признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [2] в той части, в какой они позволяют отказывать в возобновлении производства по уголовному делу и пересмотре принятых по нему решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств при возникновении новых фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления [3].
Нельзя не отметить особое мнение судьи Конституционного суда РФ С.М. Казанцева по данному делу. Его суть сводится к недопустимости поворота к худшему для осужденного (оправданного), в отношении которого вступил в законную силу приговор суда. Ссылаясь на опыт зарубежных государств (Франции, Германии, Испании), он пришел к выводу, что названные нормы УПК РФ нельзя признать не соответствующими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования они направлены на защиту признаваемых Конституцией РФ и международно-правовыми актами прав осужденного (оправданного). Помимо этого они не лишают потерпевшего права на доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту в установленных законом процессуальных формах, не умаляют его достоинство и принцип независимости судебной власти.
Комментируя точку зрения С.М. Казанцева, хотелось бы вспомнить, что в ходе судебноправовых реформ практика использования опыта зарубежных стран для России является вполне обычной. В частности, заимствованный разработчиками Устава уголовного судопроизводства 1865 г. институт возобновления уголовных дел из законодательства Германии, Австрии органично вписался в систему производств по пересмотру судебных актов, вступивших в законную силу в России. Вместе с тем, составители Устава создали самостоятельную процессуальную форму проверки устранения судебной ошибки. Например, в отличие от уголовно-процессуального законодательства Франции того времени, Устав предусматривал возможность возобновления дела не только в интересах осужденного, но и вопреки интересам последнего. По мнению известного ученого И.Я. Фойницкого, причины, опорочивающие основание приговора, лишают силы и значения судебного решения всякий приговор. Нет причины приводить в этом отношении какое-либо различие между приговорами обвинительными и оправдательными, между возобновлением в пользу или во вред подсудимого, поскольку в этих ситуациях никакие акты не могут пользоваться авторитетом судебного решения [4, с. 565].
Преемственность в данном вопросе была сохранена и в отечественном кодифицированном уголовно-процессуальном законодательстве советского периода.
Конституционный суд РФ в вышеупомянутом постановлении № 6-П обязал Федеральное собрание в течение шести месяцев со дня провозглашения постановления внести в уголовнопроцессуальное законодательство изменения и дополнения, касающиеся процессуального механизма, обеспечивающего принятие подобных решений. Однако изменения были внесены в редакцию п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ лишь 26 апреля 2013 г. Федеральным законом № 64-ФЗ [5]. Основаниями к возобновлению уголовного дела признаны новые обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного решения, исключающие преступность или наказуемость деяния либо подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом (после вынесения судебного решения) новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.
Таким образом, новеллы об ухудшении положения обвиняемого (осужденного) связаны с наступлением новых общественно опасных последствий инкриминируемого ему деяния в период рассмотрения дела судом или после вынесения судебного решения. Каких-либо предписаний, ограничивающих усмотрение суда в вопросах квалификации и меры наказания при новом рассмотрении уголовного дела, глава 49 УПК РФ не содержит.
Позиция Конституционного суда РФ, изложенная в постановлении от 16 мая 2007 г. № 6-П была подтверждена в п. 4.2 другого постановления от 2 июля 2013 г. № 16-П [6], которое можно назвать революционным для уголовного судопроизводства. Его принятие вызвало большой общественный резонанс, поскольку Конституционный суд РФ постановил признать положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в том числе во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, которые исключают в судебном разбирательстве возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, не соответствующими Конституции РФ. Суд считает, что сложившаяся ситуация препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении (обвинительном акте, обвинительном постановлении), свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления, либо когда в ходе предварительного слушания (судебного разбирательства) им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
По сути, речь идет о ранее существовавшем полномочии суда направлять уголовное дело для дополнительного расследования и возможности ухудшения положения осужденного (оправданного лица) при новом рассмотрении уголовного дела, включая случаи отмены судебных актов ввиду новых или вновь возникших обстоятельств. Тем не менее в постановлении № 16-П процедура возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его судебному рассмотрению названа «особым порядком движения уголовного дела», который не является тождественным его возвращению для производства дополнительного расследования.
В юридической литературе можно встретить высказывания о кардинальном изменении вектора развития уголовного судопроизводства, поскольку на смену таким революционным преобразованиям, как расширение сферы действия принципа состязательности сторон, пришло реакционное движение в направлении, резко противоположном ранее взятому либеральному курсу [7, с. 98].
Высказаны опасения в том, что отказ стороны защиты от обжалования вступивших в законную силу судебных решений (из страха ухудшить свое положение) может привести к неисправ-лению судебных ошибок, что не согласуется с назначением уголовного судопроизводства в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения его прав и свобод [8, с. 100–101].
29 января 2014 г. в Государственную думу внесен Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института объективной истины по уголовному делу» № 440058-6 [9]. Его положения о возвращении уголовного дела прокурору воспроизводят законопроект, который был ранее разработан Следственным комитетом Российской Федерации.
В частности, УПК РФ предлагается дополнить нормой следующего содержания: «Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в истинности мнения сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправления справедливого правосудия» (ч. 2 ст. 16.1 УПК РФ).
Другая новелла касается основания для возвращения уголовного дела прокурору. В соответствии с п. 2 ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ в предлагаемой редакции, суд возвращает уголовное дело прокурору по ходатайству стороны в случае: «наличия оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном акте».
Прежде всего Проект выглядит несколько недоработанным. Обращает на себя внимание нумерация норм: ч. 1.1 в действующей редакции ст. 237 УПК РФ уже существует. Объясняется подобная ситуация просто – в период составления Проекта Следственным комитетом РФ подобной нормы не было, поскольку она введена Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [10]. Тем не менее следует с позитивной стороны оценить правила о возвращении уголовных дел в связи с наличием оснований для предъявления обвиняемому нового обвинения только по ходатайству стороны. Правовая позиция Конституционного суда, сформулированная в постановлении № 16-П, допускает возвращение дела прокурору для изменения квалификации судом по собственной инициативе.
В свете общих концептуальных тенденций развития уголовно-процессуального законодательства нормы главы 49 УПК РФ также требуют корректировки. Заслуживает внимания подход к данной проблеме В.А. Давыдова. Анализируя основания возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, автор приходит к выводу о невозможности ухудшения положения осужденного, если речь идет об обнаружении вновь открывшихся обстоятельств, оправдывающих его. Признание Конституционным судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ, а также установление Европейским судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод судом Российской Федерации при рассмотрении уголовного дела в силу своей правовой природы могут повлечь лишь улучшение положения осужденного [11, с. 24].
В других случаях суд, рассматривающий уголовное дело после отмены первоначального приговора, не связан с предыдущими выводами суда по основным вопросам уголовного дела. Такой подход вполне применим и в отношении вновь открывшихся обстоятельств, предусмотренных п. 2 и п. 3 ч. 3 ст. 413 УПК РФ, а также в отношении новых обстоятельств, предусмотренных п. 3 ч. 4 этой же статьи [12, с. 25].
На наш взгляд, в настоящее время возникли предпосылки для кардиальных изменений положений ст. 413 УПК РФ. Прежде всего предлагаем обратиться к нормам ранее действующего уголовно-процессуального законодательства. В п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР 1960 г. в качестве одного из оснований возобновления уголовных дел были названы «иные обстоятельства, неизвестные суду при постановлении приговора или определения, которые сами по себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными, доказывают невиновность осужденного или совершение им менее тяжкого или более тяжкого преступления, нежели то, за которое он осужден, а равно доказывают виновность оправданного или лица, в отношении которого дело было прекращено».
Аналогичные правила сохранили свое действие в новом уголовно-процессуальном законодательстве бывших союзных республик СССР (п. 4 ч. 2 ст. 471 УПК Республики Казахстан [13], ст. 461 УПК Азербайджанской Республики [14] и др.)
Следует обратить внимание и на позицию Конституционного суда РФ в Постановлении от 2 февраля 1996 г. № 4-П, в котором он указал, что норма п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР ограничивает круг оснований к возобновлению уголовного дела обстоятельствами, «неизвестными суду при постановлении приговора или определения», и, соответственно, препятствует исправлению судебных ошибок, которые нарушают права и свободы граждан в случаях исчерпания возможностей судебного надзора. Вместе с тем, Суд не исключил, что при введении и развитии каких-либо процессуальных институтов, корректирующих недостатки положений п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР, данная норма может получить новое звучание в будущем уголовно-процессуальном законодательстве даже в прежней ее редакции [15].
Полагаем, что подобные положения целесообразно инкорпорировать в действующее уголовно-процессуальное законодательство, но во взаимосвязи с другими нововведениями. В процессуальной литературе уже предлагалось переместить п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, где речь идет об «иных новых обстоятельствах» выше по тексту УПК РФ, превратив его в «иные вновь открывшиеся обстоятельства», которые по своей сути являются обстоятельствами фактической природы [16].
Разделяя это точку зрения в целом, обратимся вновь к зарубежному законодательству. В частности, УПК Азербайджанской Республики предусматривает две самостоятельные главы: LIII «Производство по новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод» и LIV «Производство по вновь открывшимся обстоятельствам». Из этого стоит извлечь положительный опыт и определить новые обстоятельства, указанные в пп. 1 и 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ как «новые обстоятельства, связанные с нарушением прав и свобод».
С этой целью предлагаем п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК изложить в следующей редакции:
«2) иные вновь открывшиеся обстоятельства, неизвестные суду при постановлении приговора или определения, которые сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами, свидетельствуют о невиновности осужденного или о совершении им менее тяжкого или более тяжкого преступления, чем то, за которое он осужден, либо о виновности оправданного или лица, в отношении которого дело было прекращено».
Часть 2 ст. 413 целесообразно дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) новые обстоятельства, связанные с нарушением прав и свобод, указанные в части четвертой настоящей статьи».
Соответственно пункты 2.1 и 3 из ч. 4 ст. 413 УПК РФ следует исключить.
Ссылки:
-
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от ред. от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921 ; 2013. № 48. Ст. 4078.
-
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г. № 6 – ФКЗ, № 7 – ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
-
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президиума Курганского областного суда» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2686.
-
4. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2. С. 565.
-
5. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 17. Ст. 2031.
-
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 28. Ст. 3881.
-
7. Дикарев И.С. Уголовный процесс: «тихая революция» сменилась реакцией // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2013. № 3. С. 98.
-
8. Там же.
-
9. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института объективной истины по уголовному делу» [Электронный ресурс]. URL: http://www.sled- com.ru/discussions/?SID=3551&sphrase_id=286018 (дата обращения: 27.02.2014).
-
10. О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 9. Ст. 875.
-
11. Давыдов В.А. Поворот к худшему (reformatio in peius) при новом рассмотрении уголовного дела после отмены судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Российский судья. 2011. № 6. С. 24–25.
-
12. Там же.
-
13. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. № 206-I (в ред. от 17.01.2014 г. № 166-V) [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442#sub_id=4710000 (дата обращения:
06.05.2014).
-
14. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ (ред. от 03.02. 2014г. № 897-IVQD) // Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики. 2000. № 8 [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420280#sub_id=4550000 (дата обращения: 06.05.2014).
-
15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта четвертого части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 7. Ст. 701.
-
16. Поляков М.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Уголовный процесс. 2006. № 10.