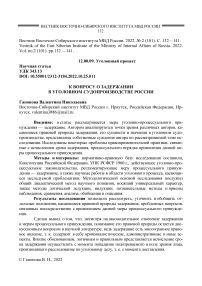К вопросу о задержании в уголовном судопроизводстве России
Автор: Гапонова Валентина Николаевна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается мера уголовно-процессуального принуждения - задержание. Автором анализируются точки зрения различных авторов, касающиеся правовой природы задержания, его сущности и значении в уголовном судопроизводстве, представлены собственные суждения автора по рассматриваемой теме исследования. Исследованы некоторые проблемы правоприменительной практики, связанные с исчислением срока задержания, процессуального порядка применения данной меры процессуального принуждения. Методы и материалы: нормативно-правовую базу исследования составили, Конституция Российской Федерации, УПК РСФСР 1960 г., действующее уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующие меру процессуального принуждения - задержание, а также научные работы в области уголовного процесса, касающиеся исследуемой проблематики. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результаты исследования позволили рассмотреть, уточнить и обобщить отдельные положения, касающиеся правовой природы задержания, проблемных вопросов, связанных непосредственно с применением данной меры процесссуального принуждения. Сделан вывод о том, что, несмотря на законодательное отнесение задержания к мерам процессуального принуждения, понимание его правовой природы остается дискуссионным вопросом в научной литературе, ведь задержание есть многогранное правовое явление, т. к. содержит в себе криминалистические, административные и иные аспекты. Вполне обоснованным, логичным и правильным представляется исчисление срока задержания осуществлять с момента попадания подозреваемого в поле зрения лица, производящего расследование по уголовному делу, т. е. с момента доставления. © Гапонова В. Н., 2022
Уголовно-процессуальное законодательство, задержание, мера процессуального принуждения, срок задержания, момент фактического задержания
Короткий адрес: https://sciup.org/143178852
IDR: 143178852 | УДК: 343.13 | DOI: 10.55001/2312-3184.2022.10.25.011
Текст научной статьи К вопросу о задержании в уголовном судопроизводстве России
Вовлечение граждан в уголовное судопроизводство неразрывно связано с ограничением основных прав и свобод последних. При применении такой меры процессуального принуждения, как задержание ограничивается неприкосновенность личности и её право на свободу передвижения. Любое действие правоохранительных органов, которое непосредственно связано с ограничением прав и свобод гражданина, должно быть строго регламентировано в целях возможности обосновать его необходимость и законность, не нарушая при этом конституционных прав и свобод.
В связи с этим процедурные правила, связанные с уголовно-процессуальным задержанием, должны быть четко сформулированы в законе.
Так, за 2018 год следователями задержано 84 тыс. 383 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, освобождено 12 тыс. 109, из них: 11 тыс. 262 — в связи с отсутствием оснований для применения заключения под стражу, 199 — в связи с неподтверждением подозрения; за 2019 год всего задержано — 77 тыс. 223, освобождено 11 тыс. 313, из них: 10 тыс. 399 — отсутствие оснований для применения заключения под стражу, 172 — неподтверждение подозрения; за 2020 — 72 тыс. 87, всего освобождено — 12 тыс. 271, из них: 11 тыс. 74 — отсутствие оснований для применения заключения под стражу, 246 — за неподтверждением подозрения; за 2021 год — 72 тыс. 321, освобождено 11 тыс. 593, из них: 10 тыс. 327 — отсутствие оснований для применения заключения под стражу, 154 — подтверждением подозрения соответственно1.
Несмотря на общую тенденцию снижения количества задержанных лиц, подозреваемых в совершении преступления, каждый седьмой задержанный, в порядке ст. 91—92 УПК РФ, подлежит освобождению, в том числе и на основании неподтвер-ждения подозрения в совершении преступления, что нарушает существенно нарушает его конституционные права и свободы, а также дает право на реабилитацию.
Такое положение вещей связано, в том числе и с несовершенством законнодательного регулирования института задержания в уголовном судопроизводстве.
Во-первых, это связано с определением сущности института задержания.
Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон отнес институт задержания к мерам процессуального принуждения, вопрос его правовой природы в юридической литературе остается дискуссионным.
Существует два основных подхода к определению сущности задержания. Согласно первому, задержание — мера уголовно-процессуального принуждения, которая заключается в кратковременном лишении лица, подозреваемого в совершении преступ- ления, права на свободу. Данного подхода придерживаются В. Н. Григорьев, Б. Я. Гаврилов, Л. В. Головко и другие авторы [1, с. 42; 2, с. 66—67; 3, c. 139; 4, с. 524—525].
Согласно второму подходу, задержание по своей правовой природе ближе к следственному действию. Сторонники данного подхода ссылаются, в частности, на то, что советский законодатель при формулировании диспозиции ст. 119 УПК РСФСР прямо причислил задержание к числу неотложных следственных действий. Авторы, которые высказывают подобную точку зрения, делятся на два направления, одно из которых можно назвать узким, а второе — широким. Представители «узкого» подхода к определению сущности задержания — Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин, и др. [см. напр.: 5, с. 108—109]. Данные авторы рассматривают в качестве следственных действий только механизмы поисково-познавательной направленности. Представители «широкого» подхода: И. М. Лузгин, А. М. Ларин, И. Ф. Герасимов, А. П. Кругликов и др. понимают под ними любые процессуальные формы деятельности органов предварительного расследования [см.: 6, с. 69; 7, с. 93; 8, с. 147—148; 9, с. 58].
Именно широкий правовой подход небезосновательно может дать почву относить задержание к следственным действиям «как форму реализации государственновластных полномочий органами дознания или предварительного следствия» [10, с. 180].
На данный момент дискуссия потеряла остроту в связи с тем, что законодатель занял позицию, согласно которой задержание подозреваемого включено в систему мер процессуального принуждения.
При анализе различных положений УПК РФ, регламентирующих задержание подозреваемого, прослеживается различный правовой смысл данного понятия. Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ, задержание есть мера процессуального принуждения. Однако «задержание подозреваемого» включает целую совокупность процессуальных действий, регламентированных главой 12 УПК РФ. В частности, данное множество включает допрос подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ), его личный обыск (ст. 93 УПК РФ), направление уведомлений (ч. 3 ст. 92, ст. 96 УПК РФ) и т. д. Как указывают И. Е. Быховский, С. А. Шейфер [11, с. 90—92] и др. авторы, в структуру категории «задержание» включаются и отдельные поисково-познавательные элементы, что позволяет говорить о наличии признаков следственных действий в понятии «задержание».
Вместе с тем в научной литературе имеется небезынтересная точка зрения относительно правовой природы задержания С. Б. Россинского [12], который, говоря о сущности задержания, выделяет четыре аспекта:
-
1. Задержание подозреваемого — это мера процессуального принуждения.
-
2. Задержание подозреваемого — это процессуальная комбинация, под которой понимается «предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством комплекс определенных взаимообусловленных следственных и иных процессуальных действий, направленных на решение частных (локальных) задач уголовного судопроизводства и производимых на основании общего процессуального решения».
-
3. Задержание подозреваемого — это тактическая операция. При наличии данного элемента становится понятно, почему задержание выходит за рамки регулирования УПК РФ. При широком подходе к понятию задержания в нем можно выявить, по мнению С. Б. Россинского, следующие признаки тактической операции: содержит совокупность различных по правовому режиму актов правоохранительной деятельности
(следственные, оперативно-розыскные, административно-правовые и организационнотехнические).
Задержание подозреваемого — это совокупность режимных мероприятий, которые обусловливают помещением лица в изолятор временного содержания [10, с. 179— 181].
Таким образом, основным проблемным вопросом выступает определение правовой природы задержания.
Представляется, что различные подходы не столько противостоят друг другу, сколько характеризуют разные проявления задержания как правового явления.
Однако, несмотря на то, что понимание правовой природы задержания остается дискуссионным вопросом, законодатель однозначно относит само задержание к мерам процессуального принуждения, с этим нельзя не согласиться, однако, как верно замечено С. Б. Россинским, задержание есть многогранное правовое явление, так как содержит в себе криминалистические, административные и иные аспекты [10, с. 181; 13, с.80-81].
Вместе с тем, помимо неопределённости правовой природы и сущности задержания, существует ряд неопределенностей, связанных непосредственно с применением данной меры процессуального принуждения.
Порядок задержания определен ст. 92 УПК РФ и представляет собой последовательность действий, первым из которых выступает фактическое задержание лица. Под фактическим задержанием понимаются принудительные физические действия уполномоченных субъектов по лишения лица свободы передвижения, подозреваемого в совершении преступления [14, с. 143]. Момент фактического задержания лица законодатель определил, как «момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления». Далее лицо должно быть доставлено в орган дознания или к следователю. Общий срок задержания подозреваемого, согласно ч. 1 ст. 10 УПК РФ не может превышать 48 часов с момента фактического задержания лица.
Процедура и правила доставления в органы дознания или к следователю законодателем не урегулирована. Еще большей неопределенности добавляет расхождение в терминах «момент фактического задержания» и «момент задержания». Первое понятия применяется в п.п. 11 и 15 ст. 5, п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ и, по сути, определяет момент непосредственного физического ограничения свободы подозреваемого, а второе в ч. 3 ст. 92, ч.ч. 2 и 3 ст. 94, ст. 96, ст. 100 УПК РФ определяет момент доставления лица в органы дознания или к следователю.
Как указано выше, законодатель под фактическим задержанием предусматривает момент «фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления». Во-первых, отметим тавтологию, которую использует законодатель, определяя «фактическое» задержание через «фактическое» лишение свободы. Во-вторых, если обратиться к толкованию термина «фактический», то в словаре Кузнецова оно раскрывается через понятия «действительный, настоящий, истинный» [15]. В таком контексте словом «фактический» определяется непосредственный момент задержания, т. е. момент физического ограничения свободы.
Солидаризируясь с мнением В. Ю. Стельмаха в том, что понятие «фактическое задержание» неоднозначно, так как допускает принципиально различное толкование [16,
-
с. 208]. Таким образом, законодателю надлежит скорректировать значение данного термина и возможно отказаться от его использования.
В свете вышеизложенного появляется вполне логичный вопрос: почему полицейское задержание, имеющее административную природу, накладывается на меру уголовно-процессуального принуждения?
Как вариант решения данной проблемы, ряд авторов предлагает оговорить промежуток времени между моментом фактического задержания лица до момента его доставления в органы дознания или к следователю, например, в три часа [17, с. 31], либо ввести указание на незамедлительность доставления задержанного. Кроме того, представляется целесообразным указывать время и фактического задержания, и время доставления к следователю или в органы дознания (время процессуального задержания).
Вместе с тем нормы ст. 5 (п. 11, 15), 92 УПК РФ неоднократно были предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Суть жалоб состояла в том, что правоприменителями не соблюден установленный законом срок, т. к. с момента фактического задержания прошло более 48 часов.
Вместе с тем Конституционный суд Российской Федерации не усмотрел нарушений прав и законных интересов заявителей, более того указал, что содержащаяся в ст. 92 УПК РФ обязанность по указанию в протоколе времени задержания, исключает бесконтрольное вне установленных сроков содержание задержанного правоприменительным органом 1 .
Вместе с тем в правоприменительной практике можно найти примеры иного исчисления срока задержания подозреваемого.
Так, например, в апелляционной жалобе адвокаты Ш. и Е. считают постановление суда не соответствующим ч. 4 ст. 7 УПК РФ, поскольку утверждают о незаконности задержания Т., неверном указании в протоколе времени задержания их подзащитного, который был фактически лишён свободы передвижения ранее, нежели указано в протоколе задержания, который составлен с нарушением срока, предусмотренного ч. 1 ст. 92 УПК РФ. Также указывают на то, что отсутствие замечаний в протоколе задержания не свидетельствует об их фактическом отсутствии в связи с тем, что Т. был задержан без участия адвоката, является юридически неграмотным. Вопреки указанию в протоколе задержания, очевидцы не указывали на Т. как на лицо, причастное к убийству Я. Кроме того, внимание акцентируется и на том, что материал с ходатайством следователя об избрании Т. меры пресечения поступил в К.... районный суд г. Иркутска с нарушением срока, установленного ч. 2 ст. 94 УПК РФ2 .
Момент от фактического задержания до доставления к следователю, по своей сути, можно назвать полицейским (административным). Такое задержание является факти- ческим ограничением свободы. Соответственно, из тех 48 часов, предоставленных следователю для производства необходимых процессуальных действий с задержанным недостаточно, поскольку данный срок исчерпывается так называемым административным задержанием.
Как верно отмечает В. В. Кальницкий,о том, что может возникнуть ситуация, когда основания задержания «налицо», а временного ресурса нет, значит применить задержание нельзя, и такую ситуацию, безусловно, невозможно считать нормальной [18, с. 82].
Не всегда временного отрезка в 48 часов хватает для производства с задержанным необходимых процессуальных действий.
Автором настоящей статьи проводилось анкетирование следователей следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. На вопрос «Как вы полагаете, 48 часов — это достаточный срок для выполнения всех необходимых следственных действий?» респонденты также разделились на две группы: 35 % считают, что 48 часов — недостаточный срок для выполнения всех необходимых следственных действий, а 65 % уверены в том, что этого времени недостаточно.
Результаты данного опроса наглядно демонстрируют необходимость изменения уголовно-процессуального закона в области регулирования отношений, складывающихся при задержании подозреваемых в совершении преступления. Действующие работники следственных органов ежедневно на практике сталкиваются с проблемами в ходе производства задержания, именно поэтому на вопросы, приведенные нами, не было однозначных ответов.
Следует согласиться с точкой зрения В.В. Кальницкого, который утверждает, что норма об исчислении срока задержания с момента фактического ограничения свободы не охватывается правосознанием большинства правоприменителей, осуществляющих уголовное преследование. Также автор вполне оправданно указывает на то, что существует противоречие в вышеуказанной норме в том, что фактическое лишение свободы или передвижения (оно происходит на улице, осуществляют его полицейские или граждане) не может производиться в порядке, предусмотренном УПК РФ, либо под фактическим лишением свободы надо понимать не первичный захват на месте, а решение о задержании или иные меры, принимаемые следователем [18, с. 82].
Тем самым вполне обоснованным, логичным и правильным представляется исчисление срока задержания осуществлять с момента попадания подозреваемого в поле зрения лица, производящего расследование по уголовному делу, т. е. с момента доставления, поскольку, ограничение свободы (административное задержание), по своей сути, это не комплекс уголовно-процессуальных мероприятий, которые необходимо выполнить с задержанным лицом следователю или дознавателю. А в случае если лицо задержано незаконно, то и уголовно-процессуальные действия (например, допрос подозреваемого), проведенные в отношении задержанного, будут являться также незаконными и тем самым не могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу.
В заключение отметим следующее. В силу УПК РФ по результатам задержания оформляется протокол задержания, который должен быть составлен в срок не позднее трех часов с момента доставления. Здесь возникает еще один вполне логичный вопрос: почему по результатам применения меры процессуального принуждения — задержа- ния — составляется протокол, когда как по другим такой документ не составляется? По данному вопросу весьма интересную дискуссию поддерживает в научной литературе С. Б. Россинский, который считает, что как минимум необходимо изменить название документа «протокол» на название «постановление» [19, с. 152].
Протокол задержания, в отличие от протоколов, которые составляются по результатам производства следственных действий, имеет ряд особенностей. Любой протокол должен содержать сведения, которые наиболее полно отражают место, время и основания совершения данного процессуального действия. Как вполне справедливо отмечает А. А. Тарасов, большая часть современных протоколов не отвечает этим требованиям, а протокол задержания не содержит упоминания лиц, которые указали на задержанного как на совершившего преступление [20, с. 7]. К числу лиц, которые участвуют в задержании, потерпевший, очевидцы и свидетели совершения преступления не относятся, значит, в протоколе не отражаются, таким образом, значимость протокола задержания почти полностью определяется фиксированием времени доставления и указания на лиц, которые осуществили задержание. Согласно требованиям ч. 2 ст. 92 УПК РФ, в протоколе наряду с датой и временем составления протокола должны быть указаны мотивы задержания, которые законодателем не определены, что порождает вопросы в правоприменении.
На основании вышеизложенного считаем необходимым отметить, что задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения не в достаточной степени урегулирована законодательно, что порождает проблемы её применения. Нормы, регулирующие уголовно-процессуальное задержание, требуют своей корректировки, поскольку использование такой меры принуждения влечет ограничение конституционных прав и свобод личности, что не способствует достижению назначения уголовного судопроизводства.
Список литературы К вопросу о задержании в уголовном судопроизводстве России
- Гаврилов Б. Я. Досудебное производство в уголовном процессе / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В.Османова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 224 с.
- Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. — М.: ЮрИнфор, 1999. — 542 с.
- Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. — Воронеж: Воронежский госуниверситет, 1975. — 175 с.
- Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. — М.: Статут, 2016. — 1280 с.
- Жогин Н. В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. — М.: Юрид. лит., 1965. — 367 с.
- Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. — Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1975. — 184 с.
- Кругликов А. П. Неотложные следственные действия // Уголовное право. — 2004. — № 3. — С. 93—94.
- Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. — М.: Юрид. лит., 1970. — 224 с.
- Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. — М.: ВШ МВД СССР, 1969. — 178 с.
- Россинский С. Б. К вопросу о сущности и правовой природе задержания, подозреваемого в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. — 2017. — № 1 (74). — С. 173—182.
- Шейфер С. А. Проблемы развития системы следственных действий в УПК РФ // Уголовное право. — 2002. — № 3. — С. 90—92.
- Россинский С. Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход. — М.: Проспект, 2019. — 192 с.
- Россинский С. Б. Еще раз о понятии и сущности следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия не закончена... // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2021. — № 1. — С. 74—83.
- Смирнов А. В. Уголовный процесс. — СПб.: Питер, 2005. — 702 с.
- Кузнецов С. А. Толковый словарь [Электронный ресурс]. — URL: https://gufo.me/dict/kuznetsov/ (дата обращения 12.01.2022).
- Стельмах В. Ю. Правовая сущность физического, фактического и уголовно-процессуального задержания // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2005. — № 1 (102). — С. 207—212.
- Гриненко А. В. Самозащита в досудебном уголовном процессе // Адвокатская практика. — 2017. — № 6. — С. 27—31.
- Кальницкий В. В. Задержание подозреваемого следователем (дознавателем) // Законодательство и практика. — 2014. — № 2 (33). — С. 77—83.
- Россинский С. Б. Протокол — лишнее звено в механизме задержания лица по подозрению в совершении преступления // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 12 (97). — С. 150—165.
- Тарасов А. А. О доказательственном значении протокола задержания // Юридический вестник Самарского университета. — 2019. — Т. 5. — № 1. — С. 13—19.