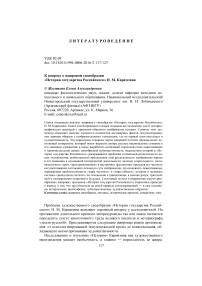К вопросу о жанровом своеобразии «Истории государства российского» Н. М. Карамзина
Автор: Жесткова Елена Александровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу жанрового своеобразия «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Книга синтезированного жанра основана на соединении чисто историографических традиций с приемами образного изображения истории. Слияние этих элементов объясняет наличие огромного количества достоверных фактов, документированных прямым образом с изобразительными элементами, где на первый план выступает и художественность. Это определило основные черты жанровой поэтики произведения: летописный синкретизм, который помог выразить автору русское национальное сознание в его динамике и развитии, а также выработать особенный эпический стиль повествования о героизме русской нации; своеобразная публицистичность, посредством которой в «Истории государства Российского» раскрываются проблемы социальной разделенности нации, человечества, необходимость преодоления этой разделенности; изображение народа в его движении к осознанной исторической деятельности; наличие «переходного», индивидуального героя, «пространственное» и внутреннее преодоление пределов его частного сосуществования составляют основную суть изображения; двуплановость повествования, отражающая проблематичность «мира частного» и «мира общего», истории и человека; система «движущихся антитез» по отношению к цивилизации, а именно разум, трагедийный и одновременно открытый в будущее. Системный подход к выражению структурнообразных жанровых признаков «Истории государства Российского» Карамзина приводит к выводу о том, что труд писателя по своей природе синтезированный - в нем соединены исторические, философские, публицистические, художественные открытия.
Жанровое своеобразие, летопись, историческое прошлое, синкретизм, эпос
Короткий адрес: https://sciup.org/148183337
IDR: 148183337 | УДК: 82.09 | DOI: 10.18101/1994-0866-2016-2-117-123
Текст научной статьи К вопросу о жанровом своеобразии «Истории государства российского» Н. М. Карамзина
Проблема художественного своеобразия «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина вызывает огромный интерес у исследователей. На протяжении длительного времени литературоведы так или иначе пытаются определить статус многотомного труда великого писателя и историографа «земли русской». Прослеживаются следующие жанровые рамки произведения: от психологизированной документальной прозы до повествования, обладающего всеми признаками художественности.
Исследованию и изучению «Истории» Карамзина как художественного произведения мешает необычность, а главное ― переходность ее жанра.
В пору, когда была поставлена задача познания своего отечества, преодоления механического просветительского взгляда на историю, не ясен был литературный жанр, который должен был осваивать новый материал. Обращение к истории выдвигало требование точности, абсолютной верности материалу, фактам. Карамзин всегда подчеркивал: «История ― не роман». Первым и единственным импульсом оказалось стремление приспособить старые жанры для нового содержания.
Художественный «пафос» в «Истории государства Российского» основан на широком использовании Карамзиным документалистики, а документалистика, по справедливому предположению ряда современных исследователей, заключает, «таит» в себе предпосылки художественности [7].
Особенностью жанра «Истории государства Российского» Карамзина является летописный синкретизм [6]. Этот жанр во многом оригинален. Он помогал писателю выразить динамику и развитие русского национального сознания, выработать особый эпический стиль повествования о героической нации, чьи сыны вышли из домашней неизвестности на театр народной жизни. Авторская позиция включает при этом два начала ― логикоаналитическое и художественное, помогавших сохранить объективную позицию по отношению к излагаемому материалу и ввести в повествование развернутые психологические характеристики, размышления о тирании, добродетелях народа и т. п., а также острые эпизоды истории, составляющие основу для напряженного сюжетосложения.
В создании жанра Карамзин опирается на национальную традицию, и решающую роль здесь сыграла летопись [3]. О следовании летописным источникам говорит сам Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского», желая «представить и характер времени, и характер летописцев».
«История», подхватившая и продолжившая летописную традицию, синтезировала весь опыт древнерусской литературы, заключающий в себе картины древнего быта, памятники народной поэзии, старой письменности. Действительно, в свое произведение Карамзин включил поэтические рассказы о кончине Олега, о Гориславе-Рогнеде, Борисе и Глебе, ослеплении Василька, поучение Мономаха, рассказы о походе князя Игоря, о Евпраксии, взятии Рязани, Евпатии Коловратии и т. п. Все эти истории поданы не в виде сухого пересказа первоисточника, а поэтично, с соответствующим настроением, интонацией, с мастерски сделанными извлечениями [3].
Карамзин художественно переосмысливает летописное происшествие, связанное с душевной болью Гориславы, простившей супругу убийство отца и братьев. Автор описывает «трогательный случай … в продолжении Несторовой летописи»: «Напомнив жестокому смерть ближних своих и проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он (супруг. ― Е. Ж. ) уже давно не любит ни ее, ни бедного младенца Изяслава…» [4, с. 185]. Героиня замышляет убить мужа, однако ей не удается совершить затеянное. «Гневный супруг» решил «собственною рукою казнить преступницу; велел ей украситься брачною одеждою и, сидя на богатом ложе в светлой храмине, ждать смерти» [4, с. 185]. Под пером мастера вырисовывается романтический образ любящей женщины, оскорбленной многочисленными изменами мужа.
Карамзин наполняет свое повествование целым рядом изобразительновыразительных средств (эпитетами, сравнениями), а также демонстрирует свое мастерство в выборе нужных слов, ибо «искал души и жизни в тлеющих хартиях». К сожалению, этого нельзя в полной мере сказать об источнике произведения ― Лаврентьевской летописи, где летописец последовательно передает события. Его повествование менее эмоционально и поэтично, оно носит в большей степени констатирующий характер: «Однажды же, когда он (Владимир. ― Е. Ж. ) пришел к ней (Рогнеде. ― Е. Ж. ) и уснул, она хотела зарезать его ножом; и случилось ему пробудиться, и схватил ее за руку… и повелел ей нарядиться во все убранство цесарское…» [4, с. 186].
Отношение Карамзина к летописным источникам не везде одинаково, ибо перед нами довольно сложный, противоречивый процесс взаимодействия позиции историка и позиции летописца-художника, который обусловливает пересечение различных по своей природе планов повествования: историко-аналитического и образно-эмоционального [3].
В первых томах «Истории государства Российского» Карамзин стремится к строгому распределению этих повествовательных планов: летописнохудожественного (допускающего известную «поэтизацию», свободное введение легенды, сказки, предания) и собственно исторического (объясняющего, комментирующего) изложения. Приводя то или иное предание, часто языком предания рассказывая о самом событии, Карамзин не забывает при этом сделать своего авторского примечания: почему он взял это предание, что с исторической точки зрения кажется ему любопытным, поучительным. Заметим, что историограф понимает ценность «басен древности», сознает, что именно эти «басни» хранят «живые черты времени», воспроизводят тот «дух эпохи», который запечатлелся в бесхитростном и простодушном рассказе летописца. Однако Карамзин пытается по-своему рассказать о том или ином событии, поэтому не стремится подменять свое отношение к прошлому отношением летописца. Карамзин-художник говорит по этому поводу следующее: «Таким образом, скончал жизнь Александр (Святослав. ― Е. Ж. ), который столь мужественно боролся и с врагами, и с бедствиями... и снося терпеливо свирепость непогод, … показал русским воинам, чем могут они во все времена одолевать неприятелей... Но Святослав, образец великих полководцев, не есть пример государя великого: ибо он славу побед уважал более государственного блага, и характером своим пленяя воображение стихотворца, заслуживает укоризну историка» [4, с. 201].
В ходе такого двупланового повествования постепенно возникает противоречие, состоящее в несоответствии нравственной оценки одного и того же события или характера с позиции летописца и с позиции историка. Именно потому то, что представляет собой благо с точки зрения государственного идеала, в летописном освещении оказывается злом, так как летописец не просто констатирует факт, он по-своему раскрывает его этический смысл [2]. Отсюда - особое двойное освещение каждого события и каждого характера, и, несмотря на то, что внешне структура повествования не меняется, к VII тому исторический комментарий Карамзина все более утрачивает свою независимость, как бы подпадая под влияние неумолимой логики летописного факта.
В первых томах предательство, жестокость, вероломство князей не осуждаются историком нравственно. Достаточно вспомнить оправдательные слова Карамзина в адрес Владимира Мономаха: «Пороки не человека, но века» [4, с. 127]. Соперники, претендующие на великокняжеский престол, безжалостно убивают друг друга, не гнушаясь при этом никакими средствами, ― к этому летописец-художник и историк относятся по-разному: историк констатирует, а летописец-художник сожалеет, скорбит. Несмотря на это, от тома к тому происходят незаметная контаминация, большее стирание грани между точкой зрения бесстрастного созерцателя событий и летописца-художника.
В этом плане интересен VI том «Истории». В нем отчетливо проясняется тяготение Карамзина к иному, по сравнению с предыдущими томами, методу повествования. Рассказывая о великом князе Иоанне Васильевиче, Карамзин сомневается в том, какую точку зрения относительно данной государственной личности принять: действительно ли Иоанн III ― государь, «разгадавший тайну самодержавия», или он ― олицетворение жестокости, насилия, непомерного тщеславия. Постепенно приходим к выводу, что в VI томе возобладала «государственная» точка зрения, и под пером Карамзина возник облик «колосса российского».
Совершенно иное положение в следующем VII томе. Основное внимание писателя сосредоточено на событии исключительной государственной важности — покорении Пскова. Это бескровное покорение описано с драматизмом. «На улицах, в домах раздавалось стенание: все обнимали друг друга как в последний час жизни». Это позиция псковского летописца, его отношение к происходящему: «И бъ тогда во Псковъ плачь и стонаше во всъхъ домъхъ, другъ друга обнимающе» [5, с. 16].
Карамзин понимает, что летописец рассуждает далеко не в пользу самодержца, однако рассказ историка подкупает нравственной свободой, глубокой эмоциональностью и внутренним бесстрашием. Псков ― символ воли и мужества пращуров ― покорился, как покоряются, по мысли Карамзина, только истинно свободные люди. Именно поэтому историк предоставляет место летописцу, который «переживает» эти события, раскрывает в самом описании добро и зло, изначальную природу вещей.
Постепенно Карамзин все более подчиняет стиль изложения своим, в большей степени художническим, задачам, но в то же время не отказывается от летописного метода повествования: рассказчик описывает события так, как будто видел все собственными глазами. Поэтому-то и возникает эмоциональная точность, которая придает повествованию убедительную достоверность, хотя это уже художественный прием, создающий иллюзию достоверности. Не случайно в центре повествования о «смутном времени» стоит событие, документально не подтвержденное, - убийство царевича Димитрия. Заметим, что именно им соединены все другие события и обстоятельства «смутного времени», определена психологическая доминанта характера Годунова [3].
Как и летописец, Карамзин-художник ориентирован на изображение подлинных фактов истории, даже легендарных событий, о которых повест- вовали изустные сказания, они воспринимались древнерусскими авторами как «быль». Историограф же, напротив, тщательно отделяет «легендарное» от «документального», всякий раз указывая на сведения, проистекающие из предания, а не из документа. В этом отношении автор «Истории» - аналитик, ученый.
Художественный смысл «Истории» заключается в том, что она призвана повествовать о подлинно национальных сторонах, тенденциях национального бытия, стремиться к осмыслению жизни всего национального общества в аспекте его становления, а отсюда и к изображению героев, воплощающих в силу своего положения общественную судьбу, в широком смысле слова - национальную. Таково ее жанровое содержание, которое объективно требует для своего воплощения монументальной формы. Основными чертами жанра карамзинского произведения являются также:
-
а) своеобразная публицистичность, посредством которой в «Истории» раскрываются проблемы социальной разделенности нации, человечества, необходимость преодоления этой разделенности, изображение народа в его движении к осознанной исторической деятельности;
-
б) наличие «переходного», индивидуального героя, «пространственное» и внутреннее преодоление пределов своего частного сосуществования; составляет основную суть изобретения;
-
в) двуплановость повествования, отражающая проблематичность «мира частного» и «мира общего», истории и человека;
-
г) система «движущихся» антитез по отношению к цивилизации, а именно «разум», трагедийный и одновременно открытый в будущее. Именно поэтому героем «Истории» Карамзина становится нация в состоянии осознания и преодоления социального раскола.
Карамзин создает книгу синтезированного жанра, которая основана на соединении чисто историографических традиций с приемами образного изображения истории. Слияние этих элементов объясняет наличие огромного количества достоверных фактов, документированных Карамзиным прямым образом с изобразительными элементами, где на первый план выступает и художественность. Соотношение достоверного и художественного в «Истории государства Российского» Карамзина распределено неравномерно. Там, где писатель изображает явление событийного характера, очень часто поэтическая стилистика преобладает над чисто документальным изображением. Поэтическая стилистика сказывается у Карамзина и там, где он переходит к рассуждениям о законах нравственности, которые довлеют над человеком или должны были определять логику развития его отношений. Эта стилистика еще угадывается в тех местах, где автор выражает или сожаление, или радость по поводу исхода решения тех или иных конфликтных ситуаций истории.
В своем труде Карамзин выступает и как историк, и как художник, и как моралист, глубоко укорененный в православном веровании, всегда помнящий, думающий о Провидении, которое в конечном итоге столь часто упоминается в книге и становится как бы самостоятельным художественным образом. Все эти компоненты повествования, изложения истории как раз и составляют отличительную черту литературной манеры Карамзина как историка, но историка, совершенно органически слитого с художником.
Список литературы К вопросу о жанровом своеобразии «Истории государства российского» Н. М. Карамзина
- Жесткова Е. А. Н. М. Карамзин в художественном сознании М. Ю. Лермонтова//Вестник Бурятского государственного университета. Филология. -2015. -Вып. 10(1). -С.135-138.
- Жесткова Е. А. Эпоха Иоанна Грозного в изображении Н. М. Карамзина и А. К. Толстого//Мир науки, культуры, образования. -2011. -№ 6 . -С. 290-292.
- Жесткова Е. А. Художественный компонент в повествовательной структуре «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: дис.. канд. филол. наук. -Пенза, 2006.
- Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. -Т. 9. -М.: Рипол классик, 2001.
- Летопись по Лаврентьевскому списку. -СПб., 1897.
- Лузянина Л.Н. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и трагедия Пушкина «Борис Годунов» (к проблеме характера летописца)//Русская литература. -1971. -№ 1. -С. 30-42.
- Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX в.//Русская литература. -1967. -№ 1. -С. 14-36.