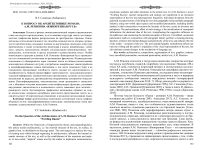К вопросу об архитектонике романа А.М. Ремизова "Взвихренная Русь"
Автор: Садченко Валентина Тарасовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье в рамках лингвосемиотической теории и прагмалингвистики исследуется архитектоника, то есть внешняя структура текста, его поверхностная, графическая форма, распределение на пространстве страницы. Основной целью статьи является анализ тех способов создания текста, которые, организуя его архитектонику, оказывают влияние на внутреннюю смысловую структуру произведения, а также установление репертуара и анализ невербальных, «неявных», средств, используемых автором для реализации коммуникативных, эмоциональных, эстетических и других интенций в художественном тексте. Особая композиция и стратегия в романе А.М. Ремизова «Взвихренная Русь» проявляется в его повышенной сегментации на разнородные фрагменты. Индивидуальные отклонения от общепринятых норм членения текста на абзацы (использование многократного абзацного отступа), употребление невербальных знаков (пробелов и некодифицированных знаков препинания, в том числе сдвоенного тире) в их соединениях преодолевают линейность текста, создают его многоплановость и полифоничность. Перлокутивный эффект такой стратегии - актуализация концептуальной информации, доминантной идеи произведения, усиление суггестивного воздействия на адресата, противодействие инерционному восприятию повествования. Некодифицированные, окказиональные знаки препинания в совокупности с абзацным отступом выполняют смыслообразующую функцию, усиливают внутреннюю диалогичность и полемичность текста, повышают роль читателя - реципиента текста. Нестандартное графическое воплощение отражает не только писательское, авторское своеобразие зрительного представления текста, но и свидетельствует об определенных изменениях в механизме использования языка.
Архитектоника, композиция, сегментация текста, графика, абзацный отступ, некодифицированная пунктуация, окказиональные знаки препинания, художественный текст, а.м. ремизов
Короткий адрес: https://sciup.org/149127428
IDR: 149127428
Текст научной статьи К вопросу об архитектонике романа А.М. Ремизова "Взвихренная Русь"
A.M. Ремизов относится к тем русским писателям, творчество которых изучалось за рубежом, пожалуй, подробнее, чем на родине. Начиная с 80-х годов XX века, отмечается возросший интерес и отечественных исследователей к наследию А.М. Ремизова. Описывается специфика сказового изложения, стилистика Ремизова-сказочника, исследователями неоднократно отмечается, что «выбор жизнетворческой стратегии и место в иерархии культурного сообщества» писателя определены именно «литературной маской» сказочника [Данилова 2010, 7]. Обзор данных работ содержится в диссертациях В.Ю. Дорожкиной [Дорожкина 1996], О.С. Гальченко [Гальченко 2005], Е.Н. Гривенной [Гривенная 2005], а также в книге И. Даниловой «Литературная сказка А.М. Ремизова (1900-1920-е годы)» [Данилова 2010].
Поэтике текстов большого объема - романам А.М. Ремизова - также посвящен ряд работ [Стоянова 2003; Алексеева 2017]. А.Г. Соколов, отмечавший мозаичность, калейдоскопичность повествовательной манеры А.М. Ремизова, пишет о том, что особенностью художественного стиля писателя является «доведение реальности «до бредовой завесы» [Соколов 2000, 398]. Позволим себе перефразировать автора данных строк: в произведениях А.М. Ремизова, посвященных революционному и постреволюционному периодам, наблюдается не «доведение реальности до бредовой завесы», а сама реальность предстает как бредовая. Сама жизнь, ее формы после революции нормальному человеку кажутся бредом. Хаос бытовой повседневности порождает кажущийся хаос повествования. В частности, роман А.М. Ремизова «Взвихренная Русь» - это впечатления очевидца (роман имеет подзаголовок - «Автобиографическое повествование»; Н.П. Кознова определяет жанр данного произведения как дневник [Кознова 2011]), стремящегося зафиксировать происходящее, с тем, чтобы в последующем разобраться в нем, определить возможность своего в нем

существования, «сохранить свою свободу самому быть на земле самим» [Ремизов 1990, 67].
У А.М. Ремизова это так именно и написано: в 4 абзаца, с выносом каждой синтагмы в новую строку и размещением посередине строки. На «зрелищность» как литературную маску Ремизова-автора указывал А.Д. Синявский [Синявский 2003]; эта же зрелищность характерна и для внешней, пространственно-графической, поверхностной архитектоники прозаических произведений писателя.
Исследователи уже обращали внимание на композиционные особенности романа А.М. Ремизова «Взвихренная Русь», отмечая «монтажноколлажный принцип» и приём «склеивания разнородного материала» [Стоянова 2003], в результате использования которых создается «жанровая чересполосица» [Лавров 2003], формируются два типа повествования: линейное, отражающее хронологическую последовательность описываемых событий, и вертикальное, отражающее авторские рефлексии по поводу данных событий; реальность подлинную и мнимую, составляющую содержание снов. Н.Н. Кознова пишет о том, что в романе А.М. Ремизова тесно переплетены воспоминания и сны, быль и вымысел [Кознова 2011, 25]. А.В. Лавров, используя «библиотечный» термин, определяет жанр романа «Взвихренная Русь» как «роман-конволют», в котором под одной обложкой объединены несколько произведений, «соотносимых друг с другом по определенным формальным и содержательным параметрам» [Лавров 2003, 557].
Несмотря на достаточно подробное изучение композиции романа, за рамками исследований оказались особенности архитектоники данного произведения, хотя термин применительно к анализу текстов писателя неоднократно использовался.
В определении понятия «архитектоника текста» мы опираемся на идеи В.В. Виноградова, который выделял два типа структурирования художественного произведения: к первому типу относилась первично-содержательная внутренняя структура произведения, называемая автором композицией; ко второму типу - первично-формальная, внешняя структура текста, названная термином «архитектоника». Архитектоника проявляется в принципах разделения произведения на части от тома до абзаца [Виноградов 1971]. Сформулированная В.В. Виноградовым дефиниция является не единственной трактовкой термина. Дискуссионность содержательного наполнения термина и особенности его применения в современном литературоведении описана в статье Е.С. Бердник [Бердник 2014]. Особого внимания заслуживает концепция теории архитектоники М.М. Бахтина [Бахтин 1975], который, дифференцируя понятия «архитектоника» и «композиция», термином «архитектоника» называл структуру эстетического объекта («содержания эстетической деятельности (созерцания), направленной на произведение»), к композиции же относил структуру «внеш-

него произведения» («организованного материала» [Бахтин 1975, 17-19]). Таким образом, В.В. Виноградов и М.М. Бахтин используют данные термины в противоположных значениях.
М.Я. Дымарский считает, что задача выявления и описания смысловой структуры текста «может быть решена на путях абстрагирования, отвлечения от непосредственной «поверхности» текста» [Дымарский 2001, 95], причем под абстрагированием он понимает учет особенностей данной поверхности, те. архитектоники текста.
Считаем также необходимым дифференцировать понятия «композиция» и «архитектоника» текста и термином «архитектоника» будем называть поверхностную, графическую форму текста, его внешнюю структуру, распределение на пространстве страницы, которое в художественном произведении всегда содержательно.
Архитектонически роман «Взвихренная Русь» состоит из разнородных дискретных частей: озаглавленных больших глав («БАБУШКА», «ВЕС-НА-КРАСНА», «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» и т.д.), входящих в них главок с заголовками типа «Искры» или пронумерованных: I VII, а также множества фрагментов, отделенных друг от друга различными графическими средствами: звездочками, пробелами, многократным абзацным отступом, в результате чего фрагменты текста оказываются сдвинутыми от левого поля, разреженными на ложные абзацы, короткие строки, разделы и миниглавки, состоящие из нескольких, а порой из двух-трех строк типа: «На состоявшемся митинге было решено: убить трех служащих, а остальных избить хорошенько и прогнать сквозь строй» [Ремизов 1990, 165].
Так, отступления - размышления о России, родине, русском народе -сдвинуты от левого поля на несколько отступов:
«Я думаю не потому только, что Короленко «знаменитый» русский писатель, так всех тянуло хоть пройтись по одной с ним дорожке; конечно, и такие были, но именно вот это - это отличие: его встреча и его проводы «человека», с которым сталкивала судьба - человек есть человек и при всяких «соображениях», и при всяких стихийных явлениях, и при каждой точке зрения остается человеком, который может не только есть и пить, но которому больно и мучается» [Ремизов 1990, 163].
Контраст длин абзацев, их структуры, отражает контраст соотношений «порций смысла», в результате чего наблюдается актуализация содержания архитектонически выделенного фрагмента текста, выражающего авторскую концептуальную позицию (см. также с. 154-161). Так автор управляет читательским восприятием текста, регулирует, предопределяет понимание смысловой массы произведения.
Точка как знак конца предложения часто снимается, чем создается ощущение незаконченности фразы, текста, мысли. В качестве такого знака конца фразы часто используется тире: «Много приносили венков и так
цветы -» [Ремизов 1990, 80]; «Совесть болит-» [Ремизов 1990, 92].
Тире в романе самый частотный знак, применяемый в конструкциях различного типа. В частности, тире в сочетании с абзацным отступом символизирует эллипсис и маркирует чужую речь:
«В тесный узкоколейный вагон неосвещенный, тыча фонарем в лицо, солдаты - проверка документов!» [Ремизов 1990, 142].
«И как это несоединимо - человек всю свою жизнь о радости жизни - о семени жизни - о жизни -» [Ремизов 1990, 95].
Пропуск глагольных лексем, в том числе вводящих чужую речь, способствующих созданию конструкций с анаколуфами, замена вербальных элементов знаками препинания, маркирующими данные пропуски и анаколуфы, создают особую динамику и синтагматическое напряжение, возникающее в речевом ряду в процессе его развертывания, создают перлоку-тивный эффект, поддерживают напряженно-приподнятый эмоциональный фон текста, способствуют суггестивному воздействию текста на адресата - его читателя.
Описание снов выделено следующими графическими приемами: отделяется от предшествующего повествования «звездочками», всегда сдвинуто от левого поля на несколько отступов, вводится со строчной буквы после знака «тире» или (чаще) сдвоенного тире:
«И приснилось мне:
-
- надел я, как маску, картину Гончаровой <.. .>» [Ремизов 1990, 57].
-
«— вижу образ Божьей Матери - венчик на образе из чистого снега <...>» [Ремизов 1990, 75].
«— сидит на камушке Андрей Белый <...>» [Ремизов 1990, 103].
Спектр значений сдвоенного тире до сих пор полностью не описан, не регламентирован, так как это окказиональный знак, его постановка может вызывать только различные предположения о возможных авторских значениях. В частности, сдвоенное тире используется А.М. Ремизовым в конструкциях с композиционным обрывом, обозначая именно данный обрыв - недоговоренность, требующую включения воображения читателя, домысливания оборванного текста: «Я заглянул в окно (живем мы как раз под чердаком), а уж солдаты ружья подняли —» [Ремизов 1990, 59].
Использование сдвоенного тире может коррелировать в тексте с другими средствами, как правило, с выносом в новый абзац и размещением фрагмента текста посередине строки, а также с шрифтовыми выделениями (разрядкой и курсивом) части высказывания:
«И это вовсе не уродство, а верное мое чутье к жизни: как помню себя, я всегда что-то выделывал над собой, обрекая себя на добровольное заточение — с правом выхода когдахочу» [Ремизов 1990, 99].
Сдвоенное тире может замещать часть вербального текста:
«Демонстрация шла по Невскому —
Вся власть Советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!» [Ремизов 1990, 87].
В данном фрагменте сдвоенное тире можно рассматривать в качестве маркера речевой компрессии текста. Ср. трансформ: Демонстрация шла по Невскому и несла (кричала) лозунги (далее по тексту выделенное курсивом самим автором). Создается сжатый текст, сохраняющий всю, в том числе и невербализованную информацию, когда компоненты высказывания, содержащие, по Л. Щербе, «упаковочную информацию», опущены; их замещает окказиональный пунктуационный знак.
Такой же эллипсис части возможного (а порой и необходимого) вербального содержания наблюдаем во множестве примеров, в частности: «Не дай Бог! и здоровому-то “без дела” трудно, а захвораешь — в этом вихре-то беспощадном, ведь, все как ослепли» [Ремизов 1990, 91].
В данном случае вербализованы только наборы ключевых слов, выражающие концептуальный смысл. Сдвоенное тире замещает часть ремы (нового), в результате чего читатель должен самостоятельно, в силу своего воображения, восполнить опущенное содержание, а именно предполагаемые последствия и их тяжесть в случае если «захвораешь». Часть предложения после сдвоенного тире указывает уже на причину возможных последствий. Таким образом, формируется конструкция с анаколуфом -семантический сдвиг, скачок в вербально представленной информации. Акцентируемыми оказываются слова «беспощадном» и «ослепли», подчеркивающие каузальность возможного несчастья. В результате формируемый конструкцией с данным знаком подтекст углубляет смысл описываемой ситуации и произведения в целом.
Для А.М. Ремизова характерным является использование неавторизованной речи, когда часть реплик (или все) не репрезентированы:
«Пошатываясь, шел навстречу здоровенный солдат.
Какое дело! - остановился он, - стрелять придется.
В кого?
В кого прикажут
Да разве можно в своих стрелять?
Верно, нельзя! - и, шатаясь, пошел бормоча» [Ремизов 1990, 61].
Фрагмент текста выстроен как диалог, часть необходимых знаков для оформления чужой речи снята, диалогичность подчеркнута только абзацным отступом, в результате чего текст можно представить как неопределенную речь - внутреннюю или внешнюю: как внутренний монолог, как разговор с самим собой, как разговор с неизвестными персонажами, как некую контаминированную речь.
Наиболее частотно неавторизованные реплики вводятся при помощи сдвоенного тире: «И голоса замыкаются - много голосов - в цепь.
— гибнет Россия, чувствую -
— а какая она будет, не знаю -
— и не на ком остановить глаза, люди пропали -
— кто пропал? И разве было что -
--республику еще никто не установил, а республиканские войска бегут -<...>» [Ремизов 1990, 143].
Вводящей является первая фраза, затем после пробела в строку наблюдается многоголосие, каждая реплика которого выделяется знаком «тире», причем вначале это сдвоенное тире, в конце реплики - тире одиночное. Отсутствие операторов ввода чужой речи, строчные буквы, снятие знаков конца фразы и замена их тире подчеркивают, с одной стороны, слитность множества голосов, с другой - бесконечность, множественность подобных разговоров. Нерегламентированным пунктуационным оформлением автор подчеркивает именно эту полифонию.
При помощи сдвоенного тире создается повышенная расчлененность текста: «И вдруг я понял, что все это — прошло - эта Россия—» [Ремизов 1990, 154].
Расчлененность, разреженность текста повышается при использовании пробела в строку:
«И не в большевиках тут — если бы не было большевиков, их надо было бы выдумать, так что ли? - чтобы прекратить, наконец, эту кровавую же лезную игру «до победного конца» [Ремизов 1990, 145].
Сдвоенное тире замещает опущенный вербальный компонент - слово «дело» в устойчивом обороте. Размещение части высказывания в коммуникативно акцентируемой позиции (после пробела в строку и посередине страницы) способствует повышению семантической значимости фрагмента текста.
А.М. Ремизов использует целые ряды из знака «тире»:
«Свиная толпа с пятаками, самодовольная, широко плыла навстречу -
-
- Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая, хоть что-нибудь в моей жизни и в моей воле <...>» [Ремизов 1990, 205].
Разрядка текста с помощью тире дробит повествование, «встряхивает фразу», предоставляя читателю большую паузу, во время которой он должен зрительно представить описываемую сцену; постановка тире как знака оппозиции в оказавшемся пустым пространстве страницы символизирует противопоставление личности и толпы, духовной нищеты и мира души художника, сердце которого разрывается «от тоски и скорби», обугливающих «всякий блеск и свет» [Ремизов 1990, 205].
Таким образом, за счет элиминации вербальных средств, замены их пунктуационными знаками, пробелами, многократными абзацными отступами, которые внешне «растягивают» текст, создается, казалось бы, обратное явление - смысловая плотность текста, актуализация концептуально важной информации.
Одновременно с графическими приемами нетрадиционного расположения текста на пространстве страницы могут использоваться синтаксический параллелизм и лексический повтор:
«С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали -
-
- чтобы передать Родзянке.
Появились из деревень ходоки: посмотреть на нового царя -
-
- Родзянку.
Родзянко - был у всех на устах.
С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали -
-
- чтобы передать Родзянке.
Появились из деревень ходоки: посмотреть на нового царя -
-
- Керенского.
Керенский - был у всех на устах» [Ремизов 1990, 66].
В данном фрагменте наблюдается амплификация целых конструкций (предложений и синтагм). Рекуррентность (повторяемость) выполняет суггестивную функцию: с помощью данного приема (повтора) автор концентрирует внимание читателя на концептуально значимом смысле: нагнетании, повторении хаоса.
Нарушение модели пространственной архитектоники текста может наблюдаться при структурировании вертикально (по типу списка) однородных членов предложения:
«Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь меч-

тать, все сулилось и обещалось наверняка - «пряники» земля, повышение платы, уменьшение работы, полное во всем довольство, благополучие, рай» [Ремизов 1990, 67].
Делимитация (членение) текста по классификационному принципу, как в текстах научного или официально-делового стилей, нарушает стандарт, т.е. определенную модель пространственной архитектоники художественного прозаического текста. В связи с этим уместно привести слова Л. Те-ньера: «По существу, любая книга представляет собой не что иное, как одну длинную строку, лишь нарезанную на мелкие порции ради удобства размещения на странице» [Теньер 1988, 29]. Однако нарушение правил линейного расположения текста на пространстве страницы преследует, как представляется, не только «удобство» для чтения. Вертикальная делимитация текста способствует смещению внимания читателя именно на составляющие ряда, позволяет «рассмотреть» их более подробно, оценить с нравственной и психологической точек зрения. Показатели метаочередности не используются, в то же время отношения между структурированными элементами градационные: используется повышающая амплификация, заканчивается ряд единицей, номинирующей предел человеческих желаний - «рай». Такое структурирование компонентов линейного ряда однородных членов предложения демонстрирует стремление автора усилить, с одной стороны, значение компонентов, которые он считает концептуально важными, с другой стороны, выражает модальное значение: подчеркивает ироничность авторского отношения к описываемому, названному в горизонтальной части текста «пряниками». Таким образом, сегментация текста способствует актуализации фрагментов его семантической структуры и прагматической заданности.
Рациональность в иррациональном - такова архитектоника романа «Взвихренная Русь». Использованные А.М. Ремизовым «формы организованного беспорядка» [Эко 2004, 60] являются одним из способов референции текста к действительности. Группировка сегментированных фрагментов текста, их композиционное взаимодействие, использование сложных построений, вынос конструкций с амплификацией связаны с актуализацией «порций» смысла. Знак «сдвоенное тире» (—) раскрывает свойственный ему смысл в системе ассоциаций, связанных с ним в определенном контексте. Роман А.М. Ремизова «Взвихренная Русь» - образец прозы, направленной на перлокутивный результат: архитектонические приемы произведения являются средствами «сотрудничества» с читателем.

Список литературы К вопросу об архитектонике романа А.М. Ремизова "Взвихренная Русь"
- Алексеева Н.В. «Взвихренная Русь» А. Ремизова: игровое пространство и формы его воплощения // Уральский филологический вестник. 2017. № 4. С. 122138.
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 6-71.
- Бердник Е.С. Корреляция понятий «композиция» и «архитектоника» в литературоведении // Universum: Филология и искусствоведение: электронный научный журнал. 2014. № 2 (4). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/ item/1003 (дата обращения 30.09.2019).
- Виноградов В.В. Проблема образа автора в художественной литературе // Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 105-211.
- Гальченко О.С. Литературная сказка в раннем творчестве А.М. Ремизова: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Петрозаводск, 2005.
- Гривенная Е.Н. Стилизация разговорной речи в художественной прозе: культурно-исторический и лингвостилистический аспекты (на материале произведений А. Ремизова): дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. Краснодар, 2005.
- Данилова И. Литературная сказка А.М. Ремизова (1900-1920-е годы). Helsinki, 2010.
- Дорожкина В.Ю. Принципы сказового изложения в произведениях А.М. Ремизова: лингвостилистический аспект: дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. СПб., 1996.
- Дымарский М.Я. Фрагмент характеристики смысловой структуры текста // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2001. С. 95111.
- Кознова Н.Н. Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: концепции истории и типология форм повествования: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.01. М., 2011.
- Лавров А.В. «Взвихренная Русь» Алексея Ремизова: символистский роман-коллаж // А.М. Ремизов. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. М., 2000. С. 544557.
- Ремизов А.М. Взвихренная Русь // Ремизов А.М. В розовом блеске: Автобиографическое повествование. Роман. М., 1990. С. 31-398.
- Синявский А.Д. Литературная маска Алексея Ремизова // Синявский А.Д. Литературный процесс в России. М., 2003. С. 299-313.
- Соколов А.Г. «Сновидческий» метод письма как итог творческих исканий
- A.М. Ремизова // Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. М., 2000. С. 397-407.
- Стоянова Т.Н. Книга А.М. Ремизова «Взвихренная Русь»: формирование поэтики: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2003.
- Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / пер. с франц.; вступ. ст. и общ. ред. В.Г. Гака. М., 1988.
- Эко У Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал.