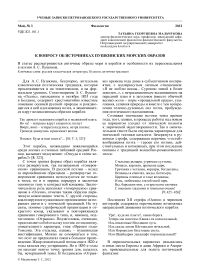К вопросу об источниках пушкинских морских образов
Автор: Мальчукова Татьяна Георгиевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются античные образы моря и корабля и особенности их переосмысления в поэзии А. С. Пушкина.
Русская классическая литература, пушкин, античная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14750133
IDR: 14750133 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи К вопросу об источниках пушкинских морских образов
Для А. С. Пушкина, бесспорно, актуальна классическая поэтическая традиция, которая прослеживается и на тематическом, и на формальном уровнях. Стихотворение А. С. Пушкина «Осень», написанное в октябре 1833 года в Болдине, содержит хрестоматийно известное описание осенней русской природы и рождающегося в ней вдохновения поэта, а заканчивается вдруг великолепным образом корабля:
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны; Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть? ... [10; Т. 3; 321]1
Этот корабль, неожиданно появляющийся среди лесных и степных пейзажей средней России, вызывает недоумение: «Откуда в степи корабль?» [8; 323].
С точки зрения формы образ корабля является развернутым, так называемым «гомеровским» сравнением. В русской поэзии – вслед за европейскими образцами – развернутые гомеровские сравнения используются не только в эпосе, но и в лирике, варьируя и заключая основную тему в контрастной концовке. Заключительную роль исполняет «гомеровское» сравнение в «Осени», отмечая таким образом лирическую композицию текста. С другой стороны, анализируемое пушкинское произведение не порывает связи и с эпической традицией. На эту связь, помимо строфической организации и открытого конца, указывают и повторяющиеся сравнения гомеровского типа, и, наконец, подзаголовок: «Отрывок». Подзаголовок, очевидно, представляет собой отсылку к поэме, по-видимому, описательного характера, типа «Времен года» Томсона. Эта отсылка, однако, – пушкинская мистификация. Можно не сомневаться в том, что поэт не предполагал писать большое произведение. Жанр описательной поэмы еще в 1820-е годы казался ему устаревшим. Но в 1830-е годы он находит новую точку зрения для, казалось бы, исчерпанной темы. В болдинском «Отрыв
ке» времена года даны в субъективном восприятии, с подчеркнутым личным отношением: «Я не люблю весны... Суровою зимой я более доволен...», с нетрадиционным выдвижением на передний план и в заголовок (вместо обычной весны) осени – поры «прощальной красы», усыпления, успения природы и вместе с тем воскресения телесно-духовных сил поэта, пробуждения поэтического вдохновения.
Сознавая эпические истоки темы времен года, поэт, однако, в процессе работы над новым ее вариантом уходил от эпической полноты к лирической недоговоренности. Так в окончательном тексте были опущены характерные для эпической техники каталоги. Зачеркнута в рукописи строфа, содержащая перечень «гостей» воображения поэта – героев его поэзии, действительных и возможных, при этом последние связаны с традицией волшебно-романического эпоса:
Стальные рыцари, угрюмые султаны, Монахи, карлики, арапские цари, Гречанки с четками, корсары, богдыханы, Испанцы в епанчах, жиды, богатыри, Царевны пленные и злые великаны, И вы, любимицы златой моей зари, Вы, барышни мои, с открытыми плечами С висками гладкими и томными очами!
[9; 425–426]2
Последняя XII строфа «Осени» в черновом автографе содержала перечисление возможных направлений движения поэтического корабля:
Ура!.. куда же плыть?.. какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный, Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?
В первоначальных вариантах назывались и иные места Европы и даже Африки и Америки, привлекательные для полета поэтической фантазии:
...Египет колоссальный
Иль тень Везувия и знойные луга –
Иль пред Элладою посетуем печальной – иль яркие снега
Скупой Лапландии ....
..... к песчаным ли брегам...
Где дремлют вечные за Нилом пирамиды...
Иль ... к девственным лесам Флориды...
Младой Америки ...
(III, 934–935)
В окончательном тексте последняя строфа была сокращена до полустишия:
Плывет. Куда ж нам плыть?..
Лирический обрыв, обозначенный точками пропуск, умолчание, скрывая, знаменуют огромные просторы, безбрежность океана поэзии.
В поэзии Пушкина сравнение с кораблем связано с классической традицией не только формально и композиционно, но и тематически. Образ корабля в поэзии эллинов, испокон веков живших у моря и морем, – рыбаков и мореплавателей, воинов, колонистов, торговцев, порой и пиратов – естественно занимает важнейшее место. В «Илиаде» Гомера, хотя события ее и происходят на троянской равнине, и отчасти на Олимпе, образ корабля – один из самых частотных. Перечень ахейских отрядов и их вождей во второй песне «Илиады» показательно называется «kαtαlogoς νε ῶ ν». В этом «списке кораблей»3 находим много повторяющихся, формульных выражений, характерных для устной эпической поэзии в самых различных этнокультурных традициях.
В гомеровском эпосе находим и развернутые на несколько стихов описания движения корабля по спокойному или бурному морю, его отправления и прибытия в гавань, действий моряков, ставящих или убирающих мачту, натягивающих паруса и т. п. Должно с уверенностью предполагать, что Пушкин при чтении перевода Гнедича не обошел своим вниманием этих изумительных живописных подробностей4 описаний движения корабля. В памяти русского поэта этот образ был прочно связан с гомеровской темой. Пушкин прочел гнедичевский перевод, по мнению биографов, в первую болдинскую осень 1830 года [2; 513].
В 1833 году Пушкин предпринимает попытку перевода «Одиссеи» с греческого оригинала. Работа остановилась в самом начале – на подстрочном переводе первых 6 стихов (XVII, 89–90). По-видимому, поэт, увидев сложность гомеровского языка, не чувствовал себя в силах предпринять огромный труд перевода без ущерба для собственного творчества. О традиции гомеровских сравнений в анализируемом нами отрывке из поэмы, написанном в том же 1833 году, уже говорилось. В дополнение к сказанному заметим, что образ поэтического корабля в заключительном сравнении в «Осени» конкретной «географией плавания» тематически перекликается с конкретными географическими обозначениями в картине полета поэтической фантазии, заключающей послание к Гнедичу. Это побуждает нас присмотреться к образу сравнения в «Осени» в поисках возможных гомеровско-гнедичевских ассоциаций. Можно думать, что они сыграли некоторую роль в переоформлении творческой эволюции образа, если судить по истории текста в черновом автографе. В первых набросках фигурирует «челн» как сравнение с поэтической мыслью:
Как челны носятся по бурной влаге
Так мысли носятся – то станут – то плывут (III, 932).
Поэт, однако, сразу оставляет это множество «челнов»-«мыслей», обращаясь к масштабному единству. Образ корабля в первоначальных вариантах имел больше технических подробностей: «паруса», «мачта», «вервия» и несколько архаизированный стиль: «ветрила», «вкруг мачт», «пловцы… вервиях», «пловцы по вервиям» (III, 933). И первое, и второе, возможно, имело опору в гнедичевском перевыражении гомеровских образцов, хотя в целом пушкинский корабль – это не античная большая лодка, а большой парусник нового времени – «громада» со сложной системой оснастки и парусов. Слово «матросы», появившееся у Пушкина на конечном этапе работы над текстом на месте прежнего архаическо-поэтического «пловцы», указывает даже на современный русский корабль: в русском языке это слово голландского происхождения сравнительно новое, засвидетельствованное с конца XVII века [12; 515], но в широкое употребление вошедшее позднее.
Образ русского корабля и русского флота находим в написанном незадолго до «Осени» (по положению в тетради датируется в промежутке от 6 до 20 октября 1833 года (III, 1245)) незавершенном наброске поэта:
Чу, пушки грянули! крылатых кораблей Покрылась облаком [станица боевая], Корабль вбежал в Неву – и вот среди зыбей Качаясь плавает, как [лебедь молодая].
[Ликует русский флот. Широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,]
Широкая волна плеснула в острова... (III, 310)
Заметим здесь введенные в картину плавания метафорические эпитеты со значением полета: «крылатых кораблей» (в первоначальном варианте – «крылатая станица», сравнение «качаясь плавает... как птица» (III, 900–901)) и счастливо найденный, вместо общеродовой «птицы», об- раз «лебеди», красивый, точный (лебедь – водоплавающая птица с длинной шеей, похожей на мачту, и белыми крыльями-парусами) и даже национально окрашенный: в отличие от лебедя-лебедей классической и романтической поэзии, «лебедь» (в женском роде) – образ, укорененный в русском фольклоре5 и уже опробованный поэтом в «Сказке о царе Салтане». Между этим образом корабля и кораблем в «Осени» можно предполагать преемственную связь в общем моменте внезапности движения, подчеркнутом автоцитатой: «Чу, пушки грянули» (III, 310) и «Но чу! – матросы вдруг кидаются...» (III, 321). Но в целом конкретно-исторические и географические приметы первого текста («пушка», «станица боевая», «Нева», «русский флот») резко отличаются от нейтрально-поэтического колорита образа корабля в «Осени». Подобное оформление образа плывущей «громады» вполне сознательно (так, поэт убирает возглас: «Ура!» и слово «флаг» (III, 933)), ибо имеет в тексте пушкинского «Отрывка из поэмы» свои литературные ассоциации, а именно интертекстуальные связи с образом поэтического корабля в поэме «Неистовый Роланд» (XLVI, 1–8). Но поскольку образ Ариосто тоже восходит к классической традиции, имеющей своим истоком гомеровские корабли, для исторического исследования темы приходится вернуться к античной литературе.
В ней в послегомеровское время вместе с образом корабля утверждаются многочисленные метафорические его значения. Корабль в бурном море становится символом гражданского общества, государства в гражданской распре, как у Алкея (fr. 30): « Ἀ συννέτημι τ ῶ ν ἀ νέμων στάσιν· τ ὸ μ ὲ ν γ ὰ ρ ἔ ν ϑ εν κ ῦ μα κυλίνδεται, τ ὸ δ ᾿ ἔ νθεν· ἄ μμες δ ᾿ ὂ ν τ ὸ μέσσον ν ᾶ ϊ φορήμεθα σ ὺ ν μελαίναι χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα·»6 – «Я не понимаю восстания ветров, волна катится то отсюда, то оттуда, мы же посреди носимся с черным кораблем, страдая от сильной бури». Или следующего Алкею Горация, который в оде (Carm. I, 14) уподобляет римское государство в борьбе Октавиана с Антонием и Клеопатрой кораблю в буре:
O navis, referent in mare te novi fluctus. o quid agis? fortiter occupa portum. nonne vides, ut nudum remigio latus, et malus celeri saucius Africo antemnaeque gemant, ac sine funibus vix durare carinae possint imperiosius aequor? non tibi sunt integra lintea, non di, quos iterum pressa voces malo.
quamvis Pontica pinus, silvae filia nobilis, iactes et genus et nomen inutile: nil pictis timidus navita puppibus fidit. tu, nisi ventis debes ludibrium, cave…7
Вот как – алкеевой строфой – перевел этот текст А. Семенов-Тян-Шанский:
К Республике
О корабль, вот опять в море несет тебя
Бурный вал. Удержись! В гавани якорь свой Брось! Ужель ты не видишь,
Что твой борт потерял уже
Весла, – бурей твоя мачта надломлена,–
Снасти страшно трещат, – скрепы все сорваны, И едва уже днище
Может выдержать грозную
Силу волн? Паруса – в клочья растерзаны;
Нет богов на корме, в бедах прибежища;
И борта расписные
Из соснового дерева,
Что в понтийских лесах, славное, срублено, Не помогут пловцу, как ни гордишься ты.
Берегись! Ведь ты будешь
Только ветра игралищем8.
Вторым метафорическим значением образа корабля в бурном море является уподобление его кормчему человека в смятении страстей. «Как мы теперь все боимся, видя его устрашенным, как кормчего корабля» – « Ὡ ς ν ῦ ν ỏ κνο ῦ μεν πάντες ἐ κπεπληγμένον κε ῖ νον βλέποντες ὡ ς κυ-βερνήτην νεώς» (Soph. Oedip. Rex, 922–923)9 – говорит Иокаста об испуганном Эдипе. В эпиграмме Мелеагра (АP V, 156) плаванию уподобляется любовь к голубоглазой Асклепиаде:
Асклепиада глазами, подобными светлому морю, Всех убеждает поплыть с нею по морю любви.
Ἁ φίλερος χαροπο ῖ ς Ἀ σκληπι ὰ ς ο ἷ α γαλήνης ὄ μμασι συμπείθει πάντας ἐ ρωτοπλοε ῖ ν10.
В оде Горация «К Пирре» (Carm. I, V) поэт жалеет ее счастливого влюбленного, не видевшего еще прихотей возлюбленной, «не знающего обманчивого ветра» и «бурного моря, взрытого черными ветрами» – «nescius aurae fallacis» «et aspera nigris aequora ventis».
Третье значение символического корабля в античной литературе – это изображение поэтического творчества и метонимически – его плодов. Впервые это значение метафоры корабля встречаем у Аристофана в «Лягушках». Хор советует Эсхилу не отвечать Еврипиду бранью на брань, «но сдержав паруса, осторожно, постепенно вести корабль вперед, пока не получишь легкого, попутного ветра» – « ἀ λλ ὰ συστείλας
« кроют /рыцЕУОс то с ; [ атюк;, е с та ^ « XXov « ^eig ка с фиХа^ек;, ^ v^к’ « V т о nve u ^a Xe c ov ка с каОеатпк о д Хав ^ С» [13].
Подобную метафору дважды находим в поэме Вергилия «Георгики». Во второй книге поэт обращается к своему покровителю Меценату с просьбой сопутствовать его поэтическому труду «летя с парусами в открытом море» – «pel-agoque volans dare vela potenti» (Georg. II, 41) [17]. А в четвертой книге, предчувствуя конец своего труда, пишет уже от своего имени: «И верно, если бы я не был в самом конце трудов, подбирал паруса, не спешил бы править корабль к земле, может быть, я бы воспел…» – «Atque equidem, extremo ni iam sub fine laborum vela traham et terris festinam advertere proram, forsitan et caner-em…» (Georg. IV, 116–119). Наконец, и Овидий использует сходный морской образ при окончании поэмы «Remedia amoris» – «Лекарства от любви» (811–812):
«Я сделал свое дело. Увенчайте венками усталый корабль,
Мы достигли гавани, куда направляли свой путь» – «Hoc opus exegi: fessae date serta carinae;
Contigimus portus, quo mihi cursus erat» [16].
Следуя античным авторам в изображении поэтических трудов как долгого плавания, Л. Ариосто в 46-й – заключительной – песне своего эпоса «Неистовый Роланд» изображает радостную встречу его поэтического корабля в пристани знатными итальянскими дамами и кавалерами, перечисляя около 100 их имен, кроме коллективных персонажей, в 130 строках 17 строф поэмы [1; 397–399].
Рядом с символом плавания корабля как изображения поэтического творчества появляется и обозначение его плодов как груза корабля. Это значение мы встречаем у Пушкина, хорошо знакомого с поэтикой античных авторов, как и с ее трансплантацией в новоевропейской литературе (в античности, в поэме Л. Ариосто «Неистовый Роланд»), в письме Н. И. Гнедичу, говорящему об искреннем ожидании его гомеровского перевода: «Когда Ваш корабль, нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожидании толпы, стыжусь Вам говорить о моей мелочной лавке…» (XIII, 145). Этот же образ присутствует и в черновой рукописи объявления об «Илиаде» в Литературной газете 1829 года: «Все благомыслящие люди чувствовали важность сего перевода и ожидали оного с нетер<пением>. Вы требуете сочинений моих, писал Н. И. Гне-дичу П<ушкин>. В то время как ваш <корабль> входит в пристань, нагруженный богатствами Гомера [при громе наших приветствий], нечего говорить о моих мелочах на смерть Н.<аполеона> I» (XI, 359).
Можно сказать, что случаи применения морских метафор и сравнений как в древней, так и в новоевропейской литературе весьма многочисленны и многообразны. Не предполагая исчерпать в рамках статьи весь этот огромный материал, мы в дальнейшем изложении остановимся на отдельных примерах, показательных для развития различных метафорических значений этих образов у греческих и латинских авторов, их интерпретации в поэзии пушкинской эпохи.
В «Арионе» (1827 год) к подобной аллегории обращается Пушкин. Его источник – ода Горация (I, 14) вместе с легендарной биографией названного греческого певца будут сплавлены в единый аллегорический рассказ об участии поэта в освободительном движении, декабристском мятеже, о спасении героя чудом, по воле Божественного Провидения, о его верности идеалам свободы. При всей прозрачности аллегории в стихотворении имеется множество реальных деталей, точных подробностей и ярких морских пейзажей в бурную и ясную погоду:
АРИОН
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали, Другие дружно упирали В глубь мощны веслы. В тишине На руль склонясь, наш кормщик умный В молчанье правил грузный челн;
А я – беспечной веры полн, –
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шумный... Погиб и кормщик и пловец! – Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою [9; 15].
Здесь представляется случай сравнить интерпретацию латинского источника Пушкиным и Вяземским. Вяземский в стихотворении 1819 года «К кораблю» дает его распространенное переложение по классицистическому принципу «со склонением на наши нравы», перенося горацианские мотивы в обстоятельства иной национально-исторической действительности [4; 92]. Корабль у него – Российское государство, он «детище» сосны, но не «понтийской, знаменитой дочери леса», как у Горация, а
Потомок древних сосн, Петра рукою мощной
Во прах низверженных в степях, где Бельт полнощный,
Дивясь, зрел новый град, возникший средь чудес?
[4; 92]
Буря, едва не приведшая российский корабль к гибели, – это война с Наполеоном. Автор, принимавший личное участие в народном ополчении и в Бородинской битве, изображает себя, однако, не участником, а сочувствующим зрите- лем событий, решающих судьбу отечества, очевидно, по примеру Горация, и использует те же образы морской аллегории:
Грозой разбитый мачт конец твой предвещая;
Под блеском молний ты носился между скал...
Эти стихи явно перелагают мотивы латинского оригинала: «ventis ludibrium» – «игрушка ветрам», «malus celeri saucius Africo»11, – «мачта, сломленная бурным ветром», «interfusa nitentis vites aequora Cycladas» – «избегай моря, разлитого между сияющими Кикладами»12. Сохраняется и горацианское обращение к кораблю, но содержание призыва изменено: римский поэт призывает отечество к миру – корабль должен вернуться в спокойную гавань, русский поэт призывает свое отечество идти по пути общественного прогресса, как его понимала либерально-масонская мысль того времени, – к новым берегам, «где благоденствуют торговля, мир, науки».
Принимая в целом основное правило классического искусства – обновление традиции, Пушкин, однако, свои творческие принципы формулирует несколько иначе: «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скудости, но благородная надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, – или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь» (XII, 82). Таким образом он поднимает, с одной стороны, значение точного перевода – воскрешения подлинника, а с другой стороны, на пути следования традиции более смелого ее преобразования – открытия «новых миров». Думается, что такое преображение источников и создание нового символико-мифологического сюжета мы можем увидеть в его стихотворении «Арион».
Пушкин, вероятно, знал переложение Вязем-ского13. Но в своей интерпретации морской аллегории он не следует Вяземскому, скорее отталкивается от него и от его латинского образца. Так он опускает традиционное описание корабля, гибнущего в море, скрыв его в умолчании, паузе, многоточии между началом бури и концом – кораблекрушением: «Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шумный... Погиб и кормщик, и пловец!» Но главное отличие от знаменитого образца морской аллегории состоит в том, что Пушкин, отправляясь от собственного жизненного опыта и вместе с тем как будто угадывая «сквозь латинские подражания»14 греческий оригинал, изображает себя не зрителем гражданской бури, но ее участником: он не на берегу, как Гораций, а в море, на терпящем бедствие корабле, как Алкей. Усилен объективный драматизм ситуации, почему и отпадает нужда в субъективно-риторическом пафосе обращений, восклицаний, предостережений, призывов.
Изменяется функция морских образов. Из художественного оформления мысли поэта об истории отечества – аллегории и национальноисторического ее применения – они становятся символически-событийным изображением судьбы поэта в жизненных бурях. В пушкинском повествовании отсутствуют какие-либо исторические и географические реалии. В отличие от Горация и Вяземского, он выводит изображаемое событие из исторического пространства и времени, помещая его в вечном мире природы. Тут бывшие условные элементы морской аллегории не только восстанавливают свою утрачиваемую предметность, но и приобретают субстанциональное значение космических стихий: море – вихрь – ветер – гроза – берег – земля – скала – горы – солнце. В этом доисторическом мире мифа события и судьбы предопределены свыше – непонятной, таинственной для человека волей Божества. Иначе – в исторической плоскости рациональной аллегории, где события совершаются людьми и о божественных силах либо не упоминается, как у Горация, либо, если упоминается, как у Вяземского, то не без иронической двусмысленности15. В исторической аллегории изображаемые события единичны и помещены – особенно явно у Вяземского – в линейном времени, необратимом в своем прогрессивном движении. В символическом рассказе Пушкина «Арион», напротив, – вечно актуальное время мифа, происходящего везде и всегда. Его героем будет и гомеровский Одиссей, спасшийся из кораблекрушения на остров Огигию, когда его спутники все погибли, наказанные богами за нечестие; и легендарный греческий певец, Арион, чудесно спасенный из моря дельфином; и сроднившиеся с морем и кораблем островитяне Архилох и Алкей, оба – поэты и воины, хранимые богами в войне с врагом и в гражданских распрях; и Феогнид, по воле богов уцелевший в политических междуусобиях; и Гораций, унесенный Гермесом из бури гражданской войны (см. оду «К Помпею Вару» (II, 7)). Его героем будет и сам Пушкин с его вольнолюбивой лирикой, убереженный Провидением от участия в декабристском мятеже. И, может быть, и все другие поэты и ораторы вплоть до нашего времени и далее, участвующие в гражданских бурях своего времени смелым, искренним словом и все же не уничтоженные противниками, а сохраненные Божественным попечением.
Так Пушкин, отправляясь от традиционной ситуативно-однозначной аллегории, «открывает новые миры»: создает характерный для нового времени субъективный миф (речь идет именно о личности, индивиде, и рассказ ведется от первого лица) с широким до безграничности спектром частных значений. Здесь вновь возникает вопрос об источниках, потому что в мифе Пушкина метафора бури не является единственной, но образует символический сюжет вместе с ме- тафорой спасения. Если основой для первой является ода Горация «К Республике», возможно, вкупе с ее европейско-русскими подражаниями, то для второй пушкинский текст дает две отсылки. Первая – к легендарной биографии Ариона – заключена в заглавии. Вторая содержится в предпоследнем стихе: выражение «риза влажная» является переводом латинского словосочетания «uvida vestimenta» в оде Горация «К Пирре» (I, 5). Здесь поэт обращается к рыжеволосой красавице, изменчивой, как море, жалеет ее возлюбленного, который ей верит, не ожидая «бурного ветра перемен», как и других влюбленных, не знающих ее характера, и радуется тому, что он-то спасся от кораблекрушения в море любовных страстей, в знак спасения посвятив влажные одежды «богу моря могучему» – «potenti maris deo», о чем говорит обетная табличка на священной стене храма (см. [6]).
Морские метафоры в этом стихотворении Пушкина собирают воедино все аллегорические значения, сформировавшиеся на протяжении развития античной литературы. Образы моря, морской тишины и бури, ясной погоды, грозы, солнца, корабля, кормщика, пловцов и певца, исполняющих свое дело, кораблекрушение и гибель кормщика и пловцов, спасение Божественным провидением певца, который на берегу сушит свою «влажную ризу», могут быть прочитаны и в общем плане как аллегория жизни общества, государства (в духе оды Горация « O navis, referent in mare te novi » (Carm. I, 14)) и стихотворения Вяземского), и как иносказательное изображение истории декабристского движения и судьбы самого поэта. Полисеманти-чен образ влажной ризы: в нем присутствуют античные реминисценции обетного дара за спасение морскому божеству, сближаемому здесь с христианским Богом, и символический знак верности себе, своему дарованию, предназначению, вольнолюбивой своей поэзии:
Я гимны прежние пою И ризу влажную мою Сушу на солнце под скалою (III, 58).
В создании единого полисемантического поля определяющую роль играют два образа, знаменующие соответственно античную и христианскую культуру: Арион и Божественное провидение. Поэтому у истолкователей текста даже возникла дилемма: каковы же источники образности этого стихотворения Пушкина, античность или христианство? На наш взгляд, верный ответ дает не столько разделение, сколько соединение упомянутых огромных религиозно-культурных миров. Пушкин как европейский поэт, живо ощущая в современности актуальное присутствие и взаимопроникновение античной и христианской традиции, стремясь к максимальному обобщению, синтезировал – для своего символиче- ского рассказа о древности и новой России, об истории народа и интеллигенции, о судьбе поэта, об Арионе и о себе – транскультурное пространство, показав тем самым и единство, и преемственную связь античности и христианства в характерных приметах их литературной поэтики.
И действительно, христианство, соединившее древнееврейский монотеизм с греческой философией и литературой, активно использовало жанровые модели и классическую поэтику, в частности морские образы греко-римской поэзии в сравнительных функциях и в аллегорических значениях бурной человеческой жизни, божественного, земного или небесного спасения, истории народа и церкви (см. [7]). Эти образы с христианской и классической греческой окраской встречаем и в ряде других стихотворений Пушкина. Примером могут послужить несколько стихов из «Элегии» (1830):
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья… (III, 228)
Отметим здесь соединение античной и христианской концепции жизни в ценностной формуле. По Цицерону, «жить это мыслить» – «vivere est cogitare», согласно христианской антропологии, «страдать есть смертного удел». В «Элегии» Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Подобное сочетание античных и христианских реминисценций наблюдаем и в морских образах стихотворения. «Грядущего волнуемое море» представляет авторскую модификацию классически-христианского сравнения жизни человека, народа, человечества с морем, чаще бурным, чем спокойным. В более традиционном виде это сравнение находим в монологе Пимена из «Бориса Годунова» (1825):
На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною – Дивно ль оно неслось событий полно, Волнуяся, как море-окиян? (VII, 17)
В «Элегии» 1830 года христианский колорит образа усилен соответствующим контекстом: «Мой путь уныл, сулит мне труд и горе…» и главное – обращенностью в будущее: «грядущего волнуемое море», что предполагает линейное библейско-христианское понимание времени, в отличие от циклического времени античности. Модифицированным представлено в русском стихотворении и еще одно греческое понятие « τρικυμία». В греческом языке слово обозначает высшую степень морской бури, буквально – третью (самую сильную и опасную) волну, в нашем словоупотреблении – «девятый вал». Русское
«треволненье» (калька греческого «τρικυμία», известное в старославянских и русских текстах с 1059 года) [11; 97] в стихотворении Пушкина ин-териоризируется в значении «душевное волнение, беспокойство» – среди контекстуальных концептов: «меж горестей, забот и треволненья».
В нашем исследовании вопроса об источниках морских образов в поэзии Пушкина мы многократно убеждаемся, что их основой в форме сравнений, метафор и аллегорий является ан- тичная греко-латинская поэзия в отдельных случаях с дополнением их христианских модификаций. Античные источники имеет и пушкинский образ «корабля поэзии», засвидетельствованный на протяжении едва ли не всей истории греколатинской литературы. Известные Пушкину произведения европейских поэтов обострили его интерес к античным источникам, отразившимся в многообразных модификациях образов моря и корабля в его поэзии.
Список литературы К вопросу об источниках пушкинских морских образов
- Ариосто. Неистовый Роланд. Прозаический перевод М. Л. Гаспарова. М.: Наука, 1995, 1993. Т. II. 546 с.
- Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). М.: Советский писатель, 1967. 724 с.
- Былины. М.: Советская Россия, 1988. 576 с.
- Вяземский П. А. Сочинения. Т. 1. Стихотворения. М., 1982.
- Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Худож. лит., 1970. 480 с.
- Мальчукова Т. Г. О горацианских реминисценциях в стихотворении А. С. Пушкина «Арион»//Horatiana: Межвуз. сборник. СПб., 1992. С. 198-210.
- Миллер Т. А. Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста (Опыт сопоставительного анализа)//Античность и современность. К 80-летию Федора Александровича Петровского. М.: Наука, 1972. C. 360-369.
- Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М.: Советский писатель, 1983. 366 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977-1979. Т. III.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. М.: Воскресенье, 1994-1997. Т. III.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1986-1987. Т. IV.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского литературного языка. М., 1994. Т. 1.
- Aristophanis Camoediae. Rec. F. W. Hall, W. M. Geldart. T. II. Oxonii. 1907. P. 140-141. V. 999-1004.
- Anthologia graeca. Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby. München, 1957.
- Anthologia lyrica graeca. Ed. Ernestus Diehl. Vol. I. Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri, 1925.
- Ovid. The Art of love and other poems. With an english translation by G. H. Mozley. Revised by G. P. Goold. (Loeb Classical library). Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.
- P. Vergili Maronis Opera cum appendice in usum scholarum, iterum recognovit O. Ribbeck. Lipsiae: in Aedibus B. G. Teubneri, MCMIII.
- Q. Horati Flacci opera. Ed. Stephanus Borzsak. Leipzig. Bibliotheca Teubneriana, 1984.
- Sophoclis Tragoediae. Ex recensione Guil. Dindarfii. Ed. sexta, quam curavit brevique adnotatione instruxit S. Mekler. Lipsiae: In aedibus B. G. Teubneri, MDCCCLXXXIX.