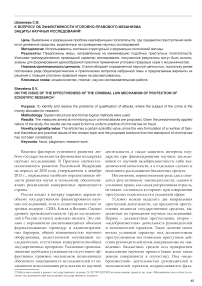К вопросу об эффективности уголовно-правового механизма защиты научных исследований
Автор: Шевелева Светлана Викторовна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (35), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель: Выявление и разрешение проблем квалификации посягательств, где предметом преступления являются денежные средства, выделенные на проведение научных исследований. Методология: Использовались системно-структурный и формально-логический методы. Результаты: Предложены меры, направленные на минимизацию подобных преступных посягательств. Учитывая преимущественно прикладной характер исследования, полученные результаты могут быть использованы для формирования единообразной практики применения уголовно-правовых норм о мошенничестве. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку ранее постановка ряда общетеоретических и практических вопросов избранной темы и предлагаемые варианты их решения с позиций уголовно-правовой науки не рассматривались.
Мошенничество, плагиат, научно-исследовательская работа
Короткий адрес: https://sciup.org/140237875
IDR: 140237875
Текст научной статьи К вопросу об эффективности уголовно-правового механизма защиты научных исследований
Важным фактором успешного развития любого государства является финансовая поддержка научных исследований. В Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденном в декабре 2013 г., определены наиболее перспективные области развития науки и технологий, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ страны.
Россия входит в пятерку мировых держав по объему государственного финансирования научных исследований, хотя и существенно отстает от тройки лидеров – США, Китая и Японии. Однако уровень производительности труда исследователей в России остается довольно низким. Это связано с перманентно увеличивающимся объемом формализованных процедур и административных барьеров, общей изношенностью научного оборудования, недостаточной мотивацией исследователей, отсутствием конкурентоспособных государственных программ. Указанные организационные проблемы усиливаются отсутствием эффективных правовых механизмов, позволяющих обеспечить защищенность исследователей от незаконного использования результатов их научной деятельности, а также защитить интересы государства при финансировании научных исследований от научной недобросовестности либо академической нечестности, а в отдельных случаях и нецелевого расходования бюджетных средств.
Несомненно, первостепенная роль здесь отводится регулятивному законодательству, однако и уголовное право, как самая репрессивная отрасль, не может «оставаться в стороне» при совершении преступных посягательств в указанной сфере.
Условно можно выделить два направления преступной деятельности, где предметом преступления являются государственные средства, выделяемые на проведение научных исследований. Первое – должностные преступления, второе – «недобросовестная» деятельность руководителей и исполнителей проектов. Такое деление носит весьма условный характер: под должностными преступлениями мы понимаем преступные действия руководителей вузов, направленные на «выведение» бюджетных средств под прикрытием выполнения научного проекта (чаще всего такие деяния совершаются в соучастии). Под «недобросовестной» деятельностью руководителей и исполнителей проектов подразумеваются фаль- сификация данных, плагиат и иные способы нарушения авторских и смежных прав, а также имитация научной деятельности, когда в отчетах о проведенной работе указываются уже имеющиеся в конкретной отрасли науки результаты и достижения. Так, автором настоящей статьи неоднократно выявлялись факты копирования собственного текста без соответствующей сноски. Сложно представить, как на законодательном уровне можно пресечь псевдонаучную деятельность недобросовестных исследователей, учитывая, что определить научную ценность того или иного проекта может только специалист в конкретной области науки и техники. Вопрос о возбуждении уголовного дела возникает лишь в случае выполнения научных исследований в рамках государственного задания, гранта и т. п., т. е. при наличии финансирования.
В то же время определенные подвижки в этом направлении имеются. Так, в целях совершенствования организации научных исследований, проводимых вузами, 3 ноября 2011 года было принято «Положение об организации научных исследований, выполняемых подведомственными Министерству образования и науки РФ высшими учебными заведениями, в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)» (далее – Положение). Данный нормативно-правовой акт установил общий подход и условия внутреннего отбора вузом исследований и разработок, а также порядок планирования, организации и приемки результатов НИР, проводимых в рамках государственного задания [1]. Учитывая, что Положение носит рамочный характер, каждый вуз обязан был разработать внутренний документ, уточняющий порядок определения конечных исполнителей на основе тех критериев, которые обозначены в министерском Положении.
Анализ ряда таких вузовских положений, к сожалению, дает основание утверждать, что в ряде случаев их локальные акты представляют собой практически полное воспроизведение Положения без отражения в них специфических условий, определяющих особенности отбора заявок на проведение соответствующих исследований в рамках государственного задания в конкретном вузе, а также осуществления надлежащего контроля со стороны руководства вуза и другие частные вопросы.
Подобный формальный подход не позволяет в полной мере обеспечить реализацию тех задач, которые определены в Положении Министерства образования и науки, а в отдельных случаях может приводить к злоупотреблениям со стороны руководства вуза, обладающего довольно широкими полномочиями, практически ни кем не контролируемыми при распределении финансирования на проведение научных исследований.
Показательным выглядит уголовное дело по обвинению в мошенничестве и взятках проректора по научной работе одного из российских вузов.
Так, У. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 290 (пять преступлений), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Злоупотребляя своим должностным положением, он дал указание будущим руководителям проектов включить себя в число их исполнителей. У. заведомо знал, что какие-либо работы выполнять по данным проектам не будет. Учитывая, что все руководители проектов находились у него в прямом подчинении и, как следует из материалов уголовного дела, «не догадывались о преступных намерениях последнего», они включили проректора по научной работе в качестве исполнителя в свои проекты. После того, как проекты были утверждены Министерством образования и науки РФ на основании приказов о составе участников, У. получал надбавку к заработной плате.
Кроме того, У. предложил отдельным будущим руководителям проектов передать ему деньги после получения поддержки научного проекта для последующей передачи денежных средств за якобы совершение им (У.) действий, способствующих включению указанного проекта в итоговый перечень проектов научно-исследовательских работ. При этом У. достоверно знал, что ранее был подписан итоговый перечень проектов, в который были включены проекты руководителей, которым он предлагал «подстраховать» свою заявку.
С предъявленным обвинением суд согласился отчасти. Так, У. был оправдан по ч. 1 ст. 285 УК РФ. «Как установлено в ходе судебного следствия, У. действительно была нарушена процедура при подготовке и направлении перечня научных проектов для выделения финансирования Министерством образования и науки РФ в рамках выполнения госзадания… однако все заявки научных руководителей, представленные для включения проектов в перечень подлежащих финансированию, были приняты, и пакет соответствующих документы направлен в Министерство образования и науки РФ, соответствующие научные изыскания были выполнены в рамках госзадания, финансирование было получено вузом, отчеты, представленные по результатам выполнения работ, приняты Министерством образования. Также в судебном заседании нашло подтверждение, что без оформления, подписания и предоставления указанных документов в Министерство образования и науки РФ образовательное учреждение не получило бы финансирование научно-исследовательской деятельности в рамках госзадания,… при этом в обвинении не конкретизировано, чьи права и законные интересы – граждан или организаций либо охраняемые законом интересы были существенно нарушены. Учитывая, что У. был признан виновным в мошенничестве с использованием должностного положения, суд квалификацию по ч. 1 ст. 285 УК РФ признал излишней.
Не нашел суд в действиях виновного и состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Как верно указано в приговоре, «в том случае, если должностное лицо получило ценности за совершение действий, которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действии при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Суд признал виновным У. в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ [7].
Однако апелляционная инстанция изменила приговор, указав, что У., являясь должностным лицом и, бесспорно, выполняя управленческие функции, …используя свои служебные полномочия, обладая правом подписи финансовых, бухгалтерских, организационных и распорядительных документов вуза, получил от руководителей и исполнителей научных проектов взятку… за включение проектов в итоговый перечень проектов, подлежащих финансированию в рамках государственного гранта.
При этом апелляционная инстанция согласилась с тем, что У., незаслуженно получая надбавки по научным проектам, совершил хищение денежных средств. В итоге У. был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизодам, где он получал надбавки в качестве исполнителя по проектам, по ч. 2 ст. 290 УК РФ по эпизодам, где он получал денежные средства от руководителей на якобы поддержку их заявок в Министерстве образования и науки РФ [4].
Подробный анализ данного уголовного дела свидетельствует, что от того, когда должностное лицо предлагает руководителю проекта передать ему денежные средства за «поддержку» его заявки на проведение научного исследования при государственной поддержке, зависит квалифика- ция действий виновного. Если должностное лицо до передачи заявок в Министерство предлагает «поддержку» в прохождении заявки, то данные действия следует квалифицировать как взятку, так как, исходя из смысла Положения, конкурсная документация формируется вузом, а в министерство направляются те заявки, которые были поддержаны различными комиссиями на уровне вуза. В случае если должностное лицо вуза предлагает потенциальному руководителю проекта или его исполнителю «оплатить его услуги» уже после того, как заявка передана в Министерство, содеянное следует квалифицировать как мошенничество. Поэтому решение апелляционной инстанции в приведенном выше уголовном деле, на наш взгляд, является неверным.
Полагаем, предупреждение подобного рода посягательств возможно посредством оценки заявки не руководством вуза, а Министерством (иным заказчиком подобного рода работ (услуг)), либо с помощью так называемого «слепого» рецензирования отчетной документации проекта, широко практикуемого научными журналами при отборе статей для публикации. Такое рецензирование минимизирует возможность злоупотреблений коррупционной направленности, в то же время позволяет оценить ценность проекта специалистом.
Ошибочной представляется квалификация действий виновных, в отношении которых был вынесен приговор Ленинским районным судом г. Иваново. Ректор Ш. одного из вузов г. Иваново обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Проректор по научной работе С. этого же вуза, а также заместитель директора по научной работе К. другого института г. Иваново являлись пособниками данного преступления. Фигуранты данного уголовного дела изготовили подложные документы, на основании которых из вуза, где был ректором Ш., были переведены денежные средства в институт, где работал С. В ходе судебного разбирательства Ш. утверждал, что договор на проведение научных исследований с использованием оборудования института, а в последующем аннотированный отчет о результатах якобы проведенного исследования был изготовлен для того, чтобы отразить отсутствие остатков на счетах вуза, что давало возможность университету претендовать на дополнительное финансирование в следующем финансовом году со стороны Министерства образования и науки РФ. Ш. утверждал, что данные денежные средства в последующем должны были быть возвращены университету частично, так как вуз действительно обязан оплачивать институту использование оборудования института при проведении учеными университета научных исследований. В ходе предварительного следствия было выявлено, что никакие научные исследования сотрудниками университета не осуществлялись, а аннотированный отчет является полной копией текста из статьи, опубликованной в журнале «Макрогетероциклы» [5].
На наш взгляд, фигуранты дела совершили мошеннические действия: под видом договора, заключенного между университетом и институтом, на проведение научных исследований они перевели денежные средства со счета университета на счет института. То, что исследования не проводились, подтверждается аннотированным отчетом, составленным на основе статьи из журнала.
В другом уголовном деле действия Ч. были переквалифицированы с ч. 3 ст. 160 на ч. 1 ст. 201 УК РФ. Суть преступных действий Ч. заключалась в том, что на счет учреждения, директором которого он являлся, перечислялись денежные средства по программе УМНИК для выплаты заработной платы победителям данной программы. Ч. присвоил денежные средства, однако суд, переквалифицировав его действия на ч. 1 ст. 201 УК РФ, таким образом изменил категорию преступления с тяжкого до преступления небольшой тяжести и применил положения ст. 76 УК РФ, освободив Ч. от уголовной ответственности [3].
В случае привлечения исполнителей госзада-ний к уголовной ответственности за «имитацию» научной деятельности исход дела, как правило, зависит от экспертной оценки качества представленного научного отчета о проделанной работе. Так, Н.Е. Хуторянский, А.М. Тараканов оправданы по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Обвинение полагало, что под видом научно-исследовательского эксперимента они осуществляли коммерческую деятельность при рубке лесных насаждений в целях извлечения прибыли. Сторона обвинения утверждала: «Программа «Вторичный лес», дополнительно представленная Хуторянским к проекту освоения лесов, научно-исследовательской не является, поскольку не содержит конкретных новых знаний, которые ожидается получить в ходе научной деятельности, либо указание на применение новых прикладных исследований. Кроме того, данная программа является копией программы, разработанной в 2009 году для всей Архангельской области, а не для конкретного участка… Указывает на отсутствие научной ценности в подготовленных Таракановым работах и отсутствие научноисследовательской деятельности при проведении рубки, что подтверждается показаниями свидетелей,… и фиктивность подготовленного Таракановым отчета, поскольку Тараканов на место рубки не выезжал, составил его без анализа данных, полученных в ходе рубки». Учеными Карельского НЦ РАН была подтверждена научная ценность подготовленного Таракановым проекта экспериментальной рубки. Так, в заключительной части отзыва на серию отчетов было указано, что работа по проектированию и проведению несплошных рубок повышенной интенсивности создает научный фундамент для обновления нормативной базы, ориентированной на восстановление и поддержание ресурсного потенциала таежных лесов [2].
В другом уголовном деле А. и Н. были признаны виновными в совершении мошенничества группой лиц в особо крупном размере. А., являясь директором ЗАО «Нара», подал заявку на участие в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки РФ, предложив в качестве проекта создание высокотехнологичного производства в области обеспечения учета нефти и производной продукции. Заявка министерством была одобрена, в связи с чем выделены денежные средства в размере 159 млн рублей. При этом А., принимая управленческие и финансово-хозяйственные решения, создавать фактически указанное производство не планировал, а имел намерение создать видимость указанной деятельности для хищения денежных средств, выделенных в качестве субсидий. В этих целях в свою преступную деятельность он вовлек декана Н. С использованием общедоступных источников сети «Интернет», а также чертежей и схем установок, применяемых в промышленном производстве, была составлена научно-техническая и конструкторская документация, не представляющая научной и материальной ценности. «Согласно заключению инженерно-технологической экспертизы № 190315/СО от 19.03.2015 техническая документация, представленная в качестве отчетной, обосновывающая якобы выполненные работы, …является в основном плагиатом с использованием открытых источников в рекламах ряда фирм, не представляет научной ценности, является полным повторением существующих установок и не содержит инновационных решений. Документация по установке ППУ выполнена некачественно, по ряду принятых решений ошибочно, не представляет практической ценности» [8].
Имеют место случаи, когда заявка на получение господдержки на проведение научного исследования базируется на уже имеющихся ис- следованиях, проведенных другими лицами. Так, М. получил грант ГРНФ, подав заявку на основе фактически ранее выполненной научно-исследовательской работы А. и заявив тему, которая ранее фактически выполнена Б. и В. Используя свое служебное положение, он убедил членов регионального экспертного совета, что данные заявки имеют научную ценность, получив таким образом положительное заключение. Впоследствии фактически научно-исследовательскую работу не выполнил, предоставив в отдел науки, координации деятельности вузов министерства образования… отчет о якобы выполненной… научно-исследовательской работе на указанную тему, в виде копии работы А. вместе с подписанным им актом сдачи-приемки выполненных научно-исследовательских работ [6].
Подводя итог сказанному, следует сделать следующие выводы. Преступные посягательства на денежные средства, выделяемые на проведение научных исследований как государством, так и иными лицами, совершаются, как правило, либо лицами, пользующимися своими должностными полномочиями, – руководством вузов, либо руководителями или исполнителями проектов, на выполнение которых было выделено финансирование. Схема совершения первой группы преступных посягательств заключается в том, что под видом научно-исследовательских работ виновное лицо выводит денежные средства на посторонние счета. Схема преступных посягательств исполнителей (руководителей) проектов связана с присвоением авторства уже существующих научных достижений либо фальсификацией полученных результатов. В первом случае минимизация подобных деяний возможна посредством уменьшения полномочий руководства вуза по распределению финансирования на проведение научных исследований, а также установлением более жесткого контроля со стороны государства. Во втором случае необходимо проводить экспертную оценку полученных результатов. Наиболее оптимальным является проведение «слепого» рецензирования.
Список литературы К вопросу об эффективности уголовно-правового механизма защиты научных исследований
- Манахов С.В. Развитие научной деятельности в вузах -новый приоритет государственной научно-технической политики России//Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2013. № 8 (62). С. 29-36.
- Определение Архангельского областного суда от 28.07.2015. Уголовное дело № 22-1589/2015 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Постановление Ковровского городского суда от 15.01.2015. Уголовное дело № 1-345/2014 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Приговор апелляционной инстанции Челябинского областного суда от 18.01.2015. Уголовное дело № 10-272/2015 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Приговор Ленинского районного суда г. Иваново от 03.07.2016. Уголовное дело № 1-93/2016 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 16.07.2013. Уголовное дело № 1-310/2013 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области. Дело № 1-272/2014 от 09.11.2014 . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.
- Приговор Серпуховского городского суда Московской области от 07.08.2017. Уголовное дело № 1-3/2017 (1-499/2016) . URL: https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.