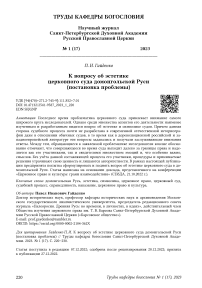К вопросу об эстетике церковного суда домонгольской Руси (постановка проблемы)
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (17), 2023 года.
Бесплатный доступ
Последнее время проблематика церковного суда привлекает внимание самого широкого круга исследователей. Однако среди множества аспектов его деятельности наименее изученным и разработанным видится вопрос об эстетике и символике судов. Причем данная сторона судебного процесса почти не разработана в современной отечественной историографии даже в отношении обычных судов, в то время как в дореволюционной российской и западноевропейской литературе эти вопросы задавались и получали заслуживающие внимания ответы. Между тем, обращающиеся к заявленной проблематике исследователи вполне обоснованно отмечают, что совершающееся во время суда выходит далеко за границы права и наделяется как его участниками, так и свидетелями множеством эмоций и, что особенно важно, смыслов. Без учёта данной составляющей процесса его участники, процедуры и принимаемые решения утрачивают свою ценность и лишаются авторитетности. В рамках настоящей публикации предпринята попытка сформулировать и поднять вопрос об эстетике церковного суда в домонгольской Руси. Статья написана на основании доклада, представленного на конференции «Церковное право и культура: грани взаимодействия» (СПбДА, 21.10.2022 г.).
Домонгольская русь, эстетика, символика, церковное право, церковный суд, судебный процесс, справедливость, наказание, церковное право и культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140297585
IDR: 140297585 | УДК: [94(470)+271.2-745-9]:111.852+7.01 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_1_220
Текст научной статьи К вопросу об эстетике церковного суда домонгольской Руси (постановка проблемы)
About the author: Pavel Ivanovich Gaidenko
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Historical Sciences and Archival Studies at the Moscow State Linguistic University; Chairman of the Editorial Board of the journal “PaleoRossia. Ancient Russia: in Time, Personalities, and Ideas”; full member of the T.V. Barsov Society for the Church Law Study of the St. Petersburg Theological Academy of the Russian Orthodox Church (“The Barsov Society”).
The article was submitted 07.12.2022; approved after reviewing 20.12.2022; accepted for publication 27.12.2022.
Можно ли судить и наказывать красиво? При всей кажущейся необычности, этот вопрос не видится ни эпатажным, ни провокативным, ни циничным. Поднимая вопрос о применимости категории «красота» к суду — а тем более к наказанию, — приходится уточнить, что речь идёт именно об эстетике и семантике суда и наказания. Действительно, ход, процедуры и решения церковного суда, как и любого иного суда, имеют принципиальное значение для его участников и наблюдателей, подчеркивая несомненную важность суда и как института, и как процесса, и как выносимого в ходе заседания вердикта. Церковный суд в значительной мере является отсылкой к Божественному суду, а поэтому имеет для христианина принципиально важное значение, поскольку принимаемое судом решение почти всегда для большинства его участников имеет не только земное, но и вневременное измерение. При таком взгляде всё, что связано с церковным судом, в той или иной мере символично и исполнено множественными образами и смыслами. Не считая себя специалистом в отмеченных областях (семантике и эстетике), полагаю лучшим ограничиться общими наблюдениями и идеями в рамках конкретных текстов и сюжетов, которые позволяют обнаружить ценность символических и эмоциональных сторон суда в домонгольской Руси. Принимая во внимание крайне ограниченный круг источников и сообщений, приходится признать, что высказанное ниже необходимо рассматривать и оценивать не как разрешение научной проблемы, а лишь как первый подход к ней. Что же касается возникшего интереса, то в целом он объясняется тем, что знакомство с решениями и процедурами современного церковного суда во многих отношениях разочаровывает и с эстетической, и с содержательной, и с семантических позиций. И в этих условиях опыт прошлого видится ценным и даже назидательным.
Приступая к изложению наблюдений и выводов, очень важно определиться с тем, что в данном случае понимается под красотой. Несомненно, при всех стереотипических критериях, категория красоты почти всегда понимается субъективно и обусловлена социальным статусом наблюдателя и традициями, в которых он воспитывался и формировался. Образы красоты, доносимые книжником, как и любые иные образы несут «в себе элементы социального, книжного и локального знания»1. А это означает, что рассматриваемые сообщения источников отражали прежде всего видение книжников и людей их круга.
В итоге для социальной среды, к которой принадлежал книжник, «красота» символична (ритуальна), содержательна, сакральна и почти всегда связана с властью и истиной. Даже если эта власть только воображаемая, а не реальная, как, например, в свадебных и пиршественных ритуалах былин. Она всё равно красива и харизматична уже в силу своей природы. Настоящая красота почти всегда воспринимается в качестве отражения не столько правды, которая может быть эмоциональной и уродливой, сколько истины, которая открывается лишь по мере углубления понимания. Вместе с тем на бытовом уровне повседневности красота — это то, что нравится или способно вызывать восхищение и одобрение. Но что нравится человеку Древней Руси помимо того, что может символизировать власть и истину? Понятно, что это зависит от социальной принадлежности наблюдателей. И всё же, каким должно быть образцовое правосудие, как, например, рассуждал об этом М. Пастуро?
Как это ни странно, но в то время, как западная наука уже давно обратила свой взор на проблемы эстетики и семантики судов, в том числе судов церковных, в отечественной историографии эта тема продолжала оставаться малоинтересной и периферийной для исследователей не только в послереволюционной, но и в дореволюционной России. Особенно досадным это видится в отношении Средневековья, весь ритм жизни которого имел глубоко символические формы. В этих условиях наблюдения А. В. Аргунова об эстетике и пространстве суда видятся скорее счастливым и одиноким исключением, нежели правилом2. Отмеченное равнодушие отечественных исследователей к обозначенной проблематике весьма странно, особенно, если принять во внимание, что художественные образы, в той или иной мере связанные с церковными судами или расправами по церковным вопросам, в целом хорошо разработаны в западноевропейской литературе3. Более того, в самой России уже на исходе XIX в. темы суда и расправы в эпоху русского Средневековья нашли своё отражение и художественное осмысление в картинах В. Г. Перова «Никита Пустосвят. Спор о вере» (1882), С. Д. Милорадовича «Суд над патриархом Никоном», В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» (1887), И. Е. Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» (1888), Г. Г. Мясоедова «Сожжение протопопа Аввакума» (1897), и др. И лишь сравнительно недавно проблемы семиотики суда в контексте религиозной проблематики были рассмотрены в уже упоминавшейся монографии А. В. Аргунова и примечательной статье Б. Л. Шапиро4.
Между тем, сообщения источников о судах XI-XIII вв. вполне убедительно демонстрируют, что не только формальная, но и содержательная — в том числе эстетическая и семантическая — стороны суда и судебной расправы хорошо осознавались участниками и свидетелями событий. При этом эстетическая и практическая стороны суда и расправы успешно сочетались. Это особенно интересно, если принять во внимание, что сообщения древнерусских источников о церковных судах или судах, в которых принимали или должны были принять участие представители Церкви, крайне скупы и немногочисленны. Тем не менее, сам факт попадания этих известий в летописание или агиографические памятники указывает на их принципиальную значимость и важность не только в контексте политических и церковных событий, но и в контексте сотериологических представлений.
Список церковных судов, упомянутых в источниках, краток, однако с определёнными оговорками он может быть немного расширен за счет собраний, которые — опять же с оговорками и допущениями — можно принять в качестве имевших значение судебных, что не только скрашивает ситуацию, но и позволяет лучше её понять. Правда, в большинстве случаев эти известия немногословны, но всё же их ценность несомненна.
Летописание и агиография сообщают о целом ряде судов.
1053/54 г. был отмечен судом митр. Ефрема над еп. Лукой Жидятой, а впоследствии, в 1057 г. — и над обидчиками новгородского архиерея, которых постигло крайне жестокое возмездие5.
Под 1096 г. раннее русское летописание сообщает о попытке Владимира Всеволодовича организовать суд над его двоюродным братом Олегом Святославичем. При том, что задуманный процесс так и не состоялся, одной из примечательных сторон этого судилища должно было стать участие в нём епископата и игуменов. Судя по реакции Олега, в которой он с предельной искренностью отозвался о своих предполагаемых судьях, духовенству отводилась важная роль в этой политической постановке6.
1164 и 1168 гг. оказались отмеченными спорами о постах7. Одним из отголосков этого конфликта, который, кажется, приобрёл личный характер между участниками спора, стала пространная грамота патр. Луки Хрисоверга8. Даже если споры о постах с еп. Леоном, а также собранный митрополитом Собор по причине изгнания еп. Леона трудно назвать судами, совершённое на них вполне вписывается в рассматриваемую проблему.
Не менее показательно известие 1169–1171 гг. о суде и расправе над властным любимцем Андрея Юрьевича Боголюбского ростовским епископом Феодором9.
На эти же годы приходится известие о несправедливом суде над игум. Поликарпом Печерским10. Примечательным видится сюжет о епископском суде, которому был подвергнут Антоний Римлянин11.
Однако более всего показательно изобилующее подробностями сообщение о суде над прп. Авраамием Смоленским12.
Ни одно из этих известий не сопровождается категориями «красоты». Однако очевидным представляется, что некоторые из этих известий явно рассчитаны на эмоциональный ответ. Он ожидается и от читателя агиографических повествований об Авраамии Смоленском и Антонии Римлянине, и от читателя записей о судах над еп. Феодорцом и прп. Поликарпом Печерским. Во многом эта эмоциональность опирается на априорное представление о том, что от церковного суда чаяли не просто «правды» и «справедливости» — какими бы смыслами они не наделялись, — а проявления Божественной воли. Её обретение воспринималось не только как правовая, но и глубоко церковная норма, отсутствие же этой справедливости чаще всего и становилось основанием для упреков в адрес церковных процессов и возглавлявших их архиереев13. Подобное отношение к церковному суду придавало описанию процесса и связанным с ним обстоятельствам драматизм, передававшийся через евангельские образы и параллели, замечания и упрёки. Такими образами и суждениями буквально переполнено описание суда над Авраамием Смоленским. Совершённый над ним суд уподоблен судилищу над Христом во дворе Пилата. В итоге страдания, которые претерпевал Авраамий, уподобляли его не только Иоанну Златоусту, но и самому Спасителю14, вписываясь в контекст представлений о должном через образы страдания, эстетика и воспевание которых в церковной культуре — особая тема для исследований15.
Не менее сильна тема неправедности святительского суда в истории Поликарпа Печерского. Совершённая в его отношении несправедливость, как и в последующем случае с Авраамием, ложится грузом расплаты не столько даже на архипастырей, сколько на горожан. Вероятно, их безучастное отношение либо одобрение в ходе суда привели к свершившейся неправде. Последнее тоже является непрямой отсылкой к судьбе Иерусалима и его жителей, взявших своим одобрением на себя ответственность за совершённое злодеяние: «кровь
Его на нас и на детях наших» (Мф 27:25). В итоге и Киев, и Смоленск подвергаются разорению — первый в ходе междоусобицы16, второй в результате природных бедствий17. Не вдаваясь в подробности относительно того, насколько соответствовала реалиям настигшая горожан расплата, описанная на страницах книг, очевидно, что эмоциональное неравнодушие книжника к совершившемуся правосудию лишь подтверждало факт справедливости произошедшего.
От представшего перед судом архипастыря ожидалось смирение. Если представший был невиновен, то за него должны были говорить его безропотность и / или свидетели. Именно так, стараниями составителя жития Антония Римлянина, ирландский инок Антоний воспринял святительский суд еп. Никиты. Несомненно, использование агиографического текста в качестве исторического свидетельства проблематично. Тем не менее, агиография формировала идеалы и предлагала идеальные формы поведения христианина. Житие Антония предлагает увидеть в прибывшем в Новгород монахе образец предельного смирения, которое обнаружил он во время святительского суда, упав на землю и трепетно внимая словам архипастыря: «преподобныи же падъ предъ святителемъ на лицы своемъ, и плакаше горко. и моля святителя». В житии Антония Римлянина святитель представлен как справедливый судия для клириков города. Преднамеренно или нет, но книжник описал то, как должны скрадываться отношения святителя и инока. В образе еп. Никиты преподается и пример того, как должен себя вести архипастырь на суде: восседающий, держащий посох, задающий вопросы, выслушивающий ответы и принимающий отеческое решение: «святитель же Никита сія слышавъ отъ преподобнаго, не мняше его яко человека, (но) яко ангела Божіа. и воставъ отъ места своего. и отлагаетъ жезлъ пастырскіи. и на многъ часъ ста и моляся, и дивяся бывшему. яко же про-славляетъ Богъ рабъ своихъ». В итоге под пером книжника святительский суд еп. Никиты приобрел идеализированные черты, которые, однако, скорее всего отражали не только представления агиографа о том, как должен был проходить судебный процесс, но и как он мог совершаться18.
Более сложным предстает образ смоленского архиерея Игнатия в Житии прп. Авраамия Смоленского. Он столь же важен, однако менее однозначен. Его суд изначально несправедлив, что осознавалось Игнатием, и совершенная святителем ошибка была исправлена только после провидения, подвинувшего архипастыря к раскаянию19.
Особое акцентирование на святительской власти присутствует и в летописном сообщении об оправдании еп. Луки Жидяты. Правда, на этот раз оно было сосредоточено не на образе митр. Ефрема, а на жертве его суда, свт. Луке, оправданном и возвращённым на кафедру: « Сем же лѣтѣ архиепи-скопъ Лука прия свои столъ в Новѣгородѣ и свою область. Дудицѣ же холопу оскомины: урѣзаша ему носа и обѣ руцѣ, и бѣжа в Нѣмци »20. Предельно лаконичное и вместе с тем ёмкое описание произошедшего лишь подчеркивает истинность свершившегося оправдания в результате апелляции.
Не меньшую экспрессию картинам суда придает участие в суде местного населения. Именно оно поругает ведомого на суд обвиняемого, оно же разделяет ответственность за завершённую судебную ошибку и, как уже упоминалось, страдает за своё жестокосердие21. Судя по всему, при всем стремлении автора сказания о страданиях Авраамия Смоленского осмыслить произошедшее с преподобным страдальцем через посредство евангельских образов, книжник описал действительный ход суда, наполнив его своими размышлениями и представлениями.
Впрочем, примечательной и явно привлекавшей к себе внимание стороной святительского суда над Авраамием видится еще два важных обстоятельства. Суд совершался на епископском дворе, о чем было уже сказано, в присутствии всей верхушки города — епископа, князя, бояр, игуменов. Здесь же собрались члены клира и население города22. Всё перечисленное придавала процессу особую торжественность, живость и эмоциональность.
Однако не меньшего внимания заслуживают приговоры. Н. Н. Ворониным было небезосновательно высказано мнение, что в основе сообщения о наказании ростовского еп. Феодорца лежит судебный приговор. Ценность этого отрывка для истории русского церковного права огромна, поскольку это первый из сохранившихся приговоров церковного суда. Однако примечательным данный документ делает не только это. Заслуживает в нем внимание все: и форма, и структура, и высокий, сочный и красочный стиль языка, придавшего содержанию не только образность, но и смысловую наполненность:
«В то же лѣт.̑ чюдо створи Бъ҃ и ст҃аӕ Бц҃ѧ. новоє в Володимери городѣ. изгна бо Бъ҃ и ст҃аӕ Бц҃ѧ Володимерьскаӕ. злаго и пронъıрливаго. и гордаго лестьца. лжаго влд̑ку Феѡдорца. из Володимерѧ ѿ ст҃ъıӕ Бц҃ѧ. црк̑ве Златоверхъıӕ. и ѿ всеӕ землѧ Ростовьскъıӕ. не въсхотѣ бо блгс̑веньӕ и оудалисѧ ѿ него. тако и сь нечс̑твъıи не всхотѣ послушати хрс̑толюбиваго кнѧзѧ Андрѣӕ. велѧща ѥму ити ставитъсѧ к митрополиту г Къıѥву. и не всхотѣ. наче же Бу҃ не хотѧщю ѥго и ст҃ъи Бц҃ѣ. изверже ѥго изъ землѣ Ростовьскъı. ѿиметь ѿ него үмъ. такоже и надъ симь створи Бъ҃. ѿӕ ѿ него үмъ. кнѧзю же ѡ немь добро мъıслѧщю. и добра ѥму хотѧщю. сь же не токмо не всхотѣ поставленьӕ ѿ митрополита. но и цр҃кви всѣ в Володимери [повелѣ] затворити. и ключѣ цр҃квнъıѣ взѧ. и не бъıс̑ ни звоненьӕ ни пѣньӕ по всему граду. и въ сборнѣи цр҃кви. в неиже чюдотворнаӕ мт҃и Би҃ӕ. и ина всѧка ст҃ъıни єӕ. к неиже вси хрс̑ьӕне съ страхом̑ пририщють. оутѣху имуще. и цѣленьӕ ѿ неӕ приємлюще. дш҃мъ и тѣлом̑ своимъ. и ту дерзну /л.119 об./ црквь затворити. и тако Ба разгнЬви. и стую Бцю. томъ бо дн҃и изгнанъ бъıс̑. мс̑цѧ. маӕ. въ. и҃. дн҃ь. на памѧт̑ стаг̑ Іѡан̑ Бословца. Много бо пострадаша чл҃вци ѿ него. въ держаньи ѥго. и селъ изнебъıвши и ѡружьӕ. и конь. друзии же и роботъı добъıша. заточеньӕ же и грабленьӕ. не токмо простьцем̑ но и мнихом̑. игуменом̑ и єрѣѥмъ. безъмлс̑твъ съıи мучитель. дру-гъıмъ члв̑комъ головъı порѣзъıваӕ и бородъı. инъıм же ѡчи въıжигаӕ. и ӕзъıкъ оурѣзаӕ. а инъıӕ распинаӕ по стѣнѣ. и муча немлс̑твнѣ. хотѧ исхитити ѿ всѣх̑ имѣньѥ. имѣньӕ бо бѣ не съıтъ акъı адъ. посла же ѥго Андрѣи митрополиту в Къıѥвъ. митрополитъ же Костѧнтинъ повелѣ ѥму ӕзъıкъ оурѣзати. ӕко злодѣю и єретику. и руку правую оутѧти. и ѡчи єму въıнѧти. зане хулу измолвї на ст҃ую Бц҃ю. потреблѧють бо сѧ грѣшници ѿ земьлѧ. и безаконьници ӕко | и не бъıти имъ. и сбъıс̑сѧ слово єуальскоє на нем̑ гл҃щеє. єюже мѣрою мѣри[те] възмѣритьсѧ вам̑. и имже судомъ судите судит̑сѧ вам̑. судъ бо безъ млс̑ти не створшему млс̑ти. другоє же слово молвить. аще кто незаконьнѣ мученъ будет̑ не вѣнчаєтсѧ. грѣш-нъıи бо и сдѣ по грѣху мучитсѧ. а на судѣ Би҃и ѡсудисѧ в муку. такоже и се К бес покаӕньӕ пребъıс̑. и до послѣднѧго издъıханьӕ. оуподобивъсѧ злъıмъ єретикомъ не кланѧющимъсѧ. и погуби дш҃ю свою и тѣло. и погъıбе памѧт̑ ѥго с шюмомь. такоже чтуть бѣси чтущаӕ ихъ. ӕкож̑ и сего доведоша бѣси. възнесше мъıсль ѥго до ѡблакъ. и оустроивше в немь. в҃. го Сотонаила. и сведоша и въ адъ. ѡбрати бо сѧ болѣзнь ѥго на главу ѥму. и на верхъ ѥго неправда ѥго сниде. ровъ изръı и ископавъ жму впадесА в ню. то бо злЪ изъспроверже животъ свои»23.
Совершенно очевидно, что представленный отрывок цитирует соборное судебное осуждение, предлагая потомкам не только пример судебного вердикта, но высокого литературного слога, придававшего решению Собора окончательную убедительность. Примечательно, что этот высокопарный литературный слог близок к слогу богословского трактата, придавая вердикту завершённость, образность и следующую за нею убедительность.
Таким образом, при всем немногословии источников можно сделать вывод о том, что организация церковного суда на Руси была тесно связана с семантическими и эстетическими представлениями о правосудии. Это объяснялось как мировосприятием книжников и церковной среды в целом, так и особенностями эпохи. Настоящая красота проявляется в истине, а истина должна находить своё отражение в символических формах, воспринимавшихся как членами суда, так и иными участниками процесса в контексте религиозных представлений и ценностей.
Представленные в данной статье наблюдения несомненно могут быть уточнены в ходе исследования византийских и иных практик рассматриваемого периода. Однако эту работу оставим для других исследователей.
Список литературы К вопросу об эстетике церковного суда домонгольской Руси (постановка проблемы)
- Аргунов А.В. Пространство правосудия. М.: Городец, 2021. 344, [1] с.
- Виноградов А.Ю., Желтов М. С. «Первая ересь на Руси»: русские споры 1160-х годов об отмене поста в праздничные дни // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2018. №3 (73). С. 118-139.
- Житие Авраамия Смоленского // Библиотека литературы Древней Руси / РАН ИРЛ (Пушкинский Дом); под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 5: XIII в. СПб.: Наука, 1997. С. 30-65.
- Зотов С. О., Майзульс М., Харман Д. Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии. М.: АСТ, 2022. 446, [1] с.
- Конявская Е. Л. Споры о постах второй половины XII в. // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. 2012. № 1. С. 69-73.
- Мобилизованное средневековье: в 2 т. Т.1: Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах / Под ред. Д. Е. Алимова и А. И. Филюшкина. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2021. 476 с.
- Оспенников Ю. В., Гайденко П. И. Церковный суд на Руси Х!-Х!У вв. Исторический и правовой аспекты. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2020. 260 с.
- Памятники Древле-Русской духовной письменности: Житие преподобнаго Антония Римлянина // Православный собеседник. Кн. II. Казань, 1858. С. 157-171, 310-324.
- Полное собрание русских летописей. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Яз. рус. культуры, 2000. XI, 692 с.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М.: Яз. славян. культуры, 2001. A-N, VIII, 733 с.
- Шапиро Б. Л. Страшный суд Ивана Грозного: конь как ритуал и символ // Мир культуры и культурология. Альманах Научно-образовательного культурологического общества России / Научно-образовательное культурологическое общество; ред. И. В. Кондаков. Вып. 5. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С. 110-116.
- Elements of Ecclesiastical Law: Compiled with Reference to the Latest Decisions of the Sacred Congregations of Cardinals / Eds. by S. B. Smith. Vol. I: Ecclesiastical Persons. New York, Cincinnati, Chicago, 1895. 589p.
- Harte J. D. C. Doctrine, Conservation and Aesthetic Judgment in the Court of Ecclesiastical Causes Reserved // Ecclesiastical Law Journal. 1988. Vol. 1. Is. 2. P. 22-32.
- Helmholz R. H. The Oxford History of the Laws of England. Vol. 1: The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s. Oxford: Oxford University Press, 2004. XXXII, 693 p.