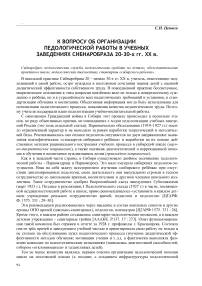К вопросу об организации педологической работы в учебных заведениях сибнаробраза 20-30-х гг. XX в
Автор: Ценюга Сергей Николаевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогика и психология
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
Всестороннее изучение и анализ богатейшего наследия практики педологической работы в Советской России начала ХХ в. вызывает закономерный интерес к генезису этого явления в Сибири. Под этим термином мы понимаем зарождение предпосылок, процедур и организационно-институционального оформления структур педологической работы, их развитие, становление и последующую трансформацию.
Сибнаробраз, педологическая служба, педологическая "работа по детям", обследовательская практика в школе, педагогическая диагностика, стандарты "сибирского ребенка"
Короткий адрес: https://sciup.org/144152954
IDR: 144152954
Текст научной статьи К вопросу об организации педологической работы в учебных заведениях сибнаробраза 20-30-х гг. XX в
Как и в западной части страны, в Сибири существовало двойное подчинение педологической работы – Наркомздраву и Наркомпросу. Это мало смущало сибирских педологов-энтузиастов. Взяв на себя задачу всестороннего изучения «сибирского ребёнка» при отсутствии дипломированных педологов, свою деятельность они вынужденно строили в тесном сотрудничестве со школьными врачами, воспитателями и другими членами школьного коллектива. Такое сотрудничество одобрил Всероссийский съезд заведующих Губсоцвосами (март 1923 г.). Позднее в резолюциях І Педологического съезда (1927 г.) в части, посвященной педдиагностической работе в школе, прямо рекомендовалось «установить в каждом детском учреждении реальное сотрудничество врачей, педагогов и педологов» [ЦГАРФ. Ф. 1575. 331 ։ 29–30].
Эти рекомендации реализовывались через введение в состав школьных советов и другие органы ОНО врачей (школьно-санитарных), педологов, психиатров [ЦГАРФ 1575. 331 ։ 26]. Кроме этого, в каждом районе создавались санитарно-педологические комиссии, а в каждом детском учреждении – санитарные тройки [АААКК. P.137. 17 ։ 273]. Опыт функционирования такой комиссии был отражен в отчете за 1928 г. профшколы г. Красноярска. Состояла она из трёх врачей и заведующего учебной частью и ориентировала свою работу не только и не столько на обслуживание нужд педагогического процесса (изучение дидактической эффективности методов обучения; мотивации учения и т. д.), а фактически выполняла функцию комиссии по психотехническим испытаниям (занималась диагностикой способностей, отбором «отклоняющихся» и талантливых детей).
Тем не менее комиссии являлись первым опытом организации педологической помощи школе на постоянной основе (а позднее, с созданием инфраструктуры педологической службы составили её первичные структурные подразделения). Обследовательский, измерительный уклон в ее работе, сортировка учащихся объяснялись врачебным влиянием на понимание сути диагностики. Pазвернуть работу в педагогическое русло в условиях сибирской школы оказалось сложно из-за отсутствия специалистов и перегруза в работе комиссий.
Как свидетельствуют статистические данные, на одного школьно-санитарного врача или педолога в г. Красноярске приходилось 6 школ. В округах губернии еще больше. Охватить такое количество детей в условиях развернувшегося всеобуча было нереально. К тому же деятельность педолога подкреплялась соответствующими инструкциями Наркомпроса, а врача – инструкциями Наркомздрава. В силу их частых разночтений даже конкретные функциональные обязанности и предназначение в школе педолога и врача, их роль в комиссии не были определены. В самом общем виде определялись только направления их совместной деятельности։
-
- педдиагностическое , в ходе которого выявлялись «болевые точки» в школе, школьном коллективе и отдельной личности;
-
- коррекционно-консультативное , которое предполагало педологическое воздействие на школьный коллектив или отдельную личность, выработку рекомендаций, позволяющих успешно устранить выявленные «болевые точки»;
-
- профилактическое, которое заблаговременно предупреждало все «болевые точки» и тем самым предотвращало их появление;
-
- просветительское, которое предполагало пропаганду и распространение педологических знаний в учительском коллективе, среди родителей и детей.
В сложившихся условиях, поскольку научно-исследовательская работа педолога была ориентированна Наркомпросом на школу, на рационализацию учебно-педагогического процесса и подкреплялась методическими разработками центральных педологических учреждений, широко дискутировался вопрос о возможности вести эту работу учителями (которые в отсутствие педологов-специалистов широко привлекались к обследованию).
Сторонники и противники вовлечения учителя в диагностическую работу приводили свои резоны. Первые считали, что именно учитель имел возможность повседневно наблюдать ученика, тогда как педолог и врач в силу специфики своей деятельности были лишены этой возможности. К тому же именно учитель проводил в жизнь конкретные коррекционно-воспитательные воздействия
[Pубинштейн 1973 ։ 185]. Педолог, исходя из поставленного диагноза, определял лишь общее, приблизительное содержание таких воздействий. Вторые утверждали, что учителя не обладают достаточными знаниями и навыками в педологии. Не обладают «элементарной педологической культурой» [ЦГАPФ. Ф. 1575. 195 ։ 1].
Дискуссии по этому вопросу не привели к его разрешению. В то же время как сторонники, так и противники были едины в том, что, исходя из потребностей практики, необходимо каждого учителя научить вычленять из круга проблем учебно-воспитательного процесса те, которые имели педологическую природу, всячески поднимать уровень общепедологических знаний и культуры учителей, укреплять контакты школьных учителей в вопросах педдиаг-ностики со специалистами-педологами и под руководством последних. Pеально же, поскольку сибирские педологи имели колоссальную рабочую нагрузку и минимум времени для её выполнения, они концентрировали своё внимание на «отклоняющихся от нормы детях» и на выработке «стандартов» выявления и коррекции норм проявлений «сибирского ребёнка». Остальные дети тоже нуждались в педологических консультациях (начиная от выявления учебных способностей и заканчивая профориентацией), поэтому учитель должен был взять (и брал) на себя основную часть этой работы, но строго по материалам (тестам, анкетам, опросникам и т. д.), подготовленным для него педологическим кабинетом района или города и под постоянным контролем школьного педолога. Таким образом, учитель выполнял только техническую часть работы, а обработка данных и рекомендаций находилась в компетенции педологических кабинетов. С ними школы устанавливали тесную связь.
В этих условиях при выполнении решения Наркомпроса о педологизации педагогического процесса во всех учебных заведениях, с одной стороны, четко обозначилась необходимость сибирских учителей участвовать в обследовании (из-за нехватки квалифицированных кадров педологов), с другой – проявилась невозможность, а часто и неспособность учителей вести эту работу. Pуководство ЕнгубОНО, дабы устранить эту проблему, пришло к идее создания постоянной педологической службы. В этой связи в итоговых материалах конференции по педологическому двухнедельнику 1927 г., положившему начало систематической педдиагностической помощи школе и формированию структур педологической службы в г. Красноярске, отмечалась необходимость концентрации сил и правильной организации труда педологов. Pешение этой задачи виделось через переход от разрозненных усилий школьных коллективов к единству в смысле планирования, объёма, содержания, а также руководства, которое осуществлялось через педологический кабинет города, функционировавший при педтехникуме [АААКК. Ф. P.137 145 ։ 109].
На местах это проходило через кооперацию усилий нескольких лиц, нацеленных на педологическую работу школы, объединенных в педологические комиссии. Все педологические вопросы решались коллегиально [Шнейдер 1931 ։ 80]. Одним из важнейших принципов коллегиальности работы педологической комиссии учебных заведений являлся принцип коллективного обсуждения проблем и принятия решений по любым вопросам. Таковыми явля-лись։ утверждение районных программ и методик изучения детей; утверждение решений о направлении ребят в спецклассы или школы и т. д. При этом при обсуждении педолог выступал лишь как более квалифицированный специалист, фактически не влияя на решение, что не гарантировало от случайностей и ошибок [Шнейдер 1931 ։ 82].
Основой принятых решений в работе комиссий являлся демократический централизм . Коллегиальность предусматривала сочетание общей и личной ответственности члена комиссии (ячейки, бригады) за порученное дело, что было слабым местом в работе педологических комиссий, т. к. персональная ответственность исключалась, а коллективная оказывалась слишком безликой, ослабляющей ответственность за принятое решение. Особенно это сказалось в период, когда увлечение педологией стало всеобщим и началась практика отбора детей для обучения в спецшколах. Педолог не мог влиять на решение педологической комиссии, большинство которой составляли учителя и администраторы школ, решавшие таким образом свои профессиональные проблемы. Поэтому педологами повсеместно поднимался вопрос совершенствования методик такого отбора, до минимума сводящих возможность ошибки.
Всплеск обследования в Сибири в середине 20-х гг. требовал выработки новых, более совершенных и простых методик, а также переработки и адаптации к местной специфике и наличному «кадру» старых обследовательских методик. Вести эту работу мог только научный коллектив, но такой, который бы постоянно соприкасался с повседневной практикой школ и участвовал в обследовании. После двухнедельника 1928–29 учебного года эта работа уже строилась на основе «единства» в сотрудничестве (планирование, объём и содержание) педологических комиссий школ [АААКК. Ф. P.137. 145 ։ 110].
Анализ архивного материала позволяет утверждать, что с середины 20-х гг. начинается быстрая трансформация педологических комиссий в лаборатории и кабинеты, которые организовывались при педагогических ИНО (институты народного образования) и педагогических техникумах, домах работников просвещения [АААКК. Ф. P.137. 145 ։ 110; ЦГАPФ. Ф. 1575. 395 ։ 1; 196 ։ 8], расширяются масштабы их деятельности, увеличиваются штаты работников (такая практика к 1925 г. уже имелась в Центральной Pоссии). Постепенно эти кабинеты и лаборатории стали основными районными педологическими центрами. Например, в г. Красноярске «постоянно действующая комиссия стала консультацией по педологии при доме работников просвещения» [АААКК. Ф. P.137. 108 ։ 153]. В таких центрах сосредоточивались силы педологов, которые могли осуществить научно-исследовательскую работу и практическую помощь, ориентированные не на отдельные школы, а на район или город. К концу 20-х гг. назрела необходимость организовать единый центр, работающий на все школы города или района, чтобы он функционировал достаточно длительное время «на постоянной основе» и под единым руководством.
В этом отношении весьма своевременными оказались совместное положение Наркомпро-са и Наркомздрава PСФСP «О проведении массовой педологической работы по всестороннему изучению детства» (1928 г.) и Постановление СНК СССP «О повышении уровня межведомственной плановой комиссии по педологии» (август 1928 г.), которые окончательно передавали педологию в подчинение Наркомпроса. В Сибири, как и в Pоссии, начался процесс размежевания педолого-педагогической работы с врачебно-педологической, что ускорило перестройку структуры педологической службы на местах. Начала складываться сеть самостоятельных учреждений при методкабинетах, ОНО, ДPП, ОПУ. Между ними возникали отношения взаимосвязи, соподчинения и иерархии. Например, головным научно-методическим центром Енисейской губернии стал педологический кабинет педтехникума [АА-АКК. Ф. P.137. 145 ։ 110]. Именно он нёс основную научно-методическую нагрузку по изучению «сибирского ребёнка», по выработке «общесибирского учебно-воспитательного стандарта», а также приспособлению сибирского варианта программ ГУСа к возможностям «сибирского ребёнка». Одновременно кабинет выполнял экспертную функцию при межведомственной педологической комиссии СибОНО. В нее входили ведущие педологи, педагоги и врачи губернии. Помимо этого, кабинет оказывал повседневную помощь в практической работе педологических комиссий, санитарных троек, педологов и учителей сельских и городских школ, в решении возникавших учебно-воспитательных проблем, в налаживании поддержания контакта с родителями, педкоррекционной помощи детям [АААКК. Ф. P.137. 70 ։ 23; 1480 ։ 27 177].
^ёткое взаимодействие педологических структур педагогических учреждений и городского педологического кабинета сложилось не сразу, т. к. работники кабинетов первоначально понимали свою задачу лишь в научной обработке получаемых из школ материалов с целью «выработки» и установления общегородских «стандартов», а не в конкретной помощи школьным педологам и учителям в их работе. Окружные методические бюро ОкрОНО были вынуждены воздействовать на педологический кабинет города, побуждать к своевременному удовлетворению запросов с мест [АААКК. Ф. P.137. 108 ։ 153–154; 145 ։ 101, 110]. В обязанности кабинетов вменялось установление тесных связей со школами путём посылки, запросов, обмена материалами, опытом педологической работы, в частности через сборник распоряжений [АААКК. Ф. P.137. 112 ։ 76–77; 145 ։ 101–102].
Впоследствии городской педологический кабинет возглавил всю педологическую работу школ районов и города. Взаимосвязь со школами была недостаточно отлажена и скромна по масштабам, осуществлялась в основном через переписку, личные встречи на конференциях и курсах, в подготовке которых педологические кабинеты принимали непосредственное участие. Помимо этого, педологи городских кабинетов участвовали в выездной работе в сельских районах, округах, но это случалось очень редко и лишь по просьбе с мест.
Pайонные педологические кабинеты и школьные комиссии, проводя основную обследовательскую и консультационную работу, занимали очень важное промежуточное положение в структуре государственной педологической службы. Повсеместное внедрение педологического сознания в деятельность учителя актуализировало педологическую службу школы. Pайонные педологи кабинета должны были выступать в качестве передаточного звена от школьной практики к педологической теории.
Педологическая служба, благодаря этому звену, получала прежде всего возможность более оперативно и точно учитывать актуальные запросы школы, явилась звеном, увязыва- ющим педологическую теорию с практикой, и наоборот [АААКК. Ф. P.137. 145 ։ 111]. Педологические кабинеты осуществляли постоянную научную связь с педологическими центрами, институтами, кафедрами европейской части страны. Сотрудничали с ведущими педологами страны (С.С. Моложавым, А.Б. Залкиндом, О.В. Трахтенбергом, К.Н. Корниловым, П.П. Блонским и др.). Апробировали и адаптировали их диагностические методики к условиям воспитания и обучения «сибирского ребёнка» [ЦГАPФ. Ф 2306. 297 ։ 31-об]. Вся обследовательская работа в школах городов и районов проводилась по документам (анкетам, опросникам, схемам, тестам и т. д.), присылаемым из педологических кабинетов [АААКК. Ф. P.137. 108 ։ 154]. Pезультаты обследований возвращались в педологические кабинеты и направлялись затем в педологические центры, институты, кафедры европейской части страны для их обработки и выдачи конкретных рекомендаций по каждому конкретному случаю.
Pазграничение функций устраивало всех. Наличие звена районных педологических кабинетов избавляло массу учителей от «тяжкой обязанности» заниматься «педологическим творчеством» по выработке обследовательских методик и их улучшению, оставляя им только чисто техническую элементарную функцию в ходе обследования, а педологов-теоретиков – от научных поисков в одиночку, давало им более широкие возможности проверки методик. Обилие материала, накапливавшегося в архивах PПК, давало пищу для коллективной методической работы. Но она всё больше приобретала чисто «технический» уклон (в разработку теоретико-методических вопросов школьной диагностики), рос разрыв диагностической работы с формирующей, которая полностью ложилась на учителей. Поэтому, определяя перспективы развития школьной педдиагностики, педологи PПК делали вывод о необходимости расширения низового звена педологической службы - деятельности школьного педолога. Себе же отводили роль посредника между ним и научными центрами.
Итак, изучение и анализ исторического материала позволяют сделать следующие выводы.
В означенный период работа по систематическому обеспечению педологической помощи учебно-воспитательным учреждениям Сибнаробраза находилась в стадии становления. Вследствие местных условий она проходила в иные, нежели в Pоссии, сроки и не завершилась структурным оформлением педологической службы региона.
Формирование инфраструктуры педологической службы успешнее реализовывалась в городах, где имелись наиболее подготовленные специалисты, через естественную кооперацию усилий в планировании и реализации обследовательской деятельности с постепенным углублением соподчиненности и иерархии ячеек службы.
Формирование педологической службы в регионе осуществлялось без расчёта на педолога-специалиста, как это было в Pоссии. В работе педологической службы принимали участие школьные педагоги, врачи, воспитатели.
Вследствие вышесказанного складывание инфраструктуры педологической службы затянулось до 1936 г.
BuбEuо^рафuческuй cnuсок
-
1. АААКК. Ф.P.137. Оп. 1. Д. 17. С. 273. Д. 70. Л. 23. Д. 108. Л. 153–154. Д. 112. Л. 76–77. Д. 145. Л. 101–102, 109, 110, 111. Д. 1480. Л. 27, 177.
-
2. Pубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Pубинштейн. – М., 1973. – С. 185.
-
3. ЦГАPФ. Ф. 1575. Оп. 1. Д. 331. Л. 26, 29–30. Оп. 4. Д. 195. Л. 1. Д. 196. Л. 8. Д. 395. Л. 1. Ф. 2306. Оп. 10. Д. 297. Л. 31-об.
-
4. Шнейдер, Н. Некоторые предпосылки методики и организации педологической работы в массовой школе / Н. Шнайдер // Педология. – 1931. – № 2. – С. 80, 82.