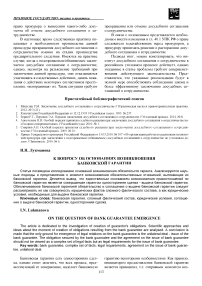К вопросу об основаниях возникновения банковской гарантии
Автор: Лукманова И.Н.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию оснований возникновения обязательств гаранта. Анализируются научные подходы и представления о моменте возникновения обязательственных отношений, вытекающих из банковской гарантии. Делается вывод, что единственным основанием возникновения правоотношений по банковской гарантии является совершаемая гарантом односторонняя сделка - выдача банковской гарантии. Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство и соглашение о выдаче банковской гарантии следует рассматривать не как совокупность юридических фактов сложного фактического состава, а как юридические условия, необходимые для выдачи банковской гарантии.
Банковская гарантия, сложный фактический состав, юридические условия, соглашение о выдаче банковской гарантии, односторонняя сделка
Короткий адрес: https://sciup.org/142233685
IDR: 142233685
Текст научной статьи К вопросу об основаниях возникновения банковской гарантии
Банковская гарантия есть односторонняя сделка, однако стоит заметить, что весь процесс, предшествующий ее совершению, наделяет банковскую гарантию некоторыми особенностями. Как правило, инициатором предоставления банковской гарантии является принципал, т.е. отправным моментом воз-113
никновения обязательственных отношений, вытекающих из банковской гарантии, является момент обращения принципала к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии, нашедшей свое законодательное закрепление в ст. 368 ГК РФ. Термин «просьба» не имеет точного юридического смысла, однако понятно, что без какого-либо обращения принципала к гаранту последний не имеет никаких оснований для выдачи банковской гарантии.
При этом следует отметить, что гарант вправе отказать в выдаче гарантии, поскольку в законе не содержится предписаний, понуждающих соответствующих субъектов к выдаче банковской гарантии. По этому поводу показателен следующий пример из практики.
Так, отказывая в удовлетворении иска организации к банку об обязании в течение 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда выдать банковскую гарантию на условиях соглашения о выдаче банковской гарантии, суд, учитывая положения п. 2 ст. 154 ГК РФ, п. 3 Информационного письма ВАС РФ и существо гарантийного обязательства, как односторонней сделки, в основе которой лежит волеизъявление гаранта, указал на то, что возможность понуждения банка или иной кредитной организации к выдаче банковской гарантии действующим законодательством не предусмотрена [1]. Таким образом, судебная практика идет по пути признания единственным основанием возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром - совершаемая им односторонняя сделка - выдача банковской гарантии.
Согласно общепринятой практике принятию обязательства гаранта перед бенефициаром предшествует соглашение между принципалом и гарантом о выдаче гарантии. Договорный характер взаимоотношений принципала и гаранта подтверждают положения п. 1 ст. 379 ГК РФ, предусматривающего, что право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия, а также п. 2 ст. 369 ГК РФ, устанавливающего, что за выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.
Наличие соглашения о банковской гарантии позволило некоторым исследователям прийти к выводу, что основанием возникновения гарантийных обязательств является сложный юридический состав, состоящий из нескольких юридических фактов, следующих друг за другом в определенной последовательности [2, с. 415], при этом какие это юридические факты в цивилистике решается неоднозначно, в связи с чем можно говорить о дискусси-онности вопроса об основаниях возникновения одностороннего обязательства гаранта перед бенефи- циаром. Здесь представляется уместным отметить, что установление оснований возникновения любого гражданско-правового обязательства, в том числе вытекающего из банковской гарантии, необходима предпосылка для теоретического анализа складывающихся правоотношений. Более того, подобный подход имеет существенное значение для правоприменительной практики, поскольку ошибочное представление об основаниях возникновения правоотношений по банковской гарантии может привести к тому, что субъекты гражданского права не достигнут определенной цели, а именно, установление отношений по банковской гарантии.
Касаясь вопроса об основаниях возникновения одностороннего обязательства гаранта перед бенефициаром, Г.А. Аванесова утверждает, что для возникновения отношений по банковской гарантии необходимо наличие трех юридических фактов: во-первых, соглашения, оформляющего основное обязательство между принципалом и бенефициаром, во-вторых, договора между принципалом и гарантом о предоставлении банковской гарантии, и, в-третьих, выдачи банковской гарантии [3, с. 56-65]. Сходную точку зрения высказывает В.А. Абрамов [4, с. 63].
Обозначенный подход к определению состава юридических фактов, влекущих возникновение обязательственных отношений по банковской гарантии, представляется спорным. В частности, вызывает сомнение включение в фактический состав основного обязательства, в обеспечение которого выдается банковская гарантия. Предполагается, что на момент выдачи гарантии такое обязательство существует. Однако, легально не запрещено выдавать гарантию в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем. Отсутствие по той или иной причине основного обязательства не изменяет содержания прав и обязанностей гаранта и бенефициара. Как отмечает О.Н. Садиков, исполнение основного обязательства может оказаться ненадлежащим, а прекращение или недействительность основного обязательства - только предполагаемым, и по этим вопросам возможны длительные споры, в том числе судебные. Такие обстоятельства не должны ослаблять юридическую надежность гарантии как способа обеспечения [5, с. 625]. Иной подход втягивает гаранта в споры между сторонами по основному обеспечиваемому обязательству - а это то, чего старался избежать законодатель при создании такой конструкции обязательства.
Следовательно, факт существования основного обязательства на момент обращения принципала к гаранту, а также при выдаче гарантии не обязателен и выдача гарантии может быть условием для его возникновения.
Относительно двух других юридических фактов, а именно, во-первых, соглашения между прин-114
ципалом и гарантом о выдаче банковской гарантии и, во-вторых, выдачи банковской гарантии, следует отметить, что некоторые ученые (Т.В. Богачева [6, с. 435], Е.А. Перепелкина [7, с. 71], В.В. Паплинс-кий [8, с. 136], Ю.Б. Сафонова [9, с. 148]) рассматривают их совокупность в качестве сложного фактического состава, влекущего возникновение отношений, предусмотренных ст. 368 ГК РФ. При этом подчеркивается, что прежде всего, требуется заключение соглашения между принципалом и гарантом о предоставлении банковской гарантии [6].
Приведенная позиция представляется излишне категоричной. Действительно, анализ содержания статей ГК РФ, посвященных банковской гарантии, приводит к мысли о том, что соглашение гаранта и принципала предшествует выдаче банковской гарантии. Ст. 379 ГК РФ содержит прямое указание, что гарантия выдается во исполнение соглашения. Однако, с другой стороны, в легальном определении банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ) говорится лишь о предоставлении гарантии по просьбе принципала и отсутствует упоминание о соглашении.
Б.М. Гонгало справедливо указывает на определенное противоречие между нормой, сформулированной в ст. 368, и п. 1 ст. 379 ГК, однако, по мнению ученого, значение данного противоречия не следует переоценивать, оно лишь кажущееся. Во-первых, в ст. 379 ГК излагаются правила о регрессных требованиях гаранта к принципалу, т.е. речь идет о частных вопросах, возникающих лишь на определенном этапе развития отношений гаранта и принципала. Для понимания сущности этих отношений норма ст. 368 ГК, несомненно, имеет большее значение, поскольку содержит дефиницию банковской гарантии; эта норма имеет основополагающее значение для всех прочих норм, сформулированных в § 6 гл. 23 ГК. Во-вторых, должник по какому-либо обязательству, обращаясь к банку с просьбой дать гарантию (совершить одностороннюю сделку), тем самым одновременно предлагает установить обязательственные отношения между ним и банком. Удовлетворяя данную просьбу должника, банк дает гарантию (совершает одностороннюю сделку) и одновременно тем самым выражает согласие на вступление в обязательство с должником. Банк с этого момента становится гарантом, должник - принципалом. Таким образом, при выдаче гарантии по просьбе другого лица нельзя говорить, что между ними нет соглашения (договора как юридического факта, породившего обязательство между гарантом и принципалом). Другое дело, что может не быть соглашения в надлежащей форме (договора как документа, содержащего условия соглашения) [10].
В связи с этим представлется ошибочным мнение Л.А. Бирюковой, полагающей, что просьба принципала, наряду с соглашением о предоставле-115
нии банковской гаранта и выдачей гарантии является элементом фактического состава, влекущего возникновение правоотношений по банковской гаранта, в том числе правоотношений между гарантом и принципалом [11, с. 20-21].
В теории права под фактическим составом понимается система юридических фактов, необходимая для наступления юридических последствий (возникновения, изменения, прекращения правоотношения) [2, с. 19], при этом под сложным фактическим составом следует понимать систему фактов, между которыми существует последовательная обусловленность, жесткая зависимость: факты в составе должны накапливаться в строго определенном порядке [2, с. 417], причем появление очередного элемента открывает возможность для накопления следующего [12]. Динамика составов, построенных по принципу последовательности накопления, открывается не любым, а строго определенным элементом. При этом отмечается, что для возникновения правовых последствий необходимо не только наличие всех элементов, но и обязательное соблюдение порядка их следования. Нарушение этого порядка, как правило, влечет юридическую недействительность состава и невозникновение правовых последствий [12].
При возникновении фактического состава с нарушением право отвечает юридической санкцией. В юридической литературе невозникновение правовых последствий называют «санкцией недействительности» [13, с. 134-135], смысл которой заключается в том, что стороны не достигнут тех целей, ради которых они вступали в соответствущие правоотношения.
О.Э. Лейст различает две разновидности санкций недействительности: пассивную, когда правовые последствия просто не наступают, и активную, когда дефектный юридический факт не только не оказывает действия, но и сам подлежит отмене в установленном порядке [14, с.72-78, 106, 116-131].
В.Б. Исаков отмечает, что недействительность фактического состава лишает правового основания уже сложившиеся отношения [12]. В известных ситуациях это может повлечь массовый распад правовых связей, когда недействительность одного звена лишает правового основания следующее и тд. Разумеется, подобного рода «цепные реакции» отнюдь не способствуют укреплению правопорядка.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о невозможности признания в качестве основания возникновения правоотношений по банковской гарантии сложного фактического состава, включающего в себя два элемента (соглашение о выдаче банковской гарантии и выдача банковской гаранта как односторонняя сделка), так как признание недействительным соглашения гаранта с принципалом повлечет за собой недействительность и односторонней сделки гаранта, что, в свою очередь приведет к распаду всех образовавшихся правовых связей (т.е. распаду всего юридического состава).
В связи с этим представляется вполне логичной и обоснованной позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, признающего в качестве основания возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром одностороннюю сделку, при этом отмечается, что действительность этого обязательства не зависит от наличия письменного соглашения между гарантом и принципалом [см.: прим. 1]. Суды положительным образом восприняли такой подход.
Так, по одному из рассмотренных дел, суд указал что обязательного заключения отдельного договора о предоставлении банковской гарантии ГК РФ не требует, т.е. банковская гарантия может быть выдана и в отсутствие такого договора. Факт того, что заявитель заключил с банком два одинаковых договора о предоставлении банковской гарантии, но за разными числами, в которых указаны разные сроки действия банковской гарантии, а также что заявитель не-своевременно произвел оплату по договору банку за выдачу банковской гарантии, не влияют на законность самой банковской гарантии и не опровергают факта ее выдачи и передачи от банка заявителю, поскольку указанные отношения по заключению договоров о предоставлении банковской гарантии и исполнению их условий являются внутренним делом сторон гражданско-правового договора. Таким образом, независимый характер банковской гарантии означает, что она может быть выдана и без заключения договора о выдаче банковской гарантии [см.: прим. 2].
Кроме того, позиция законодателя также отражает правильность данного подхода к основанию возникновения обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Так, в ст. 370 Проекта ГК РФ предлагается закрепить правило, в соответствии с которым предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечении исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в гарантии и содержатся ссылки на них.
Признавая единственным основанием возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром одностороннюю сделку, справедливо может возникнуть вопрос о правовом значении соглашения гаранта и принципала, а также основного обязательства.
В юридической литературе среди юридических фактов и фактических составов, выделяют такие юридические факты, которые, хотя и необходимы для наступления правовых последствий, все же находятся за рамками фактического состава. Рас- сматриваемую группу фактов называют «нормативными» или «юридическими» условиями. Это позволяет отграничить их от юридических фактов и фактических составов - фактических предпосылок - и в то же время подчеркнуть их юридическое значение для возникновения правовых последствий.
Особым видом юридических условий являются факты, с которыми связано возникновение правосубъектности. Эти факты также не входят в конкретные составы, но, можно сказать, «примыкают» к ним, поскольку они юридически необходимы для появления каждого конкретного состава и наступления правовых последствий [12].
Здесь обоснованно может возникнуть вопрос о том, как провести границу между фактическим составом и иными юридически условиями. Указанный вопрос уже поднимался в юридической науке. Некоторые ученые считают, что в сложный фактический состав должны быть включены не только юридические факты, лежащие в основании возникновения данного обязательственного правоотношения, но и соответствующие условия, без которых определенные группы и виды обязательственных правоотношений возникнуть не могут [15, с. 72; 16, с. 124-125; 17, с. 76-77; 18, с. 36]. Следует согласиться с отмеченной позицией, что помимо юридических фактов существуют «юридические условия», без которых правовое последствие возникнуть не может. Однако, как справедливо отмечает В.Б. Исаков, вряд ли будет правильным включать эти условия в фактический состав. По мнению ученого, подобное приведет к «размыванию» границ фактического состава, тога как они должны быть достаточно четкими.
В.Б. Исаков, подробно исследуя фактический состав в механизме правового регулирования, выделил два критерия, позволяющих определить в в каждом конкретном случае границы фактического состава. Первый: фактический состав закрепляется обычно в одном нормативном акте, в одной или нескольких взаимосвязанных нормах. Второй критерий заключается в том, что конкретный фактический состав - это компактный, «узкоспециализированный» комплекс фактов. Как правило, элементы фактического состава не предусматривают «многократного использования». В отличие от этого, отличительной чертой юридических условий является их длительный характер. Юридические условия возникают до появления юридических фактов (составов) и могут долгое время существовать в потенциальном состоянии, не порождая каких-либо правовых последствий [12].
Отграничение фактического состава от юридических условий имеет практическое значение. В процессе правотворчества необходимо четко определять юридическое качество каждого факта: является ли он юридическим условием либо фактической 116
предпосылкой. Правильное определение структуры юридически значимых фактов позволяет исключить громоздкие фактические составы, добиться экономного урегулирования общественных отношений. Не одинакова роль фактических предпосылок и юридических условий и в правоприменительной деятельности. Если фактическая предпосылка (юридический факт, фактический состав) устанавливается с необходимой полнотой и строгостью, то выяснение юридических условий обычно выходит за пределы доказывания [12].
Таким образом, соглашение о выдаче банковской гарантии и основное обеспечиваемое обязательство следует рассматривать в качестве юридических условий, без которых наступление правового последствия, возникновение одностороннего обязательства гаранта, невозможно.
Сказанное выше позволяет прийти к следующим выводам. Единственным основанием возникновения обязательства гаранта перед бенефициаром - совершаемая им односторонняя сделка - выдача банковской гарантии. Соглашение о выдаче банковской гарантии и основное обязательство следует рассматривать не как совокупность юридических фактов сложного фактического состава, а с точки зрения юридических условий, влекущих известные правовые последствия. Сведение значения указанных юридических фактов к юридическим условиям означает, что признание недействительным одного из условий (соглашения о выдаче банковской гарантии или основного обязательства) не повлечет недействительность банковской гарантии, что в конечном итоге не приведет к достижению определенной цели. Кроме того, как было отмечено выше, элементы фактического состава при наступлении правовых последствий могут и не иметь длительного действия, в то время как, например, соглашение о банковской гарантии регулирует отношения между принципалом и гарантом и после выдачи банковской гарантии, что отвечает признакам или является отличительной чертой юридических условий.
Список литературы К вопросу об основаниях возникновения банковской гарантии
- Постановление ФАС Московского округа от 24.10.2013 по делу № А40-154016/2012 . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. М., 2009.
- EDN: QQTJJP
- Аванесова Г.А. О банковской гарантии.Хозяйство и право. 1997. № 7.
- Абрамов В.А. Сделки и договоры: Комментарии. Разъяснения. М., 1997.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный)/Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1998.