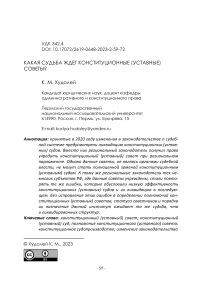Какая судьба ждет конституционные (уставные) советы?
Автор: Худолей К.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Публично-правовые науки
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Принятые в 2020 году изменения в законодательстве о судебной системе предусмотрели ликвидацию конституционных (уставных) судов. Вместо них региональный законодатель получил право учредить конституционный (уставный) совет при региональном парламенте. Однако данные советы, не являясь органами судебной власти, не могут стать полноценной заменой конституционным (уставным) судам. К тому же региональные законодатели тех немногих субъектов РФ, где данные советы учреждены, стали повторять те же ошибки, которые обусловили низкую эффективность конституционных (уставных) судов и их ликвидацию в последующем. Без исправления этих ошибок в определении полномочий конституционных (уставных) советов, статуса советников и порядка их назначения данный институт ожидает та же судьба, что и ликвидированных структур.
Конституционный (уставный) совет, конституционный (уставный) суд, полномочия конституционного (уставного) совета, конституционное судопроизводство, изменение законодательства
Короткий адрес: https://sciup.org/147240631
IDR: 147240631 | УДК: 342.4 | DOI: 10.17072/2619-0648-2023-2-59-72
Текст научной статьи Какая судьба ждет конституционные (уставные) советы?
18 ноября 2020 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в третьем и окончательном чтении закон о полной ликвидации конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ должны быть ликвидированы не позднее 1 января 2023 года, но уже сразу после вступления закона в силу им запрещается принимать новые дела к производству1. Вместо них каждый регион может создать при своем парламенте конституционный или уставный совет.
Как и следовало ожидать, формулировка о праве субъектов РФ создать такие советы привела к тому, что к 1 января 2023 г. (к моменту окончательной ликвидации региональных конституционных или уставных судов) лишь небольшое число регионов решилось сделать это. К настоящему времени конституционные советы созданы в Адыгее, Республике Саха (Якутия), Башкортостане. Ведется работа по принятию соответствующего закона в Татарстане. Как видно, конституционные советы созданы только в тех регионах, в которых ранее действовали конституционные суды, а до этого – различные квазисудебные органы конституционного контроля, то есть там, где имелся опыт создания подобных органов в прошлом. Напомним, с 1990 по 1999 год в Татарстане и Северной Осетии – Алании функционировали комитеты конституционного контроля; с 1996 по 2000 год в Адыгее действовала Конституционная палата. Опыт создания квазисудебных органов конституционного (уставного) контроля имели и другие субъекты РФ. В Иркутской области в 1997–1998 годах существовала Уставная палата. Конституция Республики Коми в 1994–1998 годах и Конституция Республики Чувашия с 1990 по 2000 год содержали упоминание о комитетах конституционного надзора. Устав Тюменской области с 1995 по 1998 год предусматривал создание Судебной палаты области; Уставы Новосибирской области с 1996 по 1999 год и Алтайского края до 1996 года – создание Уставной судебной палаты, а Устав Ставропольского края с 1994 по 2000 год – Согласительной палаты. Но области и края никаких инициатив по организации у себя уставных советов пока не проявили. Взамен ликвидированных уставных судов в Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях уставные советы не были созданы. Не наблюдается никаких перспектив по созданию таких органов и в тех субъектах РФ, которые ликвидировали свои уставные суды задолго до 2023 года (Челябинская область) либо отказались их формировать, несмотря на принятые (а впоследствии отмененные) законы о таких судах (Иркутская область, Тюменская область, Красноярский край, ХМАО, Ставропольский край).
По сути, федеральный законодатель наступил на те же грабли, повторив то, что ранее было сделано с самими конституционными (уставными) судами: во многом именно диспозитивный характер нормы статьи 27 ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации», предоставлявшей право регионам создать у себя органы конституционного (уставного) правосудия (а не возлагавшей на них соответствующую обязанность по учреждению), привел к тому, что только незначительное число субъектов РФ
ХУДОЛЕЙ К. М. __________________________________________________________________ их сформировало2. Наряду с непоследовательностью федерального законодателя в науке отмечалась и низкая заинтересованность самих регионов в учреждении подобных структур3. Но даже в тех немногих субъектах Федерации, где конституционные (уставные) советы взамен конституционных (уставных) судов были созданы, региональным законодателям при регулировании их деятельности не удалось избежать тех ошибок, которые обусловили низкую эффективность региональных органов конституционного (уставного) правосудия.
Причин ликвидации конституционных (уставных) судов и их «переформатирования» в конституционные (уставные) советы несколько. Следует констатировать, что региональные конституционные (уставные) суды так и не смогли встроиться в устоявшуюся систему отношений между законодательными и исполнительными органами власти в регионах. Поэтому региональные законодатели нередко сокращали полномочия конституционных (уставных) судов (Санкт-Петербург, Республика Тыва), либо поднимали вопрос об их ликвидации еще задолго до 2023 года в связи с непринятием вынесенных ими итоговых решений (Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Саха (Якутия)), либо блокировали деятельность этих органов посредством отказа от внесения в них кандидатур на должность судей (Иркутская область, Свердловская область, Бурятия).
В некоторых случаях конституционные (уставные) суды принимали решения, противоречившие правовым позициям федерального конституционного суда, чем создали угрозу для российского федерализма (Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Республика Саха (Якутия)), межнационального мира и согласия в регионах (Ингушетия). Впоследствии именно решения Конституционного Суда РФ фактически лишали юридической силы соответствующие акты региональных конституционных (уставных) судов, несмотря на то что федеральный конституционный суд не является судом второй инстанции по отношению к региональным органам конституционного (уставного) правосудия. Все эти обстоятельства снижали доверие населения и побуждали обра- щаться в Конституционный Суд РФ непосредственно. Да и федеральный законодатель после принятия в 2020 году изменений в Конституцию РФ и в ситуации построения единой системы публичной власти в стране (а значит, и централизации судебной власти) уже не мог допустить саму идею существования региональных органов судебной власти, которые могут идти наперекор федеральным органам власти или устоявшемуся консенсусу региональных властей4.
В таких условиях в региональные конституционные (уставные) суды обращалось не так много заявителей, что делало сомнительной саму идею конституционной (уставной) юстиции: по закону «О статусе судей в Российской Федерации»5 судьи конституционных (уставных) судов должны работать на постоянной профессиональной основе, однако тратить несколько десятков миллионов рублей ежегодно ради органа, который в лучшем случае рассматривает несколько дел в год (либо всего одно дело за десятилетие, как в Чечне), абсолютно неоправданно. По сути, конституционные (уставные) суды превратились в дорогие игрушки, дань эпохе суверенизации республик (как уже отмененные институты гражданства или президентов республик в составе России) либо в синекуры для лояльных власти представителей юридического истеблишмента. Таким образом, конституционные (уставные) суды фактически не могли продолжать работу как эффективные органы, на которые возложена обязанность по защите основных законов субъектов РФ, конституционных прав граждан, разрешению споров между органами власти.
Учрежденным конституционным (уставным) советам, по нашему мнению, уготовлена та же участь. Решения конституционных советов подлежат утверждению региональными парламентами либо их комитетами и комиссиями. Вряд ли такие государственные органы, которые не являются органами судебной власти и не могут выносить общеобязательные решения для граждан, организаций и органов власти, могут стать полноценными органами конституционного контроля, как ликвидированные конституционные (уставные) суды. К тому же у регионального законодателя нет единого подхода в регулировании полномочий конституционных (уставных) советов, статуса членов этих органов и порядка реализации ими своих полномочий.
Так, по законодательству Адыгеи Конституционный совет учреждается только «в целях выработки заключений по внесенным в Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея проектам конституционных законов Республики Адыгея»6. На наш взгляд, крайне сомнительно создавать орган только для этих функций, тем более что во многих случаях изменение региональных конституций (уставов) обусловлено необходимостью привести их в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Стоит ли говорить, что полномочия и ликвидированного Конституционного суда Республики Адыгея, и Конституционной палаты Республики Адыгея (функционировала с 1996 по 2000 год) были более обширными. При этом региональный законодатель не стал передавать функцию толкования Конституции Республики Адыгея парламенту, и потому в настоящий момент ни один орган в республике не вправе осуществлять толкование регионального Основного закона. Фактически на сегодняшний день в Республике Адыгея последующий конституционный контроль (проверка нормативных актов по запросам органов власти либо жалобам граждан или по обращениям судов о проверке конституционности акта, подлежащего применению в конкретном деле) отсутствует, а предварительный конституционный контроль не применяется в отношении вопросов, выносимых на референдум, договоров и соглашений органов власти. Не востребована и процедура разрешения споров о компетенции между органами власти разных уровней. Все эти полномочия осуществляли прежде Конституционная палата и Конституционный суд Республики Адыгея7. И наконец, никакие органы власти не участвуют в осуществлении контрольных удостоверительных полномочий при применении мер конституционной ответственности (роспуск парламента, отрешение от должности главы республики), которые в прошлом осуществляли Конституционный суд и Конституционная палата Республики Адыгея8. Согласимся с Д. Н. Мироновым, что для работы в качестве государственного органа, занимающегося государственной охраной Основного закона субъекта РФ, защитой конституционных прав и свобод граждан, конституционные (уставные) советы должны наделяться компетенцией, наиболее приближенной к той, которую имели конституци-
___________________________________________________ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ онные (уставные) суды: проверка соответствия конституции (уставу) проектов нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, правоприменительной практики органов исполнительной власти субъекта РФ, уставов муниципальных образований, актов органов местного самоуправления, договоров (соглашений) субъекта РФ с другими субъектами РФ, назначения референдума субъекта Российской Федерации, назначения и проведения муниципального (местного) референдума9.
В Республике Саха (Якутия), наоборот, законодатель постарался полностью воспроизвести полномочия ликвидированного Конституционного суда республики среди полномочий созданного Конституционного совета: толкование Конституции Республики Саха (Якутия), проверка конституционности нормативных правовых актов региональных органов власти и уставов муниципальных образований и иных муниципальных правовых актов, проверка законов до их подписания главой республики, в том числе тех, предметом регулирования которых являются основы конституционного строя республики, а также ее административно-территориальное устройство и национальногосударственный статус10. Тем не менее приходится с сожалением констатировать, что Конституционный совет Республики Саха (Якутия), в отличие от Конституционного суда Республики Саха (Якутия), не вправе рассматривать жалобы граждан на нарушение их конституционных прав и свобод11. Конечно, конституционный (уставный) совет не орган судебной власти, но институт индивидуальной жалобы воспринят и во многих странах, где применяется квазисудебный конституционный контроль, например во Франции. В России жалобы граждан на нарушение конституционных прав и свобод рассматривали комитеты конституционного контроля до формирования в 90-е годы прошлого века конституционных судов на региональном уровне (Адыгея, Северная Осетия – Алания). Вряд ли можно согласиться с тем, что предоставление такого права гражданам является ненужным, ведь у них есть право обжаловать нормативные акты в судебном порядке в Конституционном Суде
РФ или в судах общей юрисдикции в рамках административного судопроизводства. Однако Конституционный Суд РФ не вправе проверять конституционность муниципальных нормативных правовых актов, а решения, принятые в рамках административного судопроизводства судами общей юрисдикции, кардинально отличаются от решений органов конституционной юстиции и не могут стать полной альтернативой последним. В силу указанных причин предложение передавать дела из производства конституционных (уставных) судов судам общей юрисдикции для разрешения в рамках общего нормоконтроля в науке было оценено отрицательно12.
Данный недостаток учтен в законодательстве Башкортостана. В законе «О Конституционном совете Республики Башкортостан» сообщается, что Конституционный совет в целях защиты прав человека дает заключения по обращению Президиума Государственного Собрания о соответствии Конституции Башкирии законопроектов, внесенных в Государственное Собрание, и нормативных правовых актов самого́ регионального парламента, по запросу парламента готовит проект толкования Основного закона республики, выступает с законодательной инициативой, по обращениям граждан проверяет конституционность региональных и муниципальных нормативных правовых актов, по обращениям главы республики дает заключения по принятым законам республики до их подписания13. К слову, Конституционный суд Республики Башкортостан, как и другие конституционные (уставные) суды, имел право законодательной инициативы, но этим правом он воспользовался всего один раз – внеся законопроект о ликвидации самого́ себя. Конституционные советы других регионов правом законодательной инициативы обладать не будут. Конституционный совет Республики Саха (Якутия) вправе выступить на заседании парламента с докладом о состоянии и развитии конституционного законодательства Республики Саха. Такое же право имел и Конституционный суд Республики Саха (Якутия).
Стоит также похвалить регионального законодателя Республики Саха (Якутия) за предоставление права обратиться с запросом в Конституционный
___________________________________________________ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ совет примерно такому же числу субъектов, что ранее предусматривалось при обращении в Конституционный суд. Отметим, что перечень субъектов, которым региональное законодательство предоставляло право обращения в Конституционный суд республики, был весьма широк, что предопределяло довольно большое число обращений в этот орган, а значит, и его загруженность. Действительно, чем шире объем полномочий у суда и круг субъектов, имеющих право на обращение в этот орган, тем шире практика данного органа и выше эффективность его работы по охране Основного закона и защите конституционных прав и свобод граждан. За первый год работы загруженность Конституционного совета Республики Саха (Якутия) была меньше, чем загруженность ликвидированного Конституционного суда Республики Саха (Якутия) в последние годы его существования, хотя и ненамного: рассмотрено восемь обращений, по пяти из них вынесены решения.
Законодатель Республики Адыгея сохранил преемственность в назначении членов Конституционного совета: одна половина членов назначается парламентом, другая – главой республики. Тот же порядок предусматривался при назначении членов Конституционной палаты и Конституционного суда Республики Адыгея. Мы считаем, что такой порядок, когда члены органа конституционного контроля назначаются разными органами власти на паритетных началах, оптимален для органа, которому предстоит быть арбитром в разрешении споров между другими органами власти без формирования «фаворитизма» при принятии решений.
Между тем нередко конституционные (уставные) суды формировались иначе – региональным парламентом по представлению указанных субъектов либо только главы субъекта РФ (Бурятия). В настоящий момент такой порядок предусмотрен для назначения членов Конституционных советов Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан. Этот способ, как отмечается в науке, вряд ли может быть применим для формирования независимого органа конституционного (уставного) контроля. В частности, В. В. Курятников пишет, что исключительность полномочий главы субъекта РФ по внесению кандидатур в законодательный орган существенно ограничивает возможности последнего по проведению независимой кадровой политики в отношении органа правовой охраны Основного закона, сводя эти возможности либо к одобрению, либо к отклонению представленных кандидатур. Кроме того, сам факт, что акты главы субъекта РФ входили в предмет контроля конституционного (уставного) суда субъекта РФ, ставил под сомнение независимость, а значит, и беспристрастность судей, назначаемых исключительно по представлению главы субъекта РФ. Соответственно, такой механизм неприменим и при формировании конституционного (уставного) совета14. От себя добавим, что при таком механизме формирования состава органа конституционного контроля, когда только глава субъекта РФ вправе выдвинуть парламенту кандидатуры на утверждение, создается угроза для блокирования работы такого органа, если глава региона не будет своевременно исполнять свои обязанности по замене выбывших членов конституционного (уставного) совета. Такое уже происходило в Бурятии: с 2012 года глава региона отказывался вносить кандидатуры на должность судей Конституционного суда Республики Бурятия, чем приостановил работу данного органа задолго до его ликвидации.
Негативно мы оцениваем и нормы законов Республик Башкортостан и Адыгея, согласно которым советники будут назначаться на пять лет – срок полномочий регионального парламента. Конечно, конституционный (уставный) совет учреждается при региональном парламенте, но он призван осуществлять функции конституционного контроля (надзора), в том числе и проверять конституционность актов самого парламента. Поэтому для обеспечения независимости его, совета, работы (даже несмотря на то, что данный орган создается при региональном парламенте, а не как самостоятельный орган государственной власти) необходимо установить, что советники должны назначаться на сроки, превосходящие сроки полномочий региональных депутатов.
Столь же негативно следует оценить и ситуацию, когда часть членов Конституционного совета Республики Саха (Якутия), а именно председатель, два заместителя председателя и секретарь-советник, работают на постоянной профессиональной основе, поскольку данные должностные лица приравнены в ограничениях и запретах к лицам, замещающим государственные должности республики. Такой же порядок предусмотрен в законе о Конституционном совете Башкортостана, только в этой республике все члены Конституционного совета (от трех до пяти) работают на постоянной профессиональной основе и занимают государственные должности субъекта РФ. Для сравнения: в Адыгее в настоящий момент все члены Конституционного совета работают на безвозмездной основе, хотя Конституционная палата, дейст-
___________________________________________________ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ вовавшая в республике с 1996 по 2000 год, предусматривала работу трех из девяти членов на постоянной основе, а остальных – на безвозмездной. Все это привело к тому, что расходы на деятельность конституционных (уставных) советов будут ненамного меньше, чем на деятельность ликвидированных конституционных (уставных) судов. Так, расходы на упраздненный Конституционный суд Республики Башкортостан составляли 36 млн рублей в год, а на вновь созданный Конституционный совет – 18 млн рублей в год. На это обращали внимание многие депутаты региональных парламентов при учреждении конституционных советов, ведь при относительной малой их загруженности такие затраты регионального бюджета вряд ли можно признать оправданными. На наш взгляд, советники должны работать на безвозмездной основе, получая компенсацию за время рассмотрения дел. Такая норма существовала в законе Республики Адыгея о Конституционной палате. Аналогично обстоит дело с финансированием судей конституционных (государственных) судов земель ФРГ15.
Законодатель Республики Саха (Якутия) постарался сохранить и некоторые аспекты конституционного судопроизводства при рассмотрении дел в Конституционном совете, хотя теперь назвать этот процесс таковым не представляется возможным, поскольку конституционные (уставные) советы не являются судебными органами. Так, в законодательстве предусмотрено разделение итоговых решений на постановления и заключения, как ранее в конституционном судопроизводстве в Конституционном суде республики (постановления по делам о толковании и заключения по иным делам). Сохранены возможность разъяснения решения Конституционным советом, его официальное опубликование, а также норма, согласно которой Конституционный совет принимает решение, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов. Сохранена, кроме того, норма, что решение принимается большинством голосов участвующих в заседании и при равенстве голосов приоритет имеет голос председательствующего, который голосует последним. К кандидатам на должности советников предъявляются требования, похожие на те, что предъявлялись к судьям Конституционного
ХУДОЛЕЙ К. М. __________________________________________________________________ суда Республики Саха (Якутия). На советников, работающих на постоянной основе, распространяются примерно те же ограничения о недопустимости осуществления политической деятельности, что ранее накладывались на судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия). Определенная преемственность в статусе членов Конституционного совета, в требованиях к кандидатам на эту должность, в ограничениях данного статуса просматривается и в законодательстве Республики Башкортостан.
Таким образом, конституционные (уставные) советы могут стать только неполноценной заменой конституционным (уставным) судам, поскольку являются не самостоятельными органами государственной власти, а организационной и штатной (или внештатной) структурой при законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ16. В силу того что конституционные (уставные) советы не вправе принимать самостоятельно решения, организационно зависят от региональных парламентов (обычно они не имеют своего аппарата, а их деятельность обеспечивается аппаратом регионального законодательного органа), вряд ли можно согласиться с Д. Н. Мироновым, что конституционные (уставные) советы можно считать «иными органами государственной власти» в смысле части 2 статьи 4 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»17. Действующее законодательство Адыгеи, Башкортостана, Республики Саха (Якутии) не относит конституционные советы к числу органов государственной власти, считая их только государственными органами при региональных парламентах. Фактически по статусу они мало чем отличаются от различных экспертно-консультативных советов при региональном парламенте.
И все же конституционные (уставные) советы могут играть определенную роль в деле государственной охраны Основного закона субъекта РФ, в защите прав и свобод граждан, значительность которой будет обусловлена высоким профессиональным (экспертно-научным) уровнем их членов. Кроме того, необходимо, чтобы их полномочия были максимально приближены к полномочиям упраздненных органов конституционной (уставной) юстиции. Желательно, чтобы члены этих советов работали на безвозмездной основе (получали компенсацию на время рассмотрения дел), а сами советники на-
___________________________________________________ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ значались на паритетных началах законодательными и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.
К сожалению, такие положения в региональном законодательстве реализованы не полностью. К тому же и число субъектов РФ, учредивших конституционные (советы), крайне незначительно. И есть большие сомнения, что в будущем подобные органы появятся в других регионах. Все это подталкивает к мысли, что конституционные (уставные) советы постигнет судьба ликвидированных конституционных (уставных) судов: они не будут созданы в подавляющем большинстве субъектов РФ, а в тех регионах, где их учредят, их деятельность окажется малоэффективной и высокозатратной при отсутствии большого доверия к этому институту со стороны органов власти и населения. Если конституционным (уставным) судам не удалось выстроить систему отношений между законодательными и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ (фактически они были «пятым колесом» в слаженном механизме государственной власти в регионах), то почему это должно получиться у конституционных (уставных) советов, которые не являются самостоятельными органами государственной власти и действуют при региональных парламентах, утверждающих их решения? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.
Список литературы Какая судьба ждет конституционные (уставные) советы?
- Евлоев И. М. Ликвидация конституционных (уставных) судов субъектов РФ: закономерность или ошибка? // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 10. С. 141-150.
- Курятников В. В. Как формировать конституционные (уставные) советы субъектов Российской Федерации? // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 4. С. 105-108.
- Малютин Н. С., Сергевнин С. Л. Институт региональной конституционной (уставной) юстиции в России: завершение истории? // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2022. № 4. С. 26-38.
- Миронов Д. Н. Конституционный совет при парламенте субъекта РФ (к вопросу об интеллектуальной модели) // Конституционное и муниципальное право. 2021. № 9. С. 71-75.
- Питиримова А. О. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: невостребованный элемент в системе органов региональной государственной власти или ее модернизация? // Эволюция российского права: материалы XIX Междунар. науч. конф. молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 29-30 апреля 2021 г.). Екатеринбург: Урал. гос. юрид. ун-т им. В. Ф. Яковлева, 2021. С. 1645-1650.
- Смирнов А. В., Яичникова Ю. С. Конституционные (уставные) советы при законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации: некоторые размышления // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. № 6. С. 9-12.
- Туриянов А. Р. Проблемы развития органов конституционного контроля в субъектах Российской Федерации после конституционной реформы 2020 года // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе развития общества: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. среди студентов, магистрантов и аспирантов. Пермь, 2022. С. 181-185.
- Хохлова Е. П. Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации: от конституционных (уставных) судов к конституционным (уставным) советам // Эволюция российского права: материалы XX Междунар. науч. конф. молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 28-29 апреля 2022 г.). Екатеринбург: Урал. гос. юрид. ун-т им. В. Ф. Яковлева, 2022. С. 1078-1085.