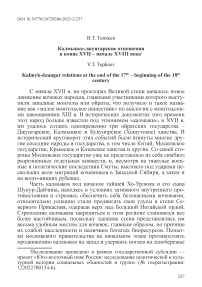Калмыцко-джунгарские отношения в конце XVII – начале XVIII века
Автор: Тепкеев В.Т.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Несомненно, что калмыцко-джунгарские отношения XVII– XVIII вв. требуют отдельного исследования с учетом выявления новых документальных материалов. Поэтому цель данной статьи – анализ отношений Калмыцкого и Джунгарского ханств конца XVII – начала XVIII в. Стремление калмыцких тайшей сохранять отношения с Джунгарским ханством поддерживалось в силу сохранившихся еще традиций, из-за желания иметь более или менее обеспеченный тыл. Джунгарское ханство было довольно могущественным кочевым государством, которое представляло угрозу не только соседним народам и государствам, но и непосредственно Калмыцкому ханству, особенно после откочевки на Волгу и Дон отдельных джунгарских улусов в 1680-е гг. Более того, через Джунгарию пролегал путь для волжских калмыков в священный Тибет, с которым поддерживались довольно тесные религиозные связи. После смерти джунгарского Галдан Бошогту-хана в 1697 г. и наделения тибетским духовенством ханским титулом калмыцкого хана перед ханом Аюкой открылись перспективы стать во главе единого ойратского государства, что стимулировало идею возвращения калмыков в Джунгарию. Однако отсутствие политического единства в калмыцком обществе не позволило Аюке в конечном итоге решиться на уход из России. Но идею возвращения на историческую родину подхватили старшие сыновья хана Аюки во главе с Чакдорджабом, которые в 1701 г. подняли мятеж против отца. Уход в Джунгарию 15 тыс. кибиток калмыков не способствовал укреплению Калмыцкого ханства, так как ранее происходил обратный процесс. Мятежники ошиблись в своих расчетах, поскольку джунгарский хунтайджи Цэван-Рабдан сам претендовал на роль общеойратского лидера и рассчитывал укрепить свою армию за счет волжских калмыков. В Калмыцком ханстве существовала «проджунгарская» партия во главе с ханшей Дарма-Балой, продвигавшая идею хунтайджи Цэван-Равдана о «воссоединении». Противники этой идеи из числа калмыцких тайшей имели всемерную поддержку не только со стороны российского правительства, но и со стороны цинского Китая, стремившегося создать антиджунгарскую военную коалицию. Цэван-Рабдан снова инициировал заключение целого ряда брачных союзов, что вызывало у калмыцких владельцев недоверие и в конечном итоге не дало дальнейшему развитию этой идеи. В целом стоит отметить, что тема калмыцко-джунгарских отношений в XVII–XVIII вв. требует дальнейшего исследования на основе новых архивных сведений, поскольку затрагивает одну из малоизвестных страниц в истории ойратов.
Джунгары, калмыки, XVII век, Аюка-хан, Джунгарское ханство, Калмыцкое ханство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148362
IDR: 149148362 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-257
Текст научной статьи Калмыцко-джунгарские отношения в конце XVII – начале XVIII века
С начала XVII в. на просторах Великой степи началось новое движение кочевых народов, главными участниками которого выступили западные монголы или ойраты, что получило и такое название как «малое монгольское нашествие» по аналогии с монгольскими завоеваниями XIII в. В исторических документах того времени этот народ больше известен под этнонимом «калмыки», в XVII в. им удалось создать одновременно три ойратских государства – Джунгарское, Калмыцкое и Кукунорское (Хошутское) ханства. В исторический круговорот этих событий были втянуты многие другие соседние народы и государства, в том числе Китай, Московское государство, Крымское и Казахское ханства и другие. Со своей стороны Московское государство уже не представляло из себя симбиоз разрозненных отдельных княжеств, и, несмотря на тяжелые военные и политические последствия Смуты, выстояло под ударами нескольких волн миграций кочевников в Западной Сибири, а затем и на волго-яицких рубежах.
Часть калмыков под началом тайшей Хо-Урлюка и его сына Шукур-Дайчина, находясь в условиях затяжного внутреннего противостояния и стремясь обеспечить себя безопасными кочевьями, относительно успешно стали продвигать свои улусы в степи Северного Прикаспия, одержав верх над Большой Ногайской ордой. Стремление калмыков закрепиться в этом регионе становится все более настойчивым, поскольку здешние степи представлялись им весьма удобным местом для кочевок, главным образом, по причине их слабой заселенности и наличием богатых биоресурсов. Попытки московского правительства на начальном этапе противостоять продвижению калмыков на запад и удержать ногаев на левобережье
Волги успеха не имели. Однако и калмыки, не имея разрешения от русских властей, около четверти века не могли считать себя полноправными хозяевами нижневолжских степей.
В результате миграций к середине XVII в. ойраты занимали огромную территорию – от волго-донского междуречья до Тибета. В Северном Прикаспии образовалась отдельная волжская группировка калмыцких улусов, ставшая основой будущего Калмыцкого ханства. В Центральной Азии сформировался самый крупный союз ойратских улусов – Джунгарское ханство, у истоков которого стояли такие правители, как Эрдени Батур-хунтайджи и его сыновья Сенге и Галдан Бошогту-хан.
В историографии тема калмыцко-джунгарских отношений XVII–XVIII вв. изучалась довольно поверхностно и только как часть внешнеполитической истории Калмыцкого ханства. К таким исследованиям можно отнести работы И. Я. Златкина, А. В. Цюрюмова и В. Т. Тепкеева1. Исследование этой темы, по мнению А. В. Цюрюмо-ва, позволит более точно осветить и проблему образования Калмыцкого ханства2. Также на основе новых архивных сведений XVII столетия стали известны обстоятельства первого появления джунгар на берегах Волги и Дона3.
Достаточно отдаленное расстояние между двумя кочевыми государствами, кочевья которых расположились в разных частях света, не дает нам основание полагать, как считает А. В. Цюрюмов, что консолидация улусов Калмыцкого ханства происходила на периферии формирующегося Джунгарского ханства4. Именно на южной периферии Московского царства началось формирование Калмыцкого ханства, отношения между которыми стали строиться на договорной основе, закрепленными шертями 1655, 1657 и 1661 гг.
Что касается калмыцко-джунгарских отношений, то они требуют отдельного исследования, особенно на начальном этапе, с учетом выявления новых документальных материалов. Поэтому цель данной статьи ― анализ калмыцко-джунгарских отношений в конце XVII – начале XVIII в., поскольку именно в этот период они развивались довольно динамично, несмотря на приличное географическое расстояние между ними.
При изучении материалов о калмыцко-джунгарских отношениях конца XVII – начала XVIII вв., исследователь в первую очередь обращается к материалам Российского государственного архива древних актов (РГАДА). События в Великой степи российские воеводы на местах, особенно в Западной Сибири и Приуралье, внимательно отслеживали и передавали информацию в центральные органы власти. Особый интерес представляют сведения о появлении первых групп джунгар в южной части России и их первые контакты не только с волжскими калмыками, но и донскими казаками и представителями Посольского приказа и приказа Казанского дворца, в чьем ведении находились «Калмыцкие дела». Среди архивных материалов большую ценность имеют и сохранившиеся письменные послания джунгарских владельцев к местным и центральным властям, в том числе и сведения о калмыцко-джунгарских отношениях.
На начальном этапе отношения между Калмыцким и Джунгарским ханствами носили в основном союзнический характер, скрепленные династическими браками. Например, сын калмыцкого правителя Шукур-Дайчина, Мончак (Пунцуг), был женат на дочери джунгарского Эрдени Батура-хунтайджи, который в свою очередь был женат на сестре калмыцкого правителя. Позже сын Мончака, будущий калмыцкий хан Аюка, связал себя узами брака с племянницей другого джунгарского правителя – Цэван-Рабдана. Однако за рамками династических браков этот союз не имел дальнейшего развития, поскольку за дальностью расстояния между государствами отношения имели довольно спорадический характер.
В течение второй половины XVII в. оба ханства продолжали оставаться точками притяжения для отдельных ойратских улусов, владельцы которых выбирали, где им будет кочевать более привольно и благополучно. Так, в 1687 г. отмечается приход на Волгу и Дон одного из джунгарских улусов численностью около 3 тыс. людей под началом двух братьев ― Цаган-Батура и Баахан-Манджи. Они не подчинились калмыцкому правителю Аюке и проследовали далее на Дон, вступив в самостоятельные отношения с Войском Донским и московским правительством. Поскольку приход джунгар совпал с началом русско-турецкой войны, то они, заключив соглашение с Москвой и получив государево жалованье, приняли участие в Крымских походах В. В. Голицына5. Удивительно, но в материалах «Калмыцких дел» за эти годы русско-джунгарские отношения на короткий период отодвинули на задний план русско-калмыцкие отношения.
Самовольный приход джунгарского улуса на Дон в свою очередь довольно серьезно осложнил калмыцко-джунгарские отношения, развивавшиеся до этого в довольно положительном ключе. Джунгарский Галдан Бошогту-хан не только потребовал возврата указанного беглого улуса, но и в какой-то мере подозревал Аюку в пособничестве их бегства. Калмыцкий правитель со своей стороны не был заинтересован в эскалации вооруженного конфликта с джунгарами и опасался их военного прихода на Волгу. Для этого он даже заручился поддержкой московского правительства в случае развития такого сценария. Как сообщали калмыцкие посланники в Москве, мирное сосуществование Аюки и Галдана нарушило имен- но бегство указанной группы джунгар на Волгу, при этом джунгарский хан через своих посланников требовал их выдачи: «наперед ево Аюкаевы люди отбегали к нему, Бушухту хану, а ныне де от него, Бушухту хана, ево владенья люди пришли к нему, Аюкаю, кочевать»6.
Появление джунгарского улуса двух братьев было связано с приходом к власти в Джунгарии Галдана Бошогту-хана и началом гражданской войны, разразившейся в ханстве в середине 1670-х гг. Политические противники нового джунгарского хана в знак протеста и из-за обеспокоенности лишиться жизни и имущества стали откочевывать из ханства на территорию Московского государства или Цинской империи. В западном направлении откочевали только Цаган-Батур и Баахан-Манджи, которые доводились двоюродными братьями Галдану и сыновьями Чокура-Убаши7. Галдан заподозрил своего дядю Чокура в пособничестве политического убийства старшего брата Сенге. Галдан, вернувшись на родину из Тибета, с помощью своих сторонников сумел быстро расправиться с заговорщиками8, в числе которых был и Баахан-Манджи, чье владение подверглось нападению Галдана 9. По данным биографа Зая-пандиты, ключевую роль в их поражении сыграло и то, что их союзник, хошутский Очирту Цецен-хан, в 1676 г. также потерпел разгром от войск Галдана и был вынужден признать над собой его власть10.
Междоусобные войны и приход к власти в Джунгарии Галдан Бошогту-хана привели к тому, что некоторые представители джунгарской знати, не желавшие ему подчиняться, стали откочевывать на другие территории, в основном на Кукунор, т. е. в Цинскую империю или в пределы России, на Волгу. Неоднократные отправки посольских миссий к Аюке от Галдана с требованием возвратить беглецов не достигали желаемого результата, поскольку новоприбывшие джунгары не подчинялись калмыцкому хану и вели себя довольно независимо. Со своей стороны Аюка все-таки опасался прихода армии Галдана, поскольку он опасался начала военных действий со стороны джунгарского хана, чьи войска по численности и военному потенциалу превосходили силы Калмыцкого ханства.
Что касается взаимоотношений Аюки с новоприбывшими джунгарскими тайшами, то они складывались вполне дружескими, а в 1688 г. Аюка и Цаган-Батур скрепили свой союз династическим браком: «взял Аюкай у него, Чагана, за сына своего дочь»11.
Отметим только, что дальнейшую судьбу этой группы джунгарских калмыков следует дополнительно исследовать, т. к. вскоре этот улус распался на две части путем его раздела между братьями Цаган-Батуром и Баахан-Манджи. Последний со своими улусными людьми поселился у Таганрогской крепости, принял крещение под именем Моисей Алексеев, крестным которого выступил воевода Алексей Шеин. Там же Баахан-Манджи имел личную встречу с государем Петром Алексеевичем во время Азовского похода, что также предопределило дальнейшую судьбу этой группы джунгарских калмыков: позже они вошли в состав чугуевских и донских калмыков. Другой брат, Цаган-Батур, со своей частью улусных людей откочевал на восток, в район Приуралья, где его дальнейшая судьба, к сожалению, не известна12.
После смерти Галдан Бошогту-хана в 1697 г., потерпевшего военное поражение от цинских войск, власть в Джунгарии захватил его племянник Цэван-Рабдан, сын Сенге. Находясь за много тысяч километров от основного ареала проживания ойратского сообщества, волжские калмыки, особенно ее правящая верхушка, продолжали внимательно следить за политической ситуацией в Центральной Азии, которая на рубеже XVII –XVIII вв. стремительно там менялась. Особенно хана Аюку волновала информация о взаимоотношениях и планах правителей Тибета, Джунгарии и Цинской империи13.
Довольно продолжительный период напряженности в калмыцко-джунгарских отношениях в конце XVII в., связанный с попыткой Галдана Бошогту-хана возвратить отдельные джунгарские улусы, которые откочевали на Волгу, сменился потеплением. Молодой джунгарский правитель Цэван-Рабдан приобрел не только полную поддержку со стороны Аюки, который получил прямую связь с Тибетом и ханское звание от Далай-ламы VI в 1698 г., но и титул «Зоригто-хунтайджи» («Отважный хунтайджи»). Более того, Аюка выдал за него свою дочь замуж, а один из его сыновей, Санджаб, сопровождал свою сестру-невесту ко двору нового джунгарского хунтайджи14.
Однако мирный период между двумя ханствами продолжался недолго. Все началось, когда в 1701 г. в Калмыцком ханстве вспыхнул мятеж под предводительством старших сыновей хана Аюки – Чакдорджаба, Гунделека и Санджаба. Несмотря на то, что мятеж был подавлен путем примирения, но с Волги в Джунгарию ушли 15 тыс. кибиток под предводительством Санджаба. Причиной конфликта стал вопрос о наследовании отдельных улусов умерших владельцев. По сведению калмыцкого летописца XVIII в. Габан Шараба, Аюка намеревался все улусы передать именно Гунджабу15.
Известно, что Санджаб, в отличие от Чакдорджаба, отказался от добровольного примирения с отцом. В дальнейшем это привело его к весьма печальным последствиям. Так, В. М. Бакунин отмечает, что джунгарский хунтайджи Цэван-Рабдан первоначально довольно благосклонно принял калмыцких беглецов, но затем разделил прибывшие кибитки волжских калмыков между своими владениями, а Санждаба в сопровождении только нескольких человек вернул
Аюке16. Из «Повседневной записки В. П. Беклемишева о приезде китайских послов (1731 г.)» известно, что джунгарский правитель все-таки каким-то образом подговорил Санджаба к уходу из пределов России, тем самым усилив свою армию в продолжающейся войне с Цинской империей17.
Анонимный автор калмыцкой летописи «История Хо-Урлю-ка» в какой-то мере это подтверждает, указывая на сильное влияние супруги Санджаба, джунгарки Цаган-Дары, на окончательное принятие решения в пользу откочевки в Джунгарию. И хотя переход с Волги в Джунгарское ханство через казахские степи представлялся довольно опасным предприятием, но Цэван-Рабдан, придав этому событию большое значение, отправил 10-тысячное войско навстречу калмыкам. Приняв калмыцких беглецов, он сразу столкнулся с дипломатическим давлением со стороны хана Аюки, который через своих посланников потребовал немедленной выдачи своих людей. Но хунтайджи поступил оригинально: он забрал к себе все пришедшие калмыцкие улусы, а Санджаба, назвав его «глупым неразумным сыном», отослал к отцу, обвинив его в тайном желании откочевать к халха-монголам. По словам джунгарского правителя, он по старой традиции возвращает к Аюке сына Санджаба как «вора», а его «лошадь», т. е. подданных, оставляет себе18.
Проанализировав несколько источников, как русские, так и ойратские, можно сделать следующий вывод. Санджаб еще до откочевки в 1701 г. побывал в Джунгарии и вернулся на Волгу уже убежденным сторонником идеи возвращения калмыков на историческую родину. Очевидно, в этом его поддерживала, даже в какой-то мере и направляла, его супруга-джунгарка и другие представили калмыцкой знати. Возможно, в Джунгарии Санджаб имел и какие-то сепаратные переговоры и договоренности с Цэван-Рабданом, который всячески поддерживал в нем эту убежденность. Вернувшись на Волгу, Санджаб со всей увлеченностью включился в число организаторов мятежа против отца. И даже когда мятеж провалился, благодаря быстрому вмешательству царского правительства и яиц-ких казаков, Санджаб с небольшим количеством своих сторонников все-таки увели из России значительную часть калмыков.
Появление в Джунгарии 15 тыс. кибиток волжских калмыков, конечно, значительно усилило Цэван-Рабдана и позволило ему усилить свою армию, особенно в противостоянии с Цинской империей. Калмыцкое ханство, наоборот, потеряло большой людской ресурс, и в дальнейшем эта тенденция продолжалась. Например, во второй половине XVII в. наблюдался постоянный приток на Волгу с востока отдельных ойратских групп (торгутов, дербетов, хошутов и джунгар), что серьезно увеличивало численность волжских калмы- ков. В начале XVIII в. происходит уже обратный процесс, начиная с ухода Санджаба и до 1771 г., когда Россию покинула и ушла в цинский Китай основная масса волжских калмыков во главе с наместником Убуши.
В отдельных ойратских источниках, таких как «История Хо-Урлюка», указывается на попытку вооруженным путем калмыков вернуть беглецов из Джунгарии. Понимая всю бесперспективность такой идеи, хан Аюка всячески пытался их отговорить от такого шага, сославшись на военную мощь джунгарского войска, закаленного в войнах с Цинской империей19.
До самой своей смерти в 1724 г. хан Аюка постоянно поднимал вопрос перед джунгарской стороной о возвращении его улусов на Волгу. Например, это известно из его письма к государю Петру Алексеевичу в 1720 г., в котором он информирует монарха о своих частых контактах с джунгарским хунтайджи через посланников. В письме Аюка сетует на то, что Цэван-Рабдан на постоянные требования калмыцкой стороны отмахивался только пустыми обещаниями: «того ради часто к нему посланцов посылаю взять у него подлинную отповедь и слово»20.
Учитывая осложнения в калмыцко-джунгарских отношениях, цинский император Канси попытался создать так называемую «антиджунгарскую коалицию», отправив в 1712 г. к хану Аюке посольство во главе с Тулишэнем. Однако российское правительство было обеспокоено таким ходом событием и всячески пыталось расстроить эти планы. Казанскому губернатору П. М. Апраксину, в чьем ведении находились «Калмыцкие дела», Сенат поручал должным образом повлиять на калмыцкого хана, «дабы он на него, контайшу, войною не ходил для того, что он, контайша, царскому величеству примирителен»21.
Но для этого не требовались какие-либо дополнительные усилия правительства, т. к. Аюка и не собирался организовывать военные мероприятия против Джунгарского ханства. Так, при встрече калмыцкого хана с цинским послами, прибывшими на Волгу в 1714 г. и агитировавшими калмыцкую верхушку к созданию антиджунгарской военной коалиции, Аюка им отказал. На тот момент он, как российский подданный, был связан правовыми обязательствами не иметь никакие союзные отношения с какими-либо внешними государствами, особенно враждебными для России. При этом нельзя сбрасывать со счета и то очевидное обстоятельство, что между Джунгарией и Калмыцким ханством простиралась огромная территория, населенная достаточно враждебными кочевыми народами и племенами, в первую очередь казахами и каракалпаками. Все это исключало какую-либо возможность использования калмыцкой конницы в военных действиях против джунгар.
С началом 1720-х гг. калмыцко-джунгарские отношения вновь оживились, и связано это было с приездом летом 1723 г. на Волгу 263
джунгарских послов. На этот раз хунтайджи Цэван-Рабдан предлагал калмыцкому хану заключить династический союз между его дочерью и ханским сыном Церен-Дондуком. Такое предложение с джунгарской стороны распространялось на всех родственников с обеих сторон. С этой целью хунтайджи предложил, чтобы ему подойти со своими улусами на Яик. Супруга хана Аюки, Дар-ма-Бала, приходившаяся племянницей хунтайджи, отправилась на переговоры со своим джунгарским родственником, который кочевал в месяце пути к востоку от Яика.
Несомненно, планы джунгарского правителя очень сильно встревожили калмыцкого хана и других владельцев, и этот вопрос даже обсуждался на съезде22. По словам калмыцкого владельца Досанга, джунгарский Цэван-Рабдан – «человек зело лукав», т. е. очень хитрый и коварный, который через свою племянницу Дар-ма-Балу теперь склоняет к династическому союзу и калмыцкого хана. Сам Досанг, например, отказался выдавать свою дочь замуж за джунгарского представителя23.
-
8 октября 1723 г. Петр I получил письмо от хана Аюки с официальным извещением о приезде к нему посланца от джунгарского хунтайджи «с объявлением дружбы», который намеревался кочевать по соседству с волжскими калмыками. Конечно, это сильно беспокоило хана, и он спешил заручиться поддержкой российских властей. Аюка просил расположить правительственные войска в Астрахани, Черном Яру, Царицыне и Саратове, т. е. на всем протяжении волжского рубежа, где кочевали калмыцкие улусы24.
О предыстории калмыцко-джунгарских переговоров поведал в астраханской администрации Билютка, посланец Досанга. По его словам, еще лет 7–8 назад Аюка отправил к Цэван-Рабда-ну своего посланца Цаган-Манджи. В том же году тот вернулся с 4 посланцами от хунтайджи, которые передали, что джунгары «уже третий год воюют с казахами и каракалпаками для того, чтоб ему, хонтайдже, с улусы своими прийти кочевать к Яику и Волге рекам пред будущею весною»25. Приближение джунгарского правителя к калмыцким кочевьям было связано с его желанием заключить брачные союзы между калмыцкой и джунгарской знатью. Он просил прислать к нему Дарма-Балу, супругу Аюки и его родственницу, с двумя девушками, которых можно было выдать замуж за джунгарских родственников хунтайджи. Со своей стороны он также готов был отправить на Волгу своих незамужних родственниц, чтобы выдать их замуж за молодых калмыцких князей. Калмыцко-джунгарский съезд намечалось провести за Яиком уже следующей весной, вероятно, на Цаган Сар26.
Но среди представителей калмыцкой знати были и противники такого сближения. Например, тот же Досанг предостерегал Аюку от поспешных шагов, так как считал, что калмыкам и джунгарам будет тесно кочевать вместе в прикаспийских степях. Он категорически был против выдачи замуж за джунгар девушек из знатных калмыцких семей. Его опасения разделяли и другие соплеменники: «многие их калмыки печальны и надеются, что хонтайджи, соединяясь с ними, калмыки, хана Аюки и протчих их владельцев побьет, а сам де их, калмык, всех учинит своими подданными и будет кочевать на местах, где кочуют киргис казаки и каракалпаки»27.
***
На рубеже XVII–XVIII вв. Калмыцкое и Джунгарское ханства переживали наивысший политический подъем, обусловленный становлением централизованной ханской власти, и представляли собой две точки притяжения для ранее разрозненных ойратских улусов. Не удивительно, что оба ханства в этом плане выступали политическими конкурентами в ойратском сообществе. С другой стороны, они не переставали поддерживать между собой политические и религиозные связи, скрепляемые часто династическими союзами. Эта традиция шла еще с первой половины XVII в., особенно после монгольско-ойратского съезда 1640 г.
Объективно в военно-политическом и экономическом отношении Джунгарское ханство доминировало над Калмыцким ханством, если и учесть, что последнее находилось еще и в зависимости от Москвы. Джунгарам, чтобы отстоять свою политическую независимость, приходилось постоянно воевать с соседним народами и государствами, особенно с Цинской империей. Постоянные войны требовали больших ресурсов, особенно людских. Отсюда джунгарские правители были заинтересованы в присоединении в состав своего государства представителей соседних кочевых народов, в том числе и волжских калмыков. В то же время джунгарские хунтайджи очень болезненно реагировали на откочевку из Джунгарии отдельных улусов на территорию Цинской империи или Московского государства. Так, мы видим это на примере откочевки на Волгу и Дон джунгарского улуса братьев Цаган-Батура и Баахан-Манджи, потомки которых позднее вошли в состав донских калмыков.
Правители волжских калмыков поддерживали отношения с джунгарской знатью еще и потому, что Джунгария находилась на пути религиозного паломничества в Тибет. В годы осложнения калмыцко-джунгарских отношений калмыкам приходилось искать альтернативные пути в Тибет – через русскую Сибирь или среднеазиатские ханства.
Военное противостояние с Цинской империей в 1697 г. привело к гибели джунгарского хунтайджи Галдана Бошогту-хана, с которым у правителя волжских калмыков, Аюки, были довольно сложные отношения. Получив в 1698 г. ханский титул от Далай-ламы VI, Аюка вновь обращает своем внимание на джунгарское направление, рассчитывая на союзнические отношения с новым правителем Джунгарии – Цэван-Рабданом. Это приводит к тому, что среди отдельных представителей калмыцкой знати возникает идея возвращения на историческую родину, ближе к священным местам Тибета. Но в калмыцком обществе были и противники ухода в Джунгарию, поскольку на Волге родилось уже несколько поколений, которые рассматривали земли Нижнего Поволжья своей родиной. В конечном итоге это приводит к событиям 1701–1702 гг., когда возникает мятеж старших ханских сыновей, а часть калмыцкой элиты уводят в Джунгарию 15 тыс. кибиток. Это снова приводит к осложнению калмыцко-джунгарских отношений, поскольку хунтайджи Цэван-Рабдан отказывается их возвращать хану Аюке и рассчитывал укрепить свою армию за счет прихода волжских калмыков.
Со всей уверенностью можно сказать, что в Калмыцком ханстве существовала так называемая «проджунгарская» партия во главе с ханшей Дарма-Балой, которая среди волжских калмыков продвигала идею хунтайджи Цэван-Равдана о «воссоединении». Противники этой идеи из числа калмыцких тайшей имели всемерную поддержку не только со стороны российского правительства, но, как ни странно, и со стороны цинского Китая, стремившегося воспользоваться осложнениями в калмыцко-джунгарских отношениях и создать антиджунгарскую военную коалицию. Однако объективные реалии того времени не позволяли осуществить такой план.
Сорвавшийся план по переходу волжских калмыков с Волги в Джунгарию нисколько не остановил Цэван-Рабдана, который, пользуясь тем, что хан Аюка через своих посланников пытался вернуть свои улусы, инициировал заключение целого ряда брачных союзов. Отдельные калмыцкие владельцы, противники такого союза, с недоверием отнеслись к такой идее, что в конечном итоге ее и подорвало, и не дало дальнейшему развитию. В целом стоит отметить, что тема калмыцко-джунгарских отношений в XVII–XVIII вв. требует дальнейшего исследования на основе новых архивных сведений, поскольку затрагивает одну из малоизвестных страниц в истории ойратов.