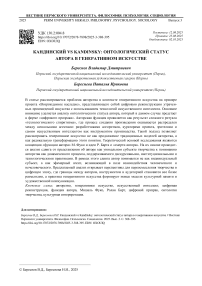Кандинский vs Kandinsky: онтологический статус автора в генеративном искусстве
Автор: Береснев В.Д., Береснева Н.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия. Психология
Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема авторства в контексте генеративного искусства на примере проекта «Возрожденное наследие», представляющего собой цифровую реконструкцию утраченных произведений искусства с использованием технологий искусственного интеллекта. Основное внимание уделяется анализу онтологического статуса автора, который в данном случае предстает в форме «цифрового призрака». Авторская функция проявляется как результат сложного ритуала «технологического спиритизма», где процесс создания произведения оказывается распределен между несколькими агентами: разработчиками алгоритмов, кураторами проекта, зрителями и самим искусственным интеллектом как инструментом производства. Такой подход позволяет рассматривать генеративное искусство не как продолжение традиционных моделей авторства, а как радикальную трансформацию этого понятия. Теоретической основой исследования являются концепция «функции автора» М. Фуко и идеи Р. Барта о «смерти автора». На их основе проводится анализ сдвига от представления об авторе как уникальном субъекте творчества к пониманию авторства как динамического процесса, поддерживаемого дискурсивными, институциональными и технологическими практиками. В рамках этого сдвига автор понимается не как индивидуальный субъект, а как эфемерный агент, возникающий в поле взаимодействия человеческого и нечеловеческого. Предлагаемый анализ открывает перспективы для переосмысления творчества в цифровую эпоху, где границы между автором, инструментом и аудиторией становятся все более размытыми, а практика генеративного искусства формирует новые модели культурной памяти и художественной коммуникации.
Авторство, генеративное искусство, искусственный интеллект, цифровая реконструкция, функция автора, Мишель Фуко, Ролан Барт, цифровой призрак, онтология творчества, культурная интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147252091
IDR: 147252091 | УДК: 130.2:004.8 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-388-395
Текст научной статьи Кандинский vs Kandinsky: онтологический статус автора в генеративном искусстве
EDN: OXOUIQ
Received: 12.08.2025 Accepted: 25.08.2025
Долгое время нейросеть «Kandinsky», разработанная компанией «Сбер» при поддержке ученых Института искусственного интеллекта AIRI на основе объединенных наборах данных Sber AI и SberDevices для генерации изображений по текстовому описанию, позиционировалась как цифровой продукт, ориентированный на развлечение пользователей. Этот инструмент оставался вне поля внимания экспертного сообщества, в отличие от других нейросетей, таких как Midjourney (сгенерированное этой сетью изображение было признано лучшим про- изведением на конкурсе изобразительных искусств Colorado State Fair в 2022 г.) [Roose K., 2022] или GPT (данная нейросеть спровоцировала глобальный кризис доверия к текстам в академической и бизнес-среде) [Бермус А.Г., 2024; Manovich L., 2018; Zylinska J., 2020].
Ситуация изменилась, когда компания «Сбер» в сотрудничестве с Волгоградским музеем изобразительных искусств реализовала проект «Возрожденное наследие» [Возрожденное наследие…, 2023a, 2023b]. Следует отметить, что проект «Возрожденное наследие» не является примером генеративного искусства в классическом понимании, когда алгоритм со- здает принципиально новое произведение по текстовому запросу. Основная цель проекта — попытка цифровой реставрации и реконструкции произведений известных русских художников, которые хранились в региональных музеях и были утрачены в годы Великой Отечественной войны.
Проект не получил широкого резонанса и поддержки в музейной среде, вероятно потому, что институциональное сообщество не готово уступить «священный» статус автора в искусстве цифровому симулякру. Однако этот кейс интересен и ценен тем, что артикулирует проблему авторства в генеративном искусстве не в юридическом контексте (вопросы интеллектуальной собственности), ставшем основной платформой дискуссий об авторстве в искусственном интеллекте (ИИ), а в философском (онтологический статус автора). Проект «Возрожденное наследие» обнажил принципиальное противоречие между традиционным пониманием авторства как проявления индивидуальной творческой воли и моделированием «функции автора» цифровым алгоритмом.
Несмотря на растущий интерес к генеративному искусству как новой форме творческого самовыражения, в российской и международной гуманитарной науке наблюдается значительный дефицит исследований, системно анализирующих проблему авторства в этом контексте. Основные научные дискуссии по теме авторства сосредоточены на юридических аспектах — вопросах интеллектуальной собственности и права на произведение [Проблема автора…, 2012], созданное с участием алгоритмов ИИ. Однако онтологические, философские и культурологические аспекты авторства в генеративном искусстве остаются непроработан-ными. Таким образом, существует явная потребность в осмыслении авторства как комплексной функции, разделенной между человеческими и нечеловеческими агентами и рассмотрении его онтологического статуса в условиях цифровой генеративной практики.
Теоретические основания
Генеративное искусство размывает границы между автором и адресатом. Вопрос «Кто автор?» обретает новый смысл, когда в создании произведения участвуют сразу несколько субъектов и агентов: музейные работники, кураторы проекта, разработчики алгоритма и сам алгоритм. В этой ситуации актуализируются структуралистские и постструктуралистские концепции авторства, среди которых центральное место занимают работы Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида.
Еще В. Беньямин в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» предупреждал, что технологии (в его время до-цифровые — фотография и кино) лишают произведение искусства качества, которое он назвал «аурой», подразумевая под ней не только материальную уникальность, но и совокупность его исторического присутствия, неотделимого от места, времени и традиции, в рамках которой оно было создано [Беньямин В., 1996, с. 26–28]. Это качество неразрывно связано с «культом подлинника» в искусстве, восходящим к сакрализации роли руки художника и к уникальной связи между автором, объектом и зрителем. Беньямин отмечал, что механическая репродукция разрушает эту связь, поскольку снимает произведение с его «места в пространстве и времени» и делает доступным в бесконечном числе копий, независимо от контекста [Беньямин В., 1996, с. 26–28]. Зритель сталкивается не с уникальным событием созерцания, а с серийным образом, лишенным сакральной дистанции.
Исчезновение «ауры» ведет не только к изменению статуса произведения, но и к трансформации роли создателя: он перестает быть уникальным источником художественной ценности. Эта мысль оказывается созвучной постструктуралистской критике авторства, которую сформулировал Р. Барт в эссе «Смерть автора». Он отвергает традиционную фигуру автора как единственного источника смысла текста, но с другой, чем Беньямин, стороны. Если у Беньямина технологическая репродукция лишает произведение его неповторимой ауры, то у Барта произведение лишается авторской инстанции как монополии на смысл [Барт Р., 1989, с. 384– 386]. Для реципиента-интерпретатора автор как субъект уже не важен, поскольку реципиент имеет дело исключительно с его предикатами (талантом, жизненным опытом, авторитетом).
Барт представляет фигуру автора как «скриптора», рождающегося одновременно с текстом и неотличимого от текста, который всегда пишется «здесь и сейчас» [Барт Р., 1989, с. 384–386]. Концепция смерти автора означала отказ от догматической привилегии авторской интенции в произведении, а также перенос акцента на процессы восприятия и интерпретации. Она стала ключевой отправной точкой для множества исследований и оказала значительное влияние на способы интерпретации произведений в гуманитарных науках. Сегодня ее применяют не только в литературоведении, но и в медиа-, кино-, цифровых исследованиях [Прыгунова А.В., Литвак Н.В., 2025].
Вместе с тем в ряде современных исследований концепция смерти автора подвергается сомнению и критике. Так, Ш. Берк утверждает, что устранение авторской интенции создает теоретический и этический вакуум и предлагает свою концепцию «возвращения автора» как условие продуктивного прочтения текста [Burke S., 2008, p. 15–18], а А. Нехамас настаивает, что фигура автора, пусть и постулированная, продолжает выполнять роль регулятивного идеала в интерпретации [Nehamas A., 1981, р. 145–147].
Проект Сбера также отражает концепцию Барта в несколько ином свете. Если у Барта интенция автора объявляется нерелевантной: текст существует автономно, а его смысл рождается в акте чтения [Барт Р., 1989, с. 384–386], то в «Возрожденном наследии», напротив, предполагаемая интенция автора становится центральным фокусом. Здесь вся система работает как своего рода машина для реконструкции этой интенции: ИИ обучается имитировать ее через стиль, кураторы ищут ее отражение в генерациях, а зритель оказывается в положении свидетеля «чуда воскрешения». Его роль не в свободном порождении своего собственного смысла, а в узнавании и признании: «Да, это похоже на Кандинского!».
Гипотеза
Проект «Возрожденное наследие» не опровергает теорию Барта окончательно, но демонстрирует устойчивость и востребованность фигуры автора в культуре. Риторика проекта («возрождение», «воссоздание», «наследие») демонстрирует стремление к сакрализации авторства: вместо того чтобы исчезнуть, автор благодаря технологиям получает новую, цифровую форму существования, обретая власть над смыслом через сложный симбиоз памяти, институций и алгоритмов. Это не «анти-Барт» как полное отрицание, пост-Бартовсий ритуал, опыт технологического «призывания» и «воскрешения» автора, где ИИ выступает медиумом, а имя художника — заклинанием. Проект парадоксальным образом усиливает регулятивный статус авторской интенции, даже если она недостижима.
Дальнейшая разработка этой гипотезы выводит на две важные проблемы: какова онтология «воскрешенного» автора; каковы механизмы и структура процесса «воскрешения»?
Анализ онтологического статуса автора в проекте
Официальный статус авторов «возвращенных шедевров» достаточно ясно обозначен в релизах: это команда проекта, а также Сбер как культурный институт. Однако в случае генеративного искусства институциональное и онтологическое авторство расходятся. Онтологический статус автора в данном кейсе совершенно иной: зритель не соотносит генерации ни со Сбером, ни с разработчиками алгоритма. Для него важно имя художника и степень узнаваемости его кисти в сгенерированном изображении, хотя зритель прекрасно понимает, что кисть художника к изображению не причастна. Тем не менее, художник «является» зрителю как своего рода «призрак», что вполне согласуется с концепцией «призракологии» (hauntology) Ж. Деррида, в которой «призрачность» противопоставляется онтологической данности: призраки возвращаются, но не присутствуют в действительности как реальные предметы [Деррида Ж., 2006, с. 10–13]. Призрак у Деррида — это феномен, который нарушает линейность времени, соединяя прошлое и настоящее в одном медиальном событии. В этом контексте «воскрешенный автор» в генеративном искусстве — это не столько восстановленный создатель, сколько «медиальное привидение», возникающее в акте узнавания и закрепляемое в коллективной памяти.
Цифровая реконструкция утраченной работы, например, В. Кандинского, не заменяет ее, а лишь указывает на ее отсутствие. Оригинал утрачен, но не «мертв»; сохранились следы его бытия — атрибутивные тексты в музейных карточках, воспоминания тех, кто видел работы вживую. То, что «возвращает» генерация в виде цифрового образа, созданного на основе этих вторичных, неполных следов — это не сам утраченный оригинал, и даже не его симулякр, а си- мулякр художника, которого зритель не видит, но узнает по стилевым паттернам, заимствованным из других, сохранившихся работ. Генеративный алгоритм воспроизводит лишь стилистические и визуальные элементы, не передавая глубины художественного намерения и контекста, заложенного художником [Бодрийяр Ж., 2015; Беньямин В., 1996]. Для зрителя ценность представляет не «изображение корабля, заходящего в порт» (как написано в музейной карточке), а интерпретация этого изображения как работы В. Кандинского, которая возникает в медиальном пространстве между отсутствующим оригиналом и современным зрителем [Деррида Ж., 2006].
Онтологический статус автора в проекте Сбера можно описать как событие призывания «цифрового призрака» в ритуале «технологического спиритизма». Мотив призывания лежит в области этики (кураторы проекта объясняют свои действия чувством долга перед прошлым), а сама встреча с «призраком» и момент его узнавания происходят в эстетической реальности (по характерным особенностям произведения).
«Призрак автора» в этом событии призывания не обладает субъектностью в традиционном смысле, его бытие подчинено алгоритмам генерации, кураторской верификации и зрительской интерпретации. Но его также нельзя расценивать исключительно как побочный эффект этого события, поскольку призывание осуществляется осознанно и целенаправленно. Момент узнавания «призрака» маркируется именованием — кураторы проекта выбирают среди сгенерированных изображений те, которые, по их мнению, можно соотнести со стилем, а следовательно, и с именем художника.
Получив имя, «цифровой призрак» начинает «жить» и действовать в культурном поле не как субъект, обладающий собственной волей, но как агент — символический представитель отсутствующего творца в настоящем. Эта агент-ность порождается дискурсивной силой имени художника и коллективной готовностью узнавать в изображении черты В. Кандинского, отличая его «призрак» от «призраков» И. Репина или Р. Фалька.
Здесь можно обнаружить методологическую параллель с концепцией «функции автора» (fonction-auteur) М. Фуко, изложенной в эссе
«Что такое автор?» [Фуко М., 1996, с. 25–27]. Автор, с точки зрения Фуко, — не личность, а функция, возникающая в дискурсивных практиках (классификация, атрибуция, объединение текстов под именем), в рамках которой текст получает статус «авторского» произведения. Имена художников, присвоенные генеративным произведениям в проекте «Возрожденное наследие», не являются свидетельством индивидуальных актов творчества, а служат условными маркерами легитимности полученного в процессе генерации культурного продукта.
Механизмы и структура процесса «воскрешения» автора
Применяя эту рамку к проекту «Возрожденное наследие», можно выделить систему участников и агентов, совместно реализующих авторскую функцию, при этом ни один из них не является автором в классическом понимании. Их вклад в конечный результат может быть определен качественно, но не может быть выражен количественно.
-
1. Музейные сотрудники инициируют процесс, определяя культурно значимые фигуры и обеспечивая исходный материал. Они отвечают за атрибуцию работы, составляя первичный «текст-референс», где, помимо описания внешнего облика произведения, указывается автор. Уже на этом этапе возникает разрыв между авторским взглядом, представленном в облике оригинала, и содержанием атрибутивного текста, который неизбежно оказывается фрагментарным и субъективным. В качестве примера можно рассмотреть текст музейной карточки утраченной картины В.В. Кандинского «Корабль у мола»: «Картина изображает корабль, видимый сверху, подходящий к молу. Около мола — несколько парусных лодок. Преобладающие цвета: зеленый, синий, желтый и розовой. Без подписи. Кандинский В.В. Холст, масло, 80х71. Инв. 794». В описании не указан тип корабля (парусник, пароход, пассажирский, грузовой); не определено направление движения (слева направо, справа налево); неизвестно количество и внешний вид лодок: цвета обозначены без уточнения оттенков. Согласно диалектике общего и частного, единичные признаки, исключенные при обобщении, не могут быть восстановлены в последующей конкретизации в первоначальном виде. Музейные сотрудники, исклю-
- чившие ряд единичных признаков при атрибуции, создали описание произведения, отличающегося от оригинала, т.е. в какой-то степени получившие элементы авторской функции, хотя в качестве автора в карточке указан В. Кандинский. В этом процессе возникают контуры будущего «призрака» В. Кандинского (зритель узнает не только стиль художника, но и содержание утраченной работы).
-
2. Разработчики алгоритма ИИ. Они создали нейросеть как машину интерпретации и присвоения визуального языка художника, определив тем самым как должен выглядеть для машины оригинал, и как должна выглядеть для зрителя его цифровая симуляция. Алгоритм — ключевой агент в проекте, но не автор в человеческом понимании. Нейросеть не замещает художника в реконструкции утраченного оригинала, она действует как активный медиатор, предлагающий варианты визуальных репрезентаций кураторам и приглашенным специалистам проекта, оставляя право выбора за ними.
-
3. Кураторы проекта и приглашенные специалисты играют роль первичных верификаторов: они отбирали описания для реконструкции, определяли критерии сходства и аутентичности, валидировали результаты генераций. От их решения в конечном счете зависел отбор итоговых изображений как максимально соответствующих атрибуции в музейных карточках.
-
4. Художники-доноры стиля. Их роль в проекте выглядит самой слабой, практически бессубъектной, поскольку их авторские высказывания (утраченные произведения) в проекте не задействуются. За них высказывается ИИ. Фактически художники-доноры предоставляют проекту лишь свои имена, их «авторская функция» реализуется через именование реконструкций, легитимизируя сеть отношений между агентами и субъектами в проекте. Присвоение имени наделяет «призрак автора» символической ответственностью за цифровой артефакт. Это своего рода акт подношения: «Вот твоя работа, мы вернули ее тебе (в лице твоего имени)».
-
5. Реципиенты-зрители. Их роль заключается в завершении цепочки дискурсивного производства: они участвуют в ритуале призывания «призрака автора» актом веры (или неверия) в его явление. Именно они в акте восприятия «подписывают» реконструкцию именем художника, тем самым подтверждая власть имени
художника над изображением и соглашаясь включить сгенерированное изображение в корпус «возрожденных шедевров». Таким образом, «функция автора» реализуется не только в институциональных и технических процедурах, но и в акте восприятия, без которого «призрак автора» остается немым.
Выводы
Таким образом, проект «Возрожденное наследие» выступает не просто как технологическая инициатива по цифровой реконструкции утраченных произведений, а как сложный ритуал по материализации функции автора в условиях цифровой культуры. Здесь авторство перестает быть привязанным к индивидуальному творцу и превращается в распределенную функцию, поддерживаемую взаимодействием человеческих и нечеловеческих агентов — кураторов, разработчиков ИИ, институциональных механизмов и зрительской аудитории.
Провозглашенная Бартом «смерть автора» не сводится к полной утрате субъекта, а трансформируется в появление «призрака автора» — эфемерного, но мощного символического агента, чье бытие зависит от технологии, института и интерпретирующего зрителя. ИИ становится не «могильщиком» авторства, а его «медиумом-воскресителем» в цифровой среде, открывая новую главу в онтологии творчества — главу «цифровых призраков», где авторство перестает быть фиксированной личностной категорией и становится функцией, существующей на грани между реальностью культурной и виртуальной. В такой парадигме авторство требует переосмысления с учетом этических, эстетических, а может, и политических вызовов цифровой эпохи, где личность, технологии и коллективные практики переплетаются в новых формах творческого акта.
Проект «Возрожденное наследие» тем самым задает вектор дальнейших исследований и обсуждений, предлагая мыслить авторство не как нечто потерянное, а как постоянно переосмысляемое и переопределяемое в медиальном поле современности.