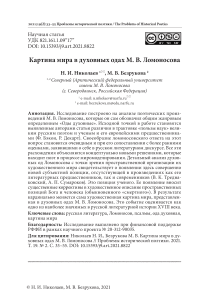Картина мира в духовных одах М. В. Ломоносова
Автор: Николаев Николай Ипполитович, Безрукова Марина Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследование построено на анализе поэтических произведений М. В. Ломоносова, которые он сам обозначил общим жанровым определением «Оды духовные». Исходной точкой в работе становятся выявленные авторами статьи различия в трактовке «пользы наук» великим русским поэтом и ученым и его европейскими предшественниками (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Своеобразие ломоносовского ответа на этот вопрос становится очевидным и при его сопоставлении с более ранними оценками, заявившими о себе в русском литературном дискурсе. Все эти расхождения объясняются концептуально новыми решениями, которые находит поэт в процессе миромоделирования. Детальный анализ духовных од Ломоносова с точки зрения пространственной организации их художественного мира свидетельствует о появлении здесь совершенно новой субъектной позиции, отсутствующей в произведениях как его литературных предшественников, так и современников (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков). Это позиция ученого. Ее появление вносит существенные коррективы в художественное описание пространственных позиций Бога и человека (обыкновенного «смертного»). В результате кардинально меняется сама художественная картина мира, представленная в духовных одах М. В. Ломоносова. Это событие оценивается как одно из наиболее значимых в русской литературной истории XVIII века.
Русская литература, ломоносов, псалмы, ода духовная, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/147227254
IDR: 147227254 | УДК: 821.161.1.09“17” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.8822
Текст научной статьи Картина мира в духовных одах М. В. Ломоносова
В творческом наследии М. В. Ломоносова с «библейскими мотивами» связано весьма ограниченное количество поэтических текстов. Прежде всего, это переложения псалмов.
Всего их у М. В. Ломоносова девять, семь из которых представлены в его прижизненном собрании сочинений 1751 г. в разделе «Оды духовные». К «одам духовным» в этом издании М. В. Ломоносов отнес еще одно свое очень яркое произведение, опирающееся на библейский текст: «Ода, выбранная из Иова, глава 38, 39, 40 и 41». И, наконец, два поэтических произведения, которые сам поэт оценил как принадлежащие к этой жанровой разновидности («Оды духовные») и которые напрямую не могут быть соотнесены с библейскими сюжетами («Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»). Они традиционно рассматриваются вместе с упомянутыми выше текстами.
Все эти перечисленные десять произведений М. В. Ломоносова, объединенные им самим общим жанровым определением «Оды духовные», отвечают некоторому внутреннему единству (целостности), на что уже обратили внимание их исследователи, попутно замечая, что это особенная целостность, которую «вряд ли <…> можно эксплицировать» [Бу-харкин: 247].
На наш взгляд, здесь следует говорить о концептуальном единстве картины мира, имплицитно содержащейся во всех этих текстах, отличающейся существенной новизной и сознательно создаваемой М. В. Ломоносовым в этом своем качестве. Логика всех предшествующих наблюдений над текстами поэта подсказывает наиболее вероятный путь обоснования новизны художественной картины мира в соединении религиозного и научного подходов в его произведениях.
Нетрудно заметить, что указание на сознательное стремление Ломоносова обосновать «союз веры и науки» [Луце-вич: 255], «согласовать разум и веру» [Левитт: 58] как инновационные установки в русской интеллектуальной жизни эпохи стали общим местом очень многих работ, посвященных в последние десятилетия его творческому наследию. В поэтических текстах Ломоносова усматривают связь с физико-теологическим дискурсом, характерным для Европы конца XVII — XVIII столетия [Левитт: 59–60].
Однако важно отметить, что идея «примирения науки и веры» не является достоянием исключительно эпохи Просвещения. Сам Ломоносов в подтверждение своих выводов в этом смысловом ключе ссылается в качестве авторитета на труды Василия Великого и Иоанна Дамаскина. М. Левитт в своей работе, посвященной раскрытию физико-теологического контекста духовных од Ломоносова, указывает на активное присутствие этой идеи «примирения» еще в Античности и в Средневековье.
Таким образом, сама по себе идея «союза науки и веры» никак не свидетельствует о следах какого-либо обновления, изменения картины мира в произведениях М. В. Ломоносова. Но изменения все-таки имели место, и они были сделаны русским поэтом и ученым сознательно.
Стремительно возникающие в конце XVII — начале XVIII века европейские Академии наук заявляли о новых исследовательских стратегиях, которые отличали их от средневековых европейских же университетов. И процесс этот вполне укладывается в концепцию «эпистемологического разрыва» М. Фуко [Фуко]. В ряду прочего это идея практического знания, направленного на овладение природой, достижения непосредственной материальной пользы для человечества. Знаменитое изречение Ф. Бэкона «Знание — сила» следует понимать именно в этом смысловом ключе. А у Р. Декарта в его «Рассуждении о методе, чтобы верно направить свой разум и отыскивать истину в науках» (1637 г.) легко обнаруживают себя прямые указания на эту стратегию научного знания: «…как только я приобрел некоторые общие понятия относительно физики, — пишет он, — <…> я решил, что не могу их скрывать, не греша сильно против закона, который обязывает нас по мере сил наших содействовать общему благу всех людей. <…> зная силу и действия огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех прочих окружающих нас тел, так же отчетливо, как мы знаем различные ремесла наших мастеров, мы могли бы, как и они, использовать эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы» ( Декарт : 286).
Идея практической пользы науки буквально пронизывает этот фрагмент. При этом показательна намеченная стратегия поведения ученого, заключенная в словах «так же, как и ремесла мастеров». Но за этим следует еще одна чрезвычайно важная целевая установка, на которой сосредоточен Р. Декарт, — «стать господами и владетелями природы», то есть занять место, которое в традиционной модели мира для эпохи великого французского философа и естествоиспытателя принадлежало единственному существу во Вселенной — Богу. Во всем этом нельзя не заметить существенной десакрализации традиционной картины мира.
В русской исторической науке эпоха Петра I (и его преобразования) традиционно оценивается как время настойчивого отстаивания идеи «практической пользы». Нацеленность государя-новатора исключительно на практический результат отмечают почти все исследователи этого периода, начиная с П. П. Пекарского [Пекарский] и заканчивая самыми современными [Дзюбан], [Коваленко]. На этом основании строят свои концептуальные подходы и литературоведы [Лебедева: 19–20], [Панченко].
Все это отчасти справедливо за исключением одного очень важного обстоятельства, требующего оговорки. Проект Академии наук и отношение Петра к науке в целом никогда не были ориентированы исключительно на практический результат.
В отличие от Р. Декарта, наука и ремесло для Петра — не-соотносимые предметы. Постижение секретов ремесла и вытекающая из этого практическая польза, безусловно, значимая для русского монарха стратегия, но научное знание для него не сопряжено ни с поиском скрытых закономерностей в мире природы, ни с непосредственной практической пользой. Не вдаваясь здесь в подробности, на которых нам уже приходилось останавливаться [Николаев: 40–43], отметим лишь, что приращение научных знаний для Петра сродни методам коллекционирования. Коллекцию редкостей представляет собой его любимое детище — Кунсткамера, которую он рассматривал как первое структурное подразделение будущей Академии. В самой концепции Академии можно усмотреть модель коллекции из приглашенных ученых, призванных наращивать знания в своих областях. Сведения о посещении Петром ряда известных европейских ученых и Французской Академии наук свидетельствуют о его реакции на увиденное как страстного коллекционера. А когда Французская Академия наук в 1717 г. обратилась к Петру с предложением стать ее почетным членом [Мезин], он направил ей весьма показательное благодарственное письмо, где обещал систематически предоставлять «редкости», которые будут ему известны в его государстве. По существу, это обещание принять участие в расширении коллекции Французской Академии, к чему, видимо, и сводится смысл научных поисков и научного познания русского государя-новатора. Но коллекционер владеет лишь своей коллекцией. Практическое овладение природой, о чем страстно говорит Декарт в своем трактате, для него — абсолютно невероятная стратегия.
Косвенным свидетельством того, что в Петровскую и Послепетровскую эпоху в понимании русских просветителей вообще отсутствует установка на практическую значимость наук, является позиция А. Д. Кантемира как автора знаменитой «Сатиры I. На хулящих учение». Произведение это за всю многовековую историю его изучения практически никогда не привлекало внимания интерпретаторов с точки зрения того, как ее автор понимает проблему «пользы наук». По-видимому, ответ казался очевидным1. Однако при внимательном прочтении по-настоящему поражает отсутствие у «поборников науки» в сатире Кантемира каких бы то ни было практических установок. Они не обнаруживают себя ни в отношении «общего блага всех людей» в его материальном выражении (как это подчеркивается в установках Р. Декарта), ни в отношении самого ученого человека:
«…Кто над столом гнется,
Пяля в книгу глаза, больших не добьется Палат, ни расцвеченна марморами саду;
Овцу не прибавит он к отцовскому стаду» ( Кантемир : 57).
И в своих примечаниях к этим строчкам А. Д. Кантемир однозначно утверждает: «Человек через науки не разбогатеет;
каков от отца ему оставлен доход, таков останется, ничего к нему не прибавит» ( Кантемир : 62). Хотя из его рассуждений следует, что не только для себя, но и вообще никакого материального блага в принципе люди науки не создают.
А их противники («хулители наук») как раз и обвиняют ученых в практической беспомощности и бесполезности. При этом автор сатиры даже не пытается их разубедить в этом: знание ученых в устах их «хулителей» представляется бессмысленным на фоне практически значимых навыков ремесленников (портного, цирюльника, счетовода).
Ученый муж А. Д. Кантемира противопоставлен «хулителям науки» как апологет «духовного стяжательства» в противовес обыкновенному корыстолюбию. А образ науки у А. Д. Кантемира обретает аскетические черты праведных, но порой гонимых героев житийной литературы:
«Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита…» ( Кантемир : 366).
Польза же «знания» в понимании А. Д. Кантемира, как и его просвещенных современников, заключалась в формировании самог о́ «познающего человека», главного и исключительного продукта науки, единственной и абсолютной ценности, на создание которой она была направлена. А мерой «пользы» науки становилось наслаждение, которое приносило знание искушенному «познающему человеку».
О практической пользе науки в России впервые заговорили приглашенные академики Петербургской Академии наук, причем заговорили в поэтической форме. Отчасти этот вопрос затронут в известной работе Л. В. Пумпянского в ходе выяснения им влияний на одическое творчество Ломоносова «немецкой школы разума» [Пумпянский]. Знаменитая ломоносовская ода 1747 г. «На день восшествия на Всероссийский престол ея величества государыни императрицы Елизаветы Петровны», как показал Л. В. Пумпянский, восходит к традиции немецких од (в том числе петербургских академических немцев), для которых был характерен индустриально-экономический пафос. Идея возможности стремительного научноиндустриального роста страны, опирающегося на потенциал ученых мужей, впервые прозвучавшая в русской поэзии в оде Ломоносова, подсказана одами Юнкера, некоторые из которых поэт ранее переводил на русский язык. Художественно оформленная концепция практической пользы наук в ломоносовской оде восходит к западной традиции.
Но здесь легко обнаруживают себя и строки, которые невозможно вписать в концепцию Л. В. Пумпянского. Это одна из наиболее цитируемых частей оды. В сознании потомков М. В. Ломоносова XX — XXI вв. она обрела отдельную (самостоятельную) жизнь как весьма распространенная цитата. Возможно, это обстоятельство и помешало разглядеть ранее некоторый смысловой диссонанс этих строк в контексте всей оды поэта:
«Науки юношей питают, Отраду старым подают.
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха…»
( Ломоносов, 1959 : 206).
Какую «пользу наук» провозглашает здесь Ломоносов? Ее понимание у него никак не соотносится с концепцией материального процветания государства, на чем чуть выше в тексте оды поэт сам настаивает. Наука этих строк «питает», «услаждает» человека во все периоды его жизни и в разных обстоятельствах. Здесь явно чувствуется влияние русской поэтической школы конца XVII — начала XVIII в.: с ее образцами, несомненно, был знаком выпускник Славяно-ГрекоЛатинской Академии М. В. Ломоносов. Достаточно вспомнить строки из Кариона Истомина:
«Наук изрядством Карион, дети все дарит,
В приятность иеромонах и старым говорит…»
(цит. по: [Сазонова: 64]).
Но нас интересуют не только источники этих разных настроений и толкований «пользы наук», неожиданно совмещенных в оде Ломоносова, но и то, как понимает, переживает свое место в мире человек, совмещающий в своем сознании эти разновекторные настроения и смыслы, а также то, что в понимании этого человека представляет собой модель мира, позволяющая так непротиворечиво соединить в себе эти смыслы.
Обратимся к духовным одам Ломоносова. В его поэтических переложениях псалмов представлен человек, сосредоточенный на «внутренних событиях человеческого бытия» [Бухаркин: 241].
Уже довольно давно (и это стало своеобразной традицией) комментируя тексты ломоносовских псалмов, исследователи указывают на их связь с событиями личной жизни поэта и ученого [Державина]. Чаще всего называются факты его борьбы внутри петербургского академического сообщества. И эти наблюдения в целом правильные. Однако объяснить только данным обстоятельством своеобразие псалмов Ломоносова в контексте современного ему литературного дискурса было бы несправедливо.
Как известно, первый опыт переложения псалмов Давида Ломоносов получил в 1743 г. в ходе своеобразной дискуссии (соревнования) трех русских поэтов (М. В. Ломоносов, В. К. Треди-аковский, А. П. Сумароков), каждый из которых предложил свою версию 143-го псалма. Состязание это строи-лось вокруг вопроса о преимуществах ямба и хорея. И это обстоятельство, как правило, занимает исследователей данного эпизода русской литературной истории в наибольшей степени [Шишкин]. Комментируя собственно ломоносовский текст, они упоминают о биографических фактах его создателя: М. В. Ломоносов по жалобе академических профессоров находился в момент написания этого произведения под арестом. Содержание 143-го псалма, в котором говорится об избавлении от «рук сынов чужих», вполне соответствует настроениям поэта в этой его жизненной ситуации [Лебедев: 114–115]. Все это не вызывает сомнений, но вместе с тем не объясняет некоторых особенностей произведения, например расхождений в пространственно-временных характеристиках изображаемого мира у М. В. Ломоносова и его соперников, равно как и исходного текста псалма.
Переложения, представленные и В. К. Тредиаковским, и А. П. Сумароковым (при всем внешнем различии текстов), объединяет отношение лирического героя и Творца (Бога), к которому он обращается. Оба героя ощущают в себе божественное присутствие, движимы Его (Бога) волей, изнутри управляющей ими. Вот весьма характерные в этом смысле первые строки текста А. П. Сумарокова:
«Благословен Творец вселенны,
Кем я к победе ополчен!» ( Сумароков : 206).
Здесь источник поступков лирического героя, обращенных во внешний мир, — Бог. Окружающие также видят в герое Создателя:
«Тобой почтут мои мя люди,
Подвержены под скипетр мой» ( Сумароков : 206).
Внутреннее слияние с Богом — вот то, к чему стремится и что ощущает в себе сумароковский герой. Для него высшее благо — быть прямым представителем Его на земле, воплощая «здесь» Его волю. И эта установка отчетливо ощущается в завершающих строках оды Сумарокова:
«Но кто живет по Творчей воле
Еще стократно счастлив боле» ( Сумароков : 209).
Этот же псалом в интерпретации В. К. Тредиаковского решает вопрос об отношениях лирического героя и Творца в аналогичном смысловом ключе. Для героя Тредиаковского Бог тоже абсолютный источник его значимых поступков в мире:
«Кто бы толь предивно руки
Без Тебя мне ополчил?
Кто бы пращу, а не луки
В брань направить научил?» (Тредиаковский: 97), — произносит он, имея в виду известный поединок Давида и Голиафа. Мысль о благостном слиянии с Творцом завершает оду В. К. Тредиаковского так же, как и произведение А. П. Сумарокова:
«Токмо тот народ блажен, Бог с которым пребывает И который вечна знает, Сей есть всем преукрашен» ( Тредиаковский : 102).
Внутреннее бытие героя, наполненное божественным присутствием, составляет основное содержание текстов обоих русских поэтов. И в этой своей характеристике они довольно точно следуют оригинальному тексту 143-го псалма.
На этом фоне ломоносовская интерпретация обнаруживает заметное своеобразие в расстановке отдельных смысловых акцентов. Для поэта важно не только установить точки соприкосновения лирического героя и Творца, но и одновременно подчеркнуть их значительную автономность, несовпадение, разность пространственной позиции в мире. Обращаясь к Богу, лирический герой в начале оды Ломоносова произносит:
«Заступник и Спаситель мой, Покров и милость, и отрада, Надежда в брани и ограда, Под власть мне дал народ святой»
( Ломоносов, 1959 : 111).
Все действия Творца в отношении лирического героя, перечисленные здесь, исходят исключительно извне и завершаются на внешнем его контуре, не проникая во внутреннее бытие. Создатель «защищает», «радует», «ограждает», «дает». Несколько раз в тексте Ломоносова Бог уподоблен «покрову» (слово, которое не используют его поэтические соперники), что также подчеркивает стремление Творца защитить своего избранника извне, не сливаясь с ним в единое целое, сохраняя дистанцию по отношению к внутреннему бытию лирического героя. И вот уже следующие ниже строки (в них Ломоносов более вольно обращается с исходным текстом и в расставляемых смысловых акцентах расходится с вариантами перевода своих оппонентов) настаивают на принципиальной разности позиции в мире лирического героя и Творца, подчеркивают эти различия в конкретике их пространственных характеристик:
«Меня объял чужой народ, В пучине я погряз глубокой.
Ты с тверди длань простри высокой,
Избавь меня от многих вод» ( Ломоносов, 1959 : 114).
«Глубокая пучина» и «высокая твердь», в которых пребывают лирический герой и Господь, подчеркивают дистанцию между ними. А завершается ода Ломоносова не радостным ощущением «Творчей воли» героя в себе, как это представлено в текстах его поэтических соперников, а упоминанием все того же «покрова», который дарует своим избранникам Бог:
«Щастлива жизнь моих врагов!
Но те светляе веселятся, Ни бурь, ни громов не боятся, Которым Вышний сам покров» ( Ломоносов, 1959 : 116).
Подчеркивание разности пространственной позиции в мире человека и Бога становится очевидной установкой Ломоносова в его попытке переложить 103-й псалом. Работа над произведением не была им завершена, что объясняется в письме к В. Н. Татищеву «недостаточной вразумительностью» (цит. по: [Блок: 95]) славянского текста, от которого отталкивается поэт. По-видимому, автор сам почувствовал существенное отклонение от своего источника в процессе расстановки смысловых акцентов, насторожился этим обстоятельством, своей вольностью, нашел некоторые несоответствия оригинала и перевода, и прервал работу. Вот некоторые характерные строки из этого незавершенного текста:
«Ты звезды распростер без счета Шатру подобно пред Тобой.
Ты бездною ее облек,
Ты повелел водам парами Всходить, сгущаяся над нами, Где дождь рождается и снег» ( Ломоносов, 1959 : 228).
Разность позиции Бога и человека достигается четкой локализацией их места во Вселенной: «распростертый шатер звезд пред Тобой» и «воды, парами сгущающиеся над нами». Исходный для Ломоносова текст 103-го псалма не знает такого противопоставления, Бог здесь скорее растворен, присутствует в каждом акте бытия («Простираяй небо яко кожу… / Бездна яко риза одеяние ея»).
Мы полагаем, что стремление обозначить разность позиций в мире Бога и человека, противопоставить их, реализуется практически во всех текстах ломоносовских псалмов в большей или меньшей степени, однако не всегда это происходит явно. По-видимому, необходимость следовать за оригиналом
(исходным текстом), мешала ей в полной мере проявиться повсеместно и определенно. Но как только это ограничение становится необязательным, данная особенность ломоносовских установок обнаруживает себя с большей очевидностью. «Ода, выбранная из Иова…» является тому самым убедительным подтверждением.
В исследовательской литературе уже отмечено как то, что этот текст «принадлежит, безусловно, к наиболее поэтическим созданиям» [Лотман: 637] русского одописца XVIII в., так и то, что он занимает среди других духовных од Ломоносова центральное положение, которое, по сути, определил ей сам поэт в своем прижизненном собрании сочинений. «Между парафразами псалмов и оригинальными стихотворениями, — отмечает В. Л. Коровин, имея в виду «Утреннее…» и «Вечернее размышление о Божием величестве…» Ломоносова, — «Ода, выбранная из Иова» является связующим звеном. Это центральное и ключевое произведение всего цикла Ломоносовских духовных од» [Коровин: 75]. Но прежде всего это более свободное переложение, нежели его псалмы. Оно основано на отдельных главах книги, содержание которых представлено в обрамлении Ломоносовских совершенно оригинальных поэтических строк, идущих от автора и не связанных с библейским текстом.
Само противопоставление позиции «ропщущего человека» (Иова) и Бога задано исходным текстом — Библией. Но сам характер этого противопоставления в оригинале и в Ломоносовской поэтической интерпретации очень сильно разнится. В первом случае — это противопоставление немощи человека, ввергнутого в отчаяние, и величия воли Божией, которой живет и движется все в мире. У Ломоносова же это противопоставление представлено в конкретике пространственных и временных характеристик позиции каждого из участников диалога (Иова и Бога), их принципиальной и непреодолимой разности.
В центре «Оды, выбранной из Иова…» оказывается событие сотворения мира и утверждения миропорядка, недоступное для понимания смертного человека, сосредоточенного на своем внутреннем бытии. Его точка зрения абсолютно несовместима с божественной позицией. И эта «несовместимость», ограничивающая доступность для человека фактов и событий реального мира, постоянно подчеркивается в тексте оды:
«Стремнинами путей ты разных
Прошел ли моря глубину?
И счел ли чуд многообразных
Стада, ходящие по дну?» ( Ломоносов, 1959 : 389).
Указание на то, что принципиально не может быть увидено «смертным» человеком с его пространственной позицией, которую он в силу естественных причин занимает в мире, очевидно, содержится в этом тексте. И этого нюанса нет в оригинале.
Уже не раз отмечалось, что Ломоносов вводит в оду «целую строфу собственного сочинения» [Коровин: 92]. Но именно эта строфа усиливает идею пространственно-временной несовместимости позиции Бога и человека:
«Обширного громаду света
Когда устроить Я хотел, Просил ли твоего совета Для множества толиких дел?
Как персть Я взял в начале века,
Дабы создати человека,
Зачем тогда ты не сказал,
Чтоб вид иной тебе Я дал?» ( Ломоносов, 1959 : 391–392).
Звучащая в этих вопросах ирония обнаруживает себя в парадоксальности упомянутых в них действий. Ни «сказать», ни тем более дать «совет» человек (Иов) не мог по определению, поскольку в той временной позиции, в момент сотворения мира, Иова не было и в принципе не могло быть.
Ломоносов в своих духовных одах очерчивает пространственно-временную позицию Творца и человека, указывая на их противоположность. И в этой своей установке обнаруживает заметные расхождения как с подлинными библейскими текстами, так и с их переложениями русскими поэтами-современниками. Эта особенность, несомненно, требует своего объяснения, которое мы находим в духовных одах поэта, наименее привязанных к собственно библейским мотивам и сюжетам.
Вот как композиционно выглядит знаменитое «Утреннее размышление о Божием величестве». Сначала представлена картина утреннего восхода солнца, данная через точку зрения, позицию, доступную любому «смертному» ( «Уже прекрасное светило / Простерло блеск свой по земли™» ( Ломоносов, 1959: 117) ) . Но уже вторая строфа рисует то, что этот «смертный» в действительности увидеть не может. Она и начинается с оговорки:
«Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететь, Чтоб к солнцу бренно наше око Могло, приблизившись, воззреть, Тогда б со всех открылся стран Горящий вечно Океан» ( Ломоносов, 1959 : 117–118).
Далее следует описание того, что мог бы увидеть «смертный», данное в оде в весьма ярких образах «кипящих камней», «горящих дождей», позволяющих представить поверхность солнца как бы с весьма близкой к нему дистанции. При этом совершенно очевидно, что это умозрительная позиция, которая в реальности не может принадлежать никому из «смертных», но точно не принадлежит и Богу. Позиция Творца в мире будет обозначена Ломоносовым ниже, и сделает он это весьма лаконично:
«Сия ужасная громада Как искра пред Тобой одна…» ( Ломоносов, 1959 : 118).
Таким образом, ломоносовская картина мира выстраивается с учетом трех позиций, точек зрения, используемых при ее описании. Одна из них принадлежит самому обычному человеку, «смертному», вершителю «повседневных дел», «взору» которого ежедневно открывается чудо «освободившихся» от «мрачной ночи» «полей, бугров, морей и леса». Другая «Зиждителю», Богу, которому Солнце «предстоит» как «малая искра». С этими двумя откровенно противоположными позициями в мире мы уже встречались у Ломоносова в его псалмах и «Оде, выбранной из Иова». Третья (умозрительная) позиция не была столь очевидно представленной в библейских переложениях поэта. Здесь же она очерчена с особым усердием. Посвященные ей 2-я и 3-я строфы «Утренних размышлений…»
составляют своеобразный центр смысловой конструкции этого произведения.
Носитель этой позиции, этой точки зрения («смертный», который может мысленно «взлететь к солнцу») здесь прямо не назван. Более определенно он представлен в другом ломоносовском произведении, «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Оно также открывается картиной сходящей на землю ночи, уведенной глазами простого «смертного»:
«Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачно ночь, Взошла на горы чорна тень, Лучи от нас склонились прочь» ( Ломоносов, 1959 : 120).
Здесь также ощущается позиция «великого Творца», превосходящего своими масштабами все самые грандиозные явления видимого мира. Но и с большей определенностью в этом тексте заявлена позиция «премудрых»,
«…которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав, Которым малый вещи знак
Являет естества устав…» ( Ломоносов, 1959 : 121–122).
Это позиция ученого. Она настойчиво заявляет о себе как в первом, так и во втором «Размышлении» М. В. Ломоносова «о Божием величестве». Своеобразие этой позиции состоит в том, что она в плане мира, в «архитектонике мира» (М. М. Бахтин), расположена между позицией обыкновенного «смертного» и «всесильного Творца», и в этом своем качестве призвана преодолеть их противоположность, служит своеобразным мостом, соединяющим их.
Появление этого «моста» в художественном мире Ломоносовских духовных од и объясняет настойчивое разделение и противопоставление в пространственно-временных характеристиках позиций Творца и человека. Такая необычная в контексте современной Ломоносову русской литературы поляризация, которую мы отметили в его переложениях псалмов, в «Оде, выбранной из Иова», обусловлена стремлением найти то начало, ту реальную силу в мире, которая призвана и способна преодолеть отчуждение Бога и человека. Открытие и художественное обоснование позиции ученого в мире высших, сакральных смыслов и ценностей составляет, безусловно, одно из наиболее значимых достижений Ломоносова-поэта. В своих исканиях он соединяет мир человеческого бытия, ограниченный явлениями и событиями «ближних мест» и мир глобальный («пространный свет»), сконструированный по замыслу «великого Творца».
Особенность позиции ученого представлена Ломоносовым еще в одном, уже не поэтическом, а скорее, научном тексте — в «Прибавлении» к «Явлению Венеры». Здесь за широко известными рассуждениями о двух книгах, которые «создатель дал роду человеческому» («Первая — видимый сей мир», а «Вторая книга — священное писание»), следуют выводы, которые, как правило, реже останавливают на себе внимание исследователей:
«А в оной книге сложения видимого мира сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители» ( Ломоносов, 1955 : 375).
И это сравнение ученых с пророками и апостолами не просто риторический прием. Ломоносов стремится придать сакральный смысл позиции ученого в мире, а деяниям его — статус значимого для мира поступка.
Ломоносов первым в русской литературе отдает ученому такое важное место в мироустройстве. И для того, чтобы это сделать, поэту потребовалось изменить господствующую в отечественной художественной словесности картину мира, причем изменения эти коснулись не деталей, не фрагментов, а фундаментальных оснований, художественной картины как целого . Это не просто встраивание в содержательном плане нового элемента (позиции ученого) в существующую (заданную) модель мира.
Доломоносовская русская литература (хотя, надо полагать, не только русская) не знает позиции Творца, представленной в пространственных характеристиках внутри создаваемой картины мира2. Эта позиция всегда здесь вне зоны прямого, непосредственного изображения. И эта ее «вненаходимость»
по отношению к художественному миру является концептуальной характеристикой самого этого мира. Бог, «Зиждитель», введенный Ломоносовым в плоскость изображения, активного сопоставления его пространственной позиции во Вселенной с позицией «смертного», кардинально меняет и содержание этой картины, и, что самое важное, концепцию ее целостности.
Заметим, что целостность художественной картины мира обеспечивается уникальной позицией «вненаходимости» по отношению к ней ее творческого субъекта. Это его сознание, извне охватывающее этот мир и тем самым формирующее его внешние границы, определяет эту целостность. Но границы мира, внутри которых не предусмотрена позиция Творца, существенно отличаются от границ, включающих эту позицию. Такие изменения невозможны без глубокой трансформации самого сознания творческого субъекта, а значит, и модели целостности создаваемого им мира.
На наш взгляд, то, что произошло в плане трансформации, изменения художественной картины мира в духовных одах Ломоносова, является одним из ключевых событий русской литературной истории XVIII в., имеющих важные последствия. Так, казалось бы, весьма отдаленные от Ломоносовских духовных од проблемы социального мироустройства, которые окажутся в центре внимания следующего, послеломоносов-ского, этапа развития русской литературы XVIII столетия, обусловлены, как представляется, во многом именно этими принципиальными находками и открытиями поэта.
Список литературы Картина мира в духовных одах М. В. Ломоносова
- [Блок Г. П.] Примечания // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: в 11 т. М.; Л.: Изд-во Акад. Наук СССР. 1959. Т. 8. С. 864—1193.
- Бухаркин П. Е. Поэтическое творчество М. В. Ломоносова // Сборник статей и материалов, посвященных 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова/ Под. ред. В. В. Окрепилова. СПб., 2011. С.201—259.
- Державина О. А. Стихотворные переложения М. В. Ломоносова // Ломоносов и русская литература. М.: Наука, 1987. С. 189—199.
- Дзюбан В. В. Влияние личности Петра I на решение социальных вопросов в России // Власть. 2020. № 3. С. 248—254.
- Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 30—66 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (19.10.2020). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262
- Коваленко О. А. Реформы Петра I в контексте культурно-исторического диалога России и Европы // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 2 (18). С. 164—171.
- Коровин В. Л. Ломоносов и Библия: «Ода, выбранная из Иова» и Книга Иова // М. В. Ломоносов и православие: сб. ст. о творчестве М. В. Ломоносова / [сост. В. А. Алексеев]. М.: К единству!, 2014. С. 75—97.
- Лебедев Е. Н. Огонь — его родитель. М.: Современник, 1976. 216 с.
- Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века: Учеб. Для студентов вузов, обучающихся по филолог. спец. М.: Высш. шк.: Academia, 2000. 415 с.
- Левитт М. «Вечернее размышление о Божием величестве» и «Утреннее размышление о Божием величестве» Ломоносова: опыт определения теологического контекста // XVIII век. СПб.: Наука, 2006. Сб. 24. С. 57—70.
- Лотман Ю. М. Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. IV: (XVIII — начало XIX века). С. 637—656.
- Луцевич Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 608 с.
- Мезин С. А. Взгляд из Европы: Французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 212 с. [Электронный ресурс]. URL: http://annuaire-fr.narod.ru/bibliotheque/Mezin-book/Glava-1.html (15.10.2020).
- Николаев Н. И. Мифы о М.В. Ломоносове и мотивы его поступка (к вопросу о построении биографии русского ученого) // М.В. Ломоносов: личность ученого и научно-образовательная деятельность: сборник / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова»; [сост. и отв. ред. В. И. Голдин]. Архангельск. 2009. С. 31—54.
- Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. 205 с.
- Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом: исследование П. Пекарского: в 2 т. СПб.: тип. Товарищества «Общественная польза», 1862. Т. 1: Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. 578 с.
- Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Л.: Наука, 1983. Сб. 14. С. 3—44.
- Сазонова Л. И. Карион Истомин — певец мудрости // Книга любви знак в честен брак. М.: Книга, 1989. С. 43—64.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: А-cad, 1994. 408 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления / сост., пер. с нем. и комм. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 447 с.
- Шишкин А. Б. Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // XVIII век. Л.: Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, 1983. Сб. 14. С. 232—246.