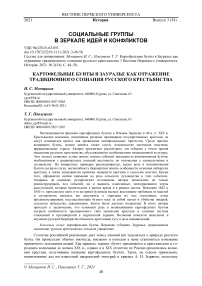Картофельные бунты в Зауралье как отражение традиционного сознания русского крестьянства
Автор: Менщиков И.С., Павлуцких Т.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальные группы в зеркале идей и конфликтов
Статья в выпуске: 3 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается феномен картофельных бунтов в Южном Зауралье в 40-е гг. XIX в. Крестьянские волнения, охватившие регионы проживания государственных крестьян, не могут пониматься просто как проявление антифеодальных протестов. Среди причин, вызвавших бунты, можно назвать также слухи, недовольство местными властями, иррациональные страхи. Авторы предлагают рассмотреть эти события с точки зрения мышления русского крестьянства, обусловленного особенностями традиционной культуры. Этот подход позволяет лучше понять генезис событий, внезапность возникновения бунтов, необъяснимую с рациональных позиций жестокость по отношении к односельчанам и духовенству. На конкретных примерах рассматривается, какую роль в возникновении бунтов сыграли слухи, неспособность бюрократии понять особенности сознания сибирских крестьян, а также описываются причины ненависти крестьян к сельским властям. Кроме того, обращается особое внимание на роль сельского духовенства в этих событиях. Опираясь на комплекс исторических источников, авторы попытались не только реконструировать ход событий, но и выявить однотипные, повторяющиеся черты выступлений, которые происходили в разное время и в разных местах. Волнения 1842 и 1843 гг. проходили в одно и то же время (в начале весны); восставшие требовали от властей и духовенства показать им документы о «продаже их под господина»; отказ продемонстрировать несуществующие бумаги влек за собой пытки и убийства писарей, сельского начальства, священников. Бунты были жестоко подавлены. В итоге авторы приходят к заключению, что основную роль в возникновении картофельных бунтов сыграли особенности традиционного типа мышления крестьян и сложная система отношений и противоречий в зауральской деревне. Волнения показали нежелание и неумение русской бюрократии объяснять крестьянам суть и цель нововведений.
Картофельные бунты, пермская губерния, зауралье, традиционное мышление, русское крестьянство, сельское управление
Короткий адрес: https://sciup.org/147246382
IDR: 147246382 | УДК: 94(470.5)-63.051 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-3-48-58
Текст научной статьи Картофельные бунты в Зауралье как отражение традиционного сознания русского крестьянства
формальным поводом к нему стало распоряжение о распространении картофеля. Тем не менее этот термин устоялся и вошел в употребление в исторической литературе. Картофельные бунты вспыхивали в 1841–1844 гг. в Вятской губернии и Предуралье, но с наибольшей силой и остротой они проявились в зауральских уездах Пермской и Оренбургской губерний, особенно в Шадринском уезде, где память о них сохранилась и в ХХ в.
Традиционно в советской историографии картофельные бунты рассматривались как крестьянское движение, носившее антифеодальный и антикрепостнический характер, поскольку основной причиной его послужили слухи о намерении правительства передать государственных крестьян «под барина» [ Токарев , 1939, с. 28–29]. Следует отметить, что в работах советских историков практически любые крестьянские выступления рассматривались как объективно антифеодальные [Дружинин , 1958; Мамсик , 1987]. Попытки понять духовные истоки социальных протестов крестьянства в XIX в. с учетом особенностей мышления этой группы населения были предприняты первоначально в рамках этнографии и фольклористики, а впоследствии специалистами по истории религии и старообрядчества [ Клибанов, 1978]. Заметный вклад в исследование образа мыслей и менталитета русского, в том числе и сибирского, крестьянства внесла М. М. Громыко [ Громыко, 1991]. В 90-е гг. ХХ в. наступил кризис так называемой марксистко-ленинской методологии в истории, что нашло отражение не только в смене акцентов в исследовании проблемы, но и в достаточно критическом отношении к советской историографии. Так, Ю. П. Бокарев не без иронии пишет, что все старания советской исторической школы объяснить крестьянские выступления в России ухудшением положения крестьян является просто притягиванием фактов к теории «за уши» [ Бокарев , 1996, с. 169]. Вместе с тем он отмечает, что крестьянство реагировало на окружающую действительность и воспринимало «ее преломление через особенности крестьянского менталитета» и это определяло его поведение в конкретной ситуации [Там же].
Интересный и очень продуктивный подход к пониманию природы картофельных бунтов предложил В. А. Шкерин [ Шкерин , 1992]. Он обратил внимание на то, что волнения начинались еще до того, как возникали изменения, их спровоцировавшие. Объяснение этому исследователь видит в том, что местные крестьяне относились с подозрением к государственной администрации. Все попытки изменений, исходившие от чиновников, воспринимались враждебно, и это не всегда поддается рациональному объяснению [Там же, с. 99–100]. И. В. Побережников отметил роль слухов в крестьянской среде XIX в. Применительно к картофельным бунтам он вполне резонно отметил, что социально-пессимистические слухи были не только и не столько поводом, сколько одной из причин крестьянских волнений, поскольку являлись одним из самых главных способов передачи и усвоения информации в обществе традиционного типа [ По-бережников , 1996, с. 207]. Кроме того, в отличие от большинства исследователей картофельных бунтов, которые, использовали в основном вспоминания участников, И. В. Побережников обратился к архивным документам 1841–1845 гг. В начале XXI в. авторы, изучавшие причины крестьянских волнений, сместили акценты в сторону семиотики и коллективных представлений. Эти объяснения могут дать продуктивное продолжение исследований в этой области. Вместе с тем, с точки зрения историка, указанные объяснительные конструкции отличаются умозрительностью, им недостает опоры на комплекс исторических источников, поскольку анализ направлен в основном на тексты воспоминаний. Именно это обстоятельство послужило побудительной причиной к написанию данной статьи.
Прежде всего следует обратить внимание на известную путаницу понятий, касающихся типа мышления русских крестьян в первой половине XIX в. Этот тип определяется как «традиционный», «архаический», «религиозный», причем все эти термины используются как синонимичные. Здесь необходимо сказать, что в этнологии определение «архаический» используется преимущественно к дописьменным обществам и культурам и едва ли подходит для характеристики русского общества в указанный период [Чистов, 2005, с. 108, 112]. Более правильно говорить о традиционном сознании и традиционном обществе, для которых, согласно К. В. Чистову, присущи следующие характеристики: закрытость, замкнутость, контактный тип передачи социального опыта, наличие вариативности в рамках общей традиции [Там же, с. 113]. Традиционное сознание, отличаясь крайним консерватизмом, резко отрицательно относится к новациям, особенно если они исходят от чиновничества, которое не утруждалось объяснениями, понятными для простого народа. Так, исправник Р. А. Черносвитов в своих показания о карто- фельных бунтах, в подавлении которых он принял участие, отмечал: «Впрочем, я не подозреваю даже возможности развития какой-либо мысли в этом безграмотном и диком обществе» (Черносвитов, 1998, с. 48).
Говоря о волнениях 1841-1843 гг., следует учитывать конкретно-историческую ситуацию в 30-40-е гг. XIX в. в зауральском регионе. Царское правительство и конкретно граф П. Д. Киселев исходили из принципа, типичного для абсолютистской монархии: государство лучше знает, что лучше для народа, - и реализовывали этот принцип типичным методом - усилением регламентации с возложением контроля на бюрократический аппарат. Главными органами такого «попечения» о государственных крестьянах стали Министерство государственных иму-ществ (МГИ), созданное в 1837 г., и его отделения на местах. Кроме того, государство стало более активно вмешиваться в деятельность крестьянской общины, переложив на нее определенную часть своих функций, выбирая себе наиболее послушных исполнителей, которые, в свою очередь, нередко использовали данную власть в своих корыстных интересах [ Мамсик, 1987, с. 156–163]. Строго говоря, другого выбора у государства не было, поскольку ощущался острый кадровый голод, особенно в восточных регионах. Таким образом, выборные органы крестьянской волостной общины приобретали вид государственных чиновников, не являясь таковыми на самом деле. Им даже полагались определенные знаки и элементы форменной одежды. В это же время в Зауралье в завершающую стадию вошел процесс генерального межевания, который сопровождался спорами и даже силовыми столкновениями с землемерами и между соседними селениями. Недовольство вызывали и сокращение общинной земли, и водворение переселенцев из европейской России. Многие сибирские крестьяне воспринимали межевание как нарушение их традиционных прав. Так, крестьяне Чернавской волости Курганского уезда в результате межевания потеряли до 60 % прежних владений [Там же, с. 162].
Наконец, правительство, опасаясь неурожая и голода, пыталось принудить крестьян делать запасы и распространять относительно новую культуру - картофель. Местная администрация проявила чрезмерное усердие: минимальная площадь, которая изначально был определена как одна десятина на волость, а сверх того только по желанию сельских обществ, была увеличена по произволу местных властей [Побережников, 1989, с. 46]. Все эти обстоятельства, соединившись вместе, стали прекрасным горючим материалом, которому не хватало только искры для взрыва. Роль детонатора сыграли слухи, которые с точки зрения современного образа мышления были абсолютно нелепыми. Среди них наиболее пугающим для крестьян был слух о том, что их заставили сеять «картофку», потому что хотят передать или продать помещику, то есть сделать крепостными. Здесь необходимо сделать еще одно замечание относительно способа мышления в традиционной культуре. Даже мелкие нарушения установленного порядка, кажущиеся нам несущественными, могут восприниматься как нарушение всего порядка в целом, как, например, нарушение ритуалов или табуированных действий. Безусловно, в среде религиозно (или суеверно?) настроенной части населения любые мелочи могут рассматриваться как знамения апокалипсиса. Не секрет, что наиболее часто эти представления были распространены среди староверов, которые вообще жили в ожидании скорого конца света. Однако данных о том, что массово распространялись слухи о скором конце времен, нет, а имеющиеся сведения являются отрывочными и фрагментарными и касаются достаточно изолированной и наиболее консервативно настроенной части крестьянства - старообрядцев, доля которых в населении Зауралья была весьма велика. Картофельные бунты были направлены на восстановление и поддержание имеющегося порядка вещей, а не на улучшение положения крестьян или не выражали протест против ухудшившихся условий жизни. «Картофка», «чертово яблоко» и все легенды, связанные с этим овощем, играли второстепенную роль. Уже упомянутый исправник Р. А. Черносвитов писал: «Главною причиною беспорядков были крутые меры нововведений, которые русский народ не скоро усваивает… В жалобах своих, высказываемых в час мятежа, желали они остаться по-старому. Вот понятия народа!» (Черносвитов, 1998, с. 48). Надо сказать в связи с этим, что название «картофельные бунты» не совсем корректное применительно к волнениям 1841–1843 гг., однако оно укоренилось с легкой руки А. Н. Зырянова и используется в исторической литературе. Кроме того, в кратком редакторском предисловии к работе Зырянова сказано, что автор назвал свой очерк «Картофельным бунтом», вероятно, подражая М. И. Семеновскому (Зырянов, 2012, с. 270). Однако обнаружить историка с таким именем не удалось. Скорее всего, мы имеем дело либо с опечат- кой, либо с небрежностью редакторов, поскольку по смыслу имеется в виду М. И. Семевский, издатель исторического журнала «Русская старина». Вызывает досаду, что никто из авторов, использовавших статью Зырянова, а также редакторы, дважды осуществившие ее републикацию, не обратили внимание на это обстоятельство и не задались вопросом, кто же такой М. И. Семеновский и почему Зырянов ему подражал.
Крестьянские волнения в Зауралье охватили наиболее населенные, развитые в аграрном отношении уезды: Шадринский, Камышловский, Челябинский и Курганский. Последний относился к сибирской Тобольской губернии и поэтому с 1820-х гг. формально именовался округом, но, чтобы избежать путаницы, мы будем его также именовать уездом. Первая волна возмущения прокатилась весной 1842 г., когда до крестьян довели правительственный циркуляр относительно принудительной посадки картофеля. Беспорядки имели место в Челябинском уезде и продолжались около шести недель. Как отмечает Р. А. Черносвитов, в народе стали «носиться толки», которые перекинулись в Шадринский уезд, где начались «сборища и бунты» ( Черносвитов , 1998, с. 45). В официальных документах содержится информация о том, что истоки слухов шли именно из Челябинского уезда. Пристав Шадринска даже отдал предписание перекрыть сообщение с соседним уездом, дабы «толки из Челябинска не проникли в здешний уезд, в случае появления разгласителей таковых предоставлять… за строгим караулом; воспрещать крестьянам всякие непозволительные сборища и толки» (ГАШ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 83. Л. 1).
В середине Великого поста 1842 г., т.е. примерно в начале марта, крестьяне стали собираться и вести тайные разговоры. Так, в селе Крестовском, неподалеку от Шадринска, волостной писарь на сходе прочитал распоряжение о посеве картофеля, показал присланные семена и потребовал мирского приговора о согласии на посев, пригрозив расправой. Священник и причт пытались заняться просветительской работой, но не вполне удачно. Вскоре мужики, «вполне состоятельные и разумные», стали устраивать тайные сборища. Дьячок Крестовского прихода совершенно случайно стал свидетелем такого схода, о чем и сообщил настоятелю: «Крадучись собираются мужики по гумнам, овинам, о чем-то совещаются. Зашел я вечером в овин старика Столбова, застал человек 30 самых уважаемых прихожан – громко разговаривали; увидели меня, замолчали, что воды в рот набрали, поскакали с ног, переглядываются… к чему-то мужики готовятся» ( Кокосов , 1913, с. 601). На Пасху народ собрался на площади и пошел в дом священника, где самый старший, упомянутый Столбов, потребовал грамоту, которую якобы дала еще царица Екатерина и пригрозил: «Мы вас не пожалеем». Жена священника ответила, что ни о какой грамоте не знает. Тогда пришедшие начали производить обыск, говоря: «Все равно в барскую кабалу не пойдем» (Там же). Священник о. Яков отсиживался на колокольне три дня. Бунтующие еще раз требовали отдать им грамоту на вольность, уничтожить «запродажную запись» и отослать назад «кабальные яблоки», после чего продолжать жить с ними «по-старому». После этого гнев их обратился на писаря, которого раздели, бросили на битое стекло из окон его дома и стали катать по нему. От полученных ран он скончался. С теми же вопросами бунтари приставали к пономарю и дьяку, окунали в холодную воду и требовали показать «запродажную запись». В итоге, используя семью священника как заложников, вынудили того спуститься с колокольни и пытали, протаскивая с одного берега реки на другой на веревке. Лишь приход в село солдат спас священника, которого собирались утопить в колодце (Там же, с. 608).
Крестьянин П. Г. Гурин вспоминал о бунте в Камышловском уезде в 1842 г. Он тоже отмечает, что возмущение началось перед Пасхой. Крестьяне собрались на площади села и кричали, что «писаря с окружным продали мир за господина… картофки кому сеяли? господину же». После чего порешили пытать «миропродавцев», пока не скажут правду и не отдадут подлинники продажных грамот. Причиной возмущения стали слухи, которые принесли жители соседнего села Никольского, пришедшие искать своего сбежавшего писаря Матвея Шаньгина. Такие волнения проходили почти по всему Камышловскому уезду, писари и волостные головы сбежали и попрятались ( Деви , 1874, с. 93–94). На сходках все были вооружены кольями, вилами, топорам и просто жердями и палками, каждый бивший начальников и писарей следил, чтобы и другие делали то же: круговая порука, «отвечать – так всем». Тех, кто отказывался, били «и тем побуждали присоединиться к толпе» (Там же, с. 90).
Примерно в это же время волнения начались в селе Томакульском, на севере Шадринско-го уезда. На Егорьев день (23 апреля), который пришелся в 1842 г. на четверг после Пасхи, в указанном селе были традиционный съезжий праздник и базарный день. Прошел слух, что крестьян продали какому-то барину и обвинили волостного писаря Канахина, которого тут же начали избивать, требуя, чтобы он сознался в существовании подтверждающей это бумаги. От побоев писарь вскоре умер (Зырянов, 1860, с. 16; Деви, 1874, с. 90). Слухи начали быстро распространяться по окрестностям, и уже на следующий день в селе Широковском крестьяне требовали от местного головы показать им грамоту. Волостной голова Иванчиков решил собрать 25 апреля, в субботу, волостной сход, дабы пресечь все эти слухи. На сход в г. Долматове пришли многие жители волости, в том числе и из с. Широково, которые потребовали показать им указ об отчислении их какому-то господину со взысканием денег, а, кроме того, распоряжения о разведении картофеля. Голова зачитал им распоряжение, но горячие головы закричали, что оно подложное и голова его сам написал, а надо требовать подлинное. Толпа разделилась на две части: одна закрылась в Долматовском монастыре, другая отправилась в волостное правление искать «бумагу». Когда сообщение о мятеже дошло до казначея, иеромонаха Николая, он вместе со старшею братией, опасаясь захвата монастыря, приказал запереть все входы в монастырскую ограду и, взойдя на западную стену монастыря вместе с некоторыми монахами и мирянами, бывшими в монастыре, закричал: «Подать немедленно пушку!» После этого наиболее активные бунтовщики отошли от стен монастыря и направились к волостному правлению вместе с волостным головой и писарем и заперли их там. Бунтующие захватили тем временем писаря и волостного старшину и собирались пытать их водой в реке. Однако в это время из монастыря вышла небольшая процессия с иконами и хоругвями, крестьяне расступились и позволили войти в волостное правление, где находились пленники, иеромонах Николай потребовал, чтобы к целованию креста подошли только достойные, а прочие удалились. Таким образом, мятежники вышли, остались только голова Иванчиков, писарь Терехов и при них четверо караульных, из которых одному казначей также велел удалиться. Итак, оставались еще долматовские крестьяне, и после целования креста казначей сказал им, чтобы они вели пленных в монастырь. «Таким образом вышли мы из управы со святою иконою, – сообщает казначей иеромонах Николай, – мятежники оставались при выходе сем безгласными, шествие наше до самого монастыря продолжалось с колокольным звоном, в сопровождении довольного числа долматовских жителей и окончилось благополучно. После сего Голова Иванчиков и писарь Терехов приняты были под охранение монастыря, а трое караульных из числа мятежников были заключены во узы и поручены крепкому караулу. А почти в начале еще мятежа по совету Казначея и старшей братии Далматовского волостного правления писарь Качалкин послал нарочного к окружному начальнику с кратким письменным донесением, почему в 26 число апреля во 2 часу по полудни и прибыли в обитель чиновники: Помощник Шадринского окружного г. Каргаполов и 3-го стана Пристав г. Жданов с военною командою и немалым числом людей из крестьян потребных по их распоряжениям; скоро по прибытии своем упомянутые чиновники начали действовать, и мятеж начал утихать; вышеозначенные узники были чиновниками от уз освобождены и отпущены в свое место; в 28 число апреля прибыл в Далматов сам г. Окружный Начальник также с военною командою к которой присовокупив и в монастыре находившихся стал действовать сообразно своим планам, имея квартиру близ самой волости» (ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 3176. Л. 1–4).
Аналогичные волнения на следующий день прокатились в Кривской и Замараевской волостях, где толпа напала на волостного писаря и голову, требуя бумагу о продаже барину ( Зырянов , 1860, с. 17–18). Из Шадринска в с. Иванищево выехало уездное начальство с небольшим отрядом солдат. Сначала чиновники пытались уговорить толпу разойтись, уверяя, что никакого приказа о продаже их нет, однако увещевания остались тщетными, и только подход отряда солдат и слух, что за ним прибудет еще один, привели к успокоению. Затем чиновники отправились в Долматов, где толпа при виде солдат рассеялась, а зачинщики были арестованы и отправлены в Шадринск. Правда, по пути их пытались отбить, но безрезультатно. В начале мая волнения прекратились. Около 700 человек были приговорены к различным наказаниям, но правительство решило помиловать бунтарей, в итоге только 20 наиболее актинах участников были выпороты розгами и отправлены в свои села. Таким образом, волнения 1842 г. прошли относительно спокойно, отчасти из-за начала полевых работ, но сохранилась связь между двумя слухами: о посадке картофеля и передаче крестьян помещику (Там же, с. 20).
Волнения вспыхнули снова через год, в конце марта 1843 г. А. Н. Зырянов, который подробно описал этот период картофельных бунтов, невзначай отмечает, что начались они, как и прежде, в начале половодья. Это замечание тем не менее гораздо более важно и интересно для нас, чем все рассуждения о «сакральном времени». Разлив рек, с одной стороны, мешает связи между населенными пунктами и перемещению войск. С другой стороны, подготовка к весенним полевым работам завершена, но сами они еще не начались. Усиленная изоляция деревни и наличие свободного времени создали условия для обсуждения вновь появившихся в начале марта слухов. Как отмечал в своих показаниях Черносвитов, крестьяне после бунта быстро занялись пахотой ( Черносвитов , 1998, с. 47), и это вполне естественно, потому что в противном случае они были бы обречены на голод. Это обстоятельство также содействовало быстрому окончанию беспорядков.
Слухи, распространявшиеся в марте 1843 г., несколько отличались, от тех, что расползались в 1842 г., хотя смысл их был тот же. Как и год назад, крестьяне были убеждены, что их хотят передать «под барина», причем под этим барином фигурировали самые разные, как правило, вымышленные, лица. Крестьян собирались передать, согласно слухам, какому-то Кулькову, Кисилеву, Министерову, Министеру некоей великой княжне ( Зырянов , 2012, с. 271). Хозяин будет теперь требовать большую запашку и непомерные оброки, а женщин заставит ткать большее количество холста. Всю эту сделку провернули, согласно слухам, чиновники и писари, за обещание тройного жалования, награждения медалями и мундирами. В отличие от 1842 г., по рукам ходили списки с «подлинных» документов от имени «генерал-фельдмаршала», губернатора, Министерства государственных имуществ. Предлагалось «господам начальникам» привести крестьян к присяге, а стеснительные обстоятельства передачи (трехдневная барщина, усиленные оброки и т.п.) держать втайне. А. Н. Зырянов приводит несколько образцов таких «грамот» (Там же, с. 272). Поскольку приближалась Пасха, то возник слух, что именно на пасхальной службе и будут приводить к присяге, а после этого государственные крестьяне станут удельными или крепостными. Эпицентром стала Батуринская волость, где в конце марта 1843 г. крестьяне осадили волостное начальство в избе и собирались ее поджечь. Спас осажденных только сильный ветер, который дул в сторону села, что могло спровоцировать большой пожар (Там же, с. 245). Кстати, никто из исследователей показаний Черносвитова не обратил внимания на одну очень важную вещь. Он пишет, что эти события в Батурино проходили весной 1842 г., в то время как А. Н. Зырянов, который работал со сгоревшим архивом Шадрин-ского уездного суда, описывает эти же события под 1843 г. и приводит официальные документы, также датированные этим годом. Таким образом, может сложиться ложное впечатление, что рассказ идет о двух бунтах в селе Батурино, в то время как имеет место анахронизм со стороны Черносвитова, записи с допроса которого сделаны почти десять лет спустя.
Итак, исправник Черносвитов отправился в Батурино усмирять бунтующих, послал за подкреплением в Екатеринбург, а сам примкнул к осажденным в доме начальникам и начал отстреливаться. Тогда на помощь восставшим прибыли крестьяне с оружием числом до 4 тысяч. На площади Батурина для встречи с «начальством» собрались местные жители и представители соседних селений, причем, как пишет А. Н. Зырянов, «какая-то злоба обуяла крестьян, и они готовы были на самый отчаянный поступок, не знавший границ», однако внешне приезжим выказывалась «притворная приветливость» (Там же, с. 273). В ответ на беглые расспросы Черносви-това о причине волнений ему ответили, что поводом служит «всеобщий слух, разнесшийся недавно, о приписке их, помимо высочайшей воли, к какому-то барину, отдаться и принадлежать которому у них нет ни охоты, ни желания и что поэтому они хотят отыскать бумаги, касающиеся этого дела у волостных и сельских начальников, у писарей, попов и дьяков» (Там же). Кроме того, толпа потребовала убрать знаки с одежды волостных начальников (галуны, пуговицы и т.п.) и назначать им жалование впредь так же, как было раньше, т.е. по решению «общества». В конце концов, Черносвитов, начальство, священник Иоанн Капустин (кстати, отец архимандрита Антонина Капустина) и десяток солдат укрылись в церкви, где выдержали настоящую осаду. Лишь подоспевшая рота солдат смогла напугать и рассеять толпу. Однако большая часть переместилась в соседнюю Верхтеченскую волость, где, по сообщениям Черносвитова, собралось более 20 тысяч человек, многие из которых были вооружены. Здесь произошла стычка восставших с войсками, которые использовали пушку, и «батальный огонь стрельбы разогнал толпу» ( Черносвитов ,
1998, с. 46–47). 7 апреля крестьяне села Кабанье, расположенного в десяти верстах от Батурина, напали на писаря Самсона Толшина, несколько дней пытали его водой, требуя показать «присяжный лист», по которому он передал их «под барина» ( Зырянов , 2012, с. 272). В других волостях Шадринского и соседнего с ним Челябинского уезда беспорядки протекали по схожему сценарию: пытки и расправы над писарями, администрацией и духовенством. Они детально описаны А. Н. Зыряновым и поэтому не нуждаются в пересказе.
К местам волнений прибыли пермский губернатор и другое губернское начальство, а также воинские части с артиллерией, казаки, отряды башкир. Картофельные бунты были подавлены, начались расправы над бунтовавшими. В их ходе погибло около 70 человек, более четырехсот было осуждено военными судами, сотни были просто высечены розгами по распоряжению властей (ГАШ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 83. Л. 1). За мелкие проступки («те, кто только не повиновался начальству») была объявлена амнистия ( Зырянов , 2012, с. 304). Однако до начала официального расследования и действия военных судов войска, прибывшие для подавления беспорядков, свирепствовали без ограничений, «не отличали черного от белого, а красного от черного, а драли, истязали и лупили всякого, кто под руку попался или подвернулся, хоть по делу, хоть без дела – все равно. Татарские нагайки долго помнились нашим мужикам… Казаки долго шлялись по нашим дворам, и овец этих или баранов – жором жрали и почти всех приели» (Там же, с. 305).
В Челябинском уезде Оренбургской губернии, который был расположен по соседству с Шадринским уездом, волнения также возобновились в 1843 г. К сожалению, по этому уезду нет таких полных описаний, как по Шадринскому. Тем не менее сохранились воспоминания по отдельным селам. Так, в селе Травянское Окуневской волости чиновников и писарей восставшие крестьяне «освежали» в весенней миасской воде, местных выборных и сельских старших потчевали оплеухами и плевками, трепали бороду, оскорбляли всячески не только мужики, но даже бабы и мальчишки. Толпа требовала выдать им такие же бумаги на продажу «под барина». Во время бунта травянцы поддержали восставшее соседнее село Воскресенское и сместили старосту С. А. Показаньева. После подавления бунта избранных бунтарями старосту К. М. Сапожникова, И. М. Бабикова, А. И. Ветлугина и еще 7 человек из соседних деревень сослали в Сибирь, других высекли розгами ( Виноградов , 1875).
Другим центром бунта стала восточная часть Челябинского уезда, смежная с Шадринским. В селах Чумляк, Каменное и других крестьяне осаждали церкви и волостные правления, пытали священников и местное начальство, требуя документов о продаже крестьян барину, упрекали в корыстных поборах, требовали выдачи указа с золотыми буквами. На подавление была направлена экзекуционная команда из Челябинска численностью до 250 человек. Командовал ей губернский лесничий Лангранж. О приближении отряда крестьяне узнали, как и в других местах, заранее, когда он находился еще за десяток верст от села. Полагаясь на значительное превосходство в числе, они готовились встретить войска во всеоружии. Лангранж, начал с увещеваний и призывов прекратит мятеж, но затем приказал атаковать. Однако более многочисленная толпа крестьян быстро смяла войско лесничего. Сам он едва спасся от плена благодаря быстрому бегу своей лошади. Трофеем крестьян стал сотник Рамазанов, схваченный в то время, когда он садился в телегу с собственным имуществом. Башкир-сотник был хорошо знаком каменским крестьянам, и они порядком проучили его за забытую, как они говорили, хлеб-соль. Позже, отпустив его все же на свободу, крестьяне взялись за своего волостного писаря. Сначала они требовали выдать указ о продаже их помещику, потом начались угрозы и неизбежные в таких случаях побои. Писарь Завьялов кричал, что никогда не видел такой бумаги. Не добившись толку, бунтующие засадили его в погреб. Едва они окончили расправу, как в Каменное прибыл уездный исправник Деграве, уверенный в полном порядке, восстановленном здесь Лангранжем. В гневе закричал он на встречавшие его толпы народа: «Зачем вы здесь? Под суд заговорщиков, в кандалы!» Но дело кончилось плачевно для него самого. Бунтовщики подхватили Деграве и, посадив спиной к голове лошади, в руки подали вместо повода хвост. После этого бросали в исправника грязью и возили по селению с криком и бранью. Наконец, подвели его к месту заключения, где уже находились волостной писарь и старшина, но вскоре отпустили всех домой. Окольными путями Деграве кое-как добрался до Челябинска. Против восставших были направлены регулярные части под командованием генерал-лейтенанта В. А. Обручева. Крестьяне, вооруженные вилами, топорами и жердями, собирались дать бой. И здесь, так же как и в Шадринском уезде, дело решила пушка. Холо- стой залп поверг крестьян в панику, они бросились бежать. Некоторое время они скрывались в лесах, искали спасения в полевых избушках, банях и на скотных дворах. Их ловили и жестоко наказывали. 26 апреля 1843 г. отряд полковника Разена и подполковника Балкашина при четырех орудиях занял с. Каменное. При тщательном досмотре у крестьян было найдено оружие, изъяты кистени, ножи, порох и свинец. Участников мятежа наказали розгами, а зачинщиков арестовали. На следующий день отряды заняли соседние села, где были проведены показные экзекуции и оставлены небольшие воинские команды. По предварительному следствию, более 600 человек из деревень, принимавших участие в бунте, были отправлены в Челябинск для предания суду [Морозов, 2012, с. 4].
Волнения охватили также и Курганский округ Тобольской губернии, однако тобольский губернатор князь П. Д. Горчаков отреагировал быстрее и приехал в Курганский уезд в самом начале беспорядков, что позволило успокоить крестьян ( Черносвитов , 1998, с. 47). Но и здесь распространялись слухи о том, что имеется указ, отпечатанный золотыми буквами, о передаче государственных крестьян в крепостное владение и что сельское начальство скрывает его, опасаясь справедливого гнева. Этот слух послужил толчком к началу массовых волнений в Утят-ской волости. Собравшись толпой, крестьяне решили разыскать указ и стали его требовать от волостных властей, полагая, что его уничтожение может предотвратить опасность. Конечно, никакого указа не нашли, поэтому довольно жестоко обошлись с писарем и головой, но таких жестокостей и размаха, как в Шадринском уезде, удалось избежать. Вслед за Утятской волнения распространились на 12 волостей Курганского округа. Везде борьба протекала в одних и тех же формах: крестьяне, добиваясь указа, расправлялись с волостным начальством, а в некоторых селах и с духовенством, собирали сходы для согласования действий, связывались с бунтовавшими в соседних волостях (ГАОО. Ф. 3. Оп. 13. Д. 2. Л. 43–47).
Как мы видим, волнения во всех четырех уездах в 1842 и 1843 гг. проходили по одному сценарию. Вначале довольно внезапно распространялись слухи о том, что государственных крестьян «продали под барина», что у писарей хранится соответствующая грамота и что посевы картофеля делаются специально для этого. Затем крестьяне шли на площадь, к волостному правлению или к церкви, требуя показать и отдать им эту тайную грамоту, поскольку уничтожение ее, по мысли бунтующих, делало ничтожной и саму передачу барину. Когда сельские власти и духовенство отказывались показать им грамоту за неимением таковой, их подвергали пыткам (чаще всего водой или морозили) и отправляли под арест. Одновременно выбирали нового голову, его помощников и писаря. Затем подходили военные части, и начинались расправы над восставшими, под которые зачастую попадали и невиновные.
Однако за этой общей картиной скрываются несколько вопросов, ответить на которые, исходя их теории классовой борьбы, довольно сложно. Прежде всего, как отмечают все источники, крестьяне не бунтовали против царя, считали его своим заступником. В довольно редких случаях они проявляли первыми агрессивные действия против уездных или губернских чиновников, а главным объектом ненависти становились духовенство, выборные сельские власти и особенно писари. Интересно, что причт «попадал под раздачу» практически без различия: священники, дьячки, сторожи, даже просфорни. Это трудно объяснить классовой ненавистью, а также некими абстрактными теориями о том, что священник персонифицировал сакральную власть, мифологическая функция которой состоит в ответственности за материальное благополучие народа. Пыткам и издевательствам подвергались служители церкви, не имевшие духовного звания. Не менее надуманным кажется умозрительное рассуждение о том, что события происходили на Пасху, в «сакральное время». Духовенство занимало на селе особое – двойственное – положение. Е. Д. Золотов, сам бывший в начале ХХ в. псаломщиком в Шадринском уезде, отмечает, что при выполнении треб священник «почитается как ангел Божий», а в житейских делах и столкновениях «прихожане начинают осознавать себя господами положения, теряют к нему всякое уважение, неделикатны, в суждениях о нем между собой не стесняются, выражаясь: “Без попа, как без поганого ведра”. Ни в каком сословии нет такой зависимости от людей, как в положении духовенства и в среде своего прихода» (Золотов, 2005, с. 35). Таким образом, можно сказать, что особое почтение крестьяне выказывали только при церковной службе и исполнении треб, в остальное время – духовенство такие же люди. Никакого святотатства, с точки зрения крестьян, не было. Требования к священникам выдать грамоту объяс- няются тем, что именно они чаще всего зачитывали важные правительственные сообщения, а кроме того, входили в крайне узкий пласт грамотного населения на селе. Иными словами, у кого же еще требовать пресловутую грамоту, как не у духовенства? Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство, а именно отсутствие (за некоторым исключением) личной ненависти к членам причта. В отличие от сельской администрации, их пытали не «за должность», а за то, что они не выдавали несуществующие бумаги. Угрожая расправой и даже смертью, бунтующие обещали позаботиться о семье и детях. Следовательно, все служители церкви подвергались нападениям прежде всего за отказ подчиниться требованиям «мира», а не за принадлежность к духовному сословию.
Иным было отношение к сельскому начальству, вышедшему из крестьян, и писарям. В действиях восставших отчетливо прослеживаются обиды за унижения, лихоимства, оскорбления. По мысли крестьян, именно эти люди вдобавок продали их барину за мундиры, галуны и медные пуговицы, которые постоянно фигурировали в циркулировавших слухах, именно они составили и хранили грамоту, где об этом будто бы и было сказано. Достаточно просто и в то же время правильно объяснил это обстоятельство Черносвитов, который прекрасно понимал отношения в русской деревне: «Народ, выбирая себе сельских и волостных начальников, постоянно ненавидит их, потому что они, делаясь начальниками, делаются, – как выражаются крестьяне, – чиновниками, мироедами и действительно злоупотребляют своей властью… разделяя с ним слабость к пьянству, – они знают все его тайные помышления» ( Черносвитов , 1998, с. 48). Сходные мысли высказывают и другие авторы, освещавшие те события. Зырянов пишет: «Народ изумился при виде форменных кафтанов с галунами и светлыми пуговицами, надетых на писарей и мужиков-начальников… Писари смотрели на себя, как на необходимое звено в служебном иерархии и были глубоко убеждены, что в них вся суть и все значение, и что не они для крестьян, а крестьяне для них созданы, на потребу и довольствие писарей… крестьяне любя не любя, скрепя сердце должны были давать и давать до бесконечности, опасаясь в противном случае навлечь на себя гнев и услышать речь непечатную» ( Зырянов , 2012, с. 271). Неслучайно в числе прочих требований крестьяне настаивали на том, чтобы уничтожить кафтаны с галунами и пуговицами и жалование, назначаемое начальникам и писарям за счет общины, на которое она не давала согласия (Там же, с. 273). Кроме того, крестьяне объясняли свои жестокости и убийства тем, «что правду от царя скрывают, а так волей-неволей донесут» ( Деви , 1874, с. 98).
Несколько слов надо сказать о времени года, когда проходили волнения в 1841 и 1843 гг. Как было отмечено выше, это было в неделю до Пасхи и неделю-другую после этого праздника. Это неслучайно, хотя не стоит углубляться в поиски «сакрального времени». Именно в это время крестьяне были относительно свободны от работ в поле как в силу праздничного периода, так и в силу погодных условий. К тому же в источниках упоминается начало половодья на Исети и Миассе. В самом деле, как отмечают авторы, первый картофельный бунт прекратился сам по себе и довольно быстро, поскольку крестьянам надо было заниматься пахотой. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов слух о том, что крестьян будут приводить к «присяге под барина» именно на Пасху, поскольку в церкви будет почти все мужское население, да и в торжественной обстановке никто не поймет, к какой присяге их приводят.
В завершение необходимо сказать о пресловутой российской бюрократии николаевской эпохи. Чиновники канцелярий и, в частности, глава МГИ граф Киселев исходили из того, что простой народ темен и не знает, что для него лучше. Поэтому государство в лице своих служащих может и должно восполнить этот пробел, а объяснять и растолковывать смысл готовящихся изменений совершенно необязательно. Это прекрасно понимали многие и в XIX в. П. Деви писал, что бюрократические меры попечения о крестьянах и планы, которые составлялись в канцеляриях, хотя по идее и казались благотворными, но не были согласны с действительностью и вызвали волнения, а их исполнители держались в стороне от крестьянства, почти ничего о нем не знали и имели цель только выполнить приказы вышестоящего начальства ( Деви , 1874, с. 87). К сожалению, в этом смысле в России не так уж много изменилось.
Память о картофельных бунтах сохранилась надолго как в среде крестьян, так и среди чиновников и духовенства, как это можно видеть из процитированных источников. Известный собиратель уральского фольклора В. П. Бирюков даже в начале ХХ в. фиксировал воспоминания о времени картофельных бунтов: «Тогда хватали попов, старостов, или как их ишшо там называли, морозили, обливали водой или в реку опушшали» (ГАСО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 172. Л. 1).
Список литературы Картофельные бунты в Зауралье как отражение традиционного сознания русского крестьянства
- Бокарев Ю.П. Бунт и смирение (крестьянский менталитет и его роль в крестьянских движениях) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-ХХ века). М.: РОССПЭН, 1996. С. 167-172.
- Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. EDN: SUPKKV
- Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. Реализация и последствия реформы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России: XIX век. М.: Наука, 1978. 344 с.
- Мамсик Т.С. Крестьянское движение в Сибири: вторая четверть XIX в. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. 272 с. EDN: UAFDIN