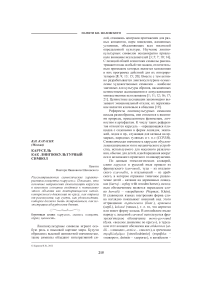Карусель как лингвокультурный символ
Автор: Карасик Владимир Ильич
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (166), 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются символические характеристики концепта «карусель». Показано, что основные направления символизации карусели в языковом сознании сводятся к пониманию этого объекта как повторяющегося неподконтрольного движения по кругу, как отрыва от реальности, как суеты, как удовольствия, которое должно быть дозированным, как иллюстрации абсурдности бытия.
Карусель, символ, концепт, образ, ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/148324249
IDR: 148324249
Текст научной статьи Карусель как лингвокультурный символ
Лингвокультурные символы играют особую роль в языковой картине мира. Будучи образами с высокой ценностной значимостью, такие символы обладают интегративной си- лой, становясь центрами притяжения для разных концептов, норм поведения, жизненных установок, объединяющих всех носителей определенной культуры. Изучение лингвокультурных символов неоднократно привлекало внимание исследователей [3; 5; 7; 10; 14]. С позиций общей семиотики символы рассматриваются как особый тип знаков, отличительным признаком которых является заложенная в них программа действий для их интерпретаторов [8; 9; 13; 15; 20]. Вместе с тем активно разрабатывается лингвокультурное осмысление художественных символов – наиболее значимых для культуры образов, насыщенных ценностными ассоциациями и допускающими множественное истолкование [1; 11; 12; 16; 17; 21]. Ценностные ассоциации закономерно вызывают эмоциональный отклик, их переживание является ключевым в общении [19].
Референты лингвокультурных символов весьма разнообразны, они относятся к явлениям природы, прецедентным феноменам, личностям и артефактам. К числу таких референтов относится карусель – «вращающаяся площадка с сиденьями в форме лошадок, экипажей, лодок и пр., служащая для катанья на ярмарках, народных гуляньях и т. п.» (ССРЛЯ). Символическая значимость карусели обусловлена назначением этого механического устройства, используемого для массового развлечения, обычно для детей, идеей вращения вокруг оси и возможного приятного головокружения.
По данным этимологических словарей, слово карусель в русский язык пришло из французского (carrousel) , туда – из итальянского (carosello) , в итальянский – из арабского, в котором отражено типичное развлечение детей – катание на деревянных лошадках ( kurraj – a play with wooden horses), исходным обозначением является персидское слово kurra(k) – «жеребенок» (Черных; Klein). В славянских языках внутренняя форма слова наглядно показывает внешний вид этого аттракциона: въртележка (болг.), вртешка (серб.), kolotoč (чешск.), т. е. то, что вертится или имеет форму кольца. В английском языке наряду с лексемой carousel используется фразеологическое обозначение merry-go-round (букв. «веселое движение по кругу»), в турецком этот концепт обозначен как atlıkarınca ( at-lik – «лошади», arnica – «после»), в греческом στροβιλοδρόμιο [strovilodrómio] (στροβιλο – «поворот», drómio – «дорога»), в китайском –
旋 转木马 [xuán zhuǎn mù mǎ] (букв. «движение по кругу на деревянных лошадках»). Можно заметить, что в разных языках используются в качестве мотивирующих признаков образы движения по кругу и типичные сидения, используемые на карусели, – деревянные лошадки.
В справочной литературе о символах карусель ассоциируется с кругом, колесом, быстрым движением и полетом, поэтому в качестве сидений фигурируют лошади или птицы. Движение по кругу сориентировано на центральную ось, осмысливаемую символически как небесный столп, который является основой колеса жизни. Отсюда вытекают идеи круговорота, смены времен года, начала, конца, возрождения, реинкарнации и т. д. Отмечено, что в разных культурах, от Алтая до Скандинавии, в мифологических картинах мира боги привязывали своих коней к мировому столпу [2; 4; 18].
Ассоциативные признаки слова карусель в беллетристике и публицистике (по данным Национального корпуса русского языка) сводятся к следующим смысловым переносам.
Образ карусели обозначает нескончаемый циклический бег времени: По-прежнему кружилась и подпрыгивала разноцветная карусель, отмечались дни рождения, переходящие в затяжные праздники, праздники по поводам и без оных, – а уж эти-то и были самыми упоительными (К. Арутюнова); …Долж-но быть весело, не допускать докладов о деятельности школы, об «общих задачах наступающего года». Закружилась-завертелась карусель, каждый день… (Е. Мушкина); Значит, приходилось все-таки задумываться о странностях своей судьбы. С чего вдруг закрутилась эта карусель? Где же она, эта отправная точка? (А. Моторов).
Подчеркивается неконтролируемость карусельного круговорота событий: Вечером я никак не мог заснуть, маялся, ворочался с боку на бок, а в голове у меня крутилась какая-то сумасшедшая карусель из газеты, «Фауста», «Первой любви» и каких-то знакомых лиц, гнусным образом превращавшихся из одного в другое (В. Белоусова); Безумная карусель замедляла ход, притормаживая свой бег в никуда и в ничто… (Д. Рубина); Правда, в последние дни карусель неожиданных событий вроде бы сблизила их (З. Юрьев).
Акцентируется постоянное возвращение к некоторой исходной точке: Потом действие совершает неожиданный скачок во времени и пространстве: мы переносимся в родную деревню Широ, где начинается праздник, мгновенно превращающийся в смертельную карусель (В. Корецкий); Эти диалоги длились до бесконечности, по замкнутым спиралям, уходящим в темные дыры, чертова карусель, бег по кругу: остаться, чтобы уйти, уйти, чтобы остаться (М. Гиголашвили); Пожадничал Маклер, встали в позу доблестные оперативники, и завертелась вся эта кровавая карусель (Н. Леонов).
Словом карусель обозначается жизненная суета: – Не жизнь, а карусель, – уныло сказал знакомый и перечислил свои заботы, обязанности и обязательства (А. Слаповский); Тогда завертелась беспринципная карусель по перевыборам Кампоманеса (А. Карпов).
С каруселью сравнивается бюрократическая машина: Документы немецкому суду показались настолько убедительными, что он не задумываясь тут же им поверил, дал ход, и судебная карусель в Германии закрутилась с новой силой (С. Мирзоев); «Без этого кремлевская карусель власти давно бы взорвалась», – уверен профессор Шрёдер (В. Агаев).
Заслуживает внимания сравнение прибытия и отлета самолетов с вращением карусели: До позднего вечера над аэродромом стояла бесконечная гудящая карусель – самолеты прилетали, подвешивали бомбы, заправлялись, снова выруливали на взлетную полосу, взлетали и, собравшись в тройки, уходили на запад… (В. Гастелло).
Приведенные примеры показывают типичное сравнение неприятных повторяющихся событий с каруселью. Подчеркиваются неконтролируемый бег времени, суета, возвращение к одной и той же точке. Ассоциативная символика карусели в публицистике и беллетристике носит выраженный отрицательнооценочный характер.
Символизация карусели в поэтическом тексте отличается тем, что образ крутящегося механизма порождает индивидуально-авторские обертоны смысла: Зазвени, затруби, карусель, / Закружись по широкому кругу. / Хорошо в колеснице вдвоем / Пролетать, улыбаясь друг другу. / Обвевает сквозным холодком / Полосатая ткань балдахина. / Барабанная слышится трель, / Все быстрее бежит карусель. / «Поцелуйте меня, синьорина» (В. Ходасевич).
Исчезает грань между реальностью и театральной постановкой. Пребывание на карусели превращает людей в актеров, участников комедии. Значимой характеристикой такого кружения становится нарастающая скорость механизма.
Обратим внимание на звуки, сопровождающие карусельный полет: трубят трубы и бьет барабан. Эти звуки часто осмысливаются как голос судьбы (вспомним апокалиптические трубы ангелов).
Образ карусели в поэтическом тексте трагичен. Это образ хаоса: Други, в пьяной карусели / Исчезают верх и низ… / Кто сейчас, сорвавшись с мели, / Связно крикнет свой девиз? (Саша Черный).
В этом хаотическом кружении исчезают верх и низ, поэт предвосхищает одно из основных ощущений постмодернизма – отсутствие ориентиров. Отметим, что эти строки написаны в эпоху революционного преображения мира. До этого времени люди чувствовали себя как пассажиры корабля, севшего на мель. Сорвавшись с мели, они оказались во власти стихии.
В сложном ассоциативно насыщенном тексте О. Мандельштама наша планета сравнивается с каруселью: Я очнулся: стой, приятель! / Я припомнил – черт возьми! / Это чумный председатель / Заблудился с лошадьми! / Он безносой канителью / Правит, душу веселя, / Чтоб вертелась каруселью / Кислосладкая земля… (О. Мандельштам).
Земля, на которой мы живем, имеет вкус: она кисло-сладкая. Это вкус фруктов и ягод, вкус райского сада. Чумный председатель – прямая отсылка к «Пиру во время чумы» А.С. Пушкина. С некоторыми оговорками можно сказать, что возникновение или значимое отсутствие определенного символа в поэтических текстах может служить индикатором мироощущения, свойственного эпохе.
Образ карусели встречается в стихотворениях И. Бродского. Заслуживает внимания ироничный комментарий поэта о неподкон-трольности нашей жизни нашим желаниям и планам: С той дурной карусели, / что воспел Гесиод, / сходят не там, где сели, / но где ночь застает (И. Бродский).
Ссылка на поэму древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни» (VIII в. до н. э.) иронична по своей тональности, вероятно, из-за выраженной дидактичности античного текста: Дома полезнее быть, оставаться снаружи опасно. / Брать ‒ хорошо из того, что имеешь. Но гибель для духа / Рваться к тому, чего нет. Хорошенько подумай об этом. / Пей себе вволю, когда начата иль кончается боч- ка, / Будь на середке умерен; у дна же смешна бережливость (Гесиод, пер. В. Вересаева).
И. Бродский называет жизнь дурной каруселью, поскольку человек не в силах понять замысел Бога. Очевидна перекличка с Екклезиастом.
Глубокий смысл прослеживается в поэтическом символе карусельной лошадки: И подковы сивки или каурки / в настоящем прошедшем, даже достигнув цели, / не оставляют следов на снегу. Как лошади карусели (И. Бродский).
Такая лошадь не оставляет следов. Иначе говоря, она эфемерна. Это парадоксальное наблюдение накладывается на трудный для истолкования оксюморон в настоящем прошедшем . Поэт сравнивает карусельную лошадку с фольклорным конем русской сказки.
Образ плывущих друг за другом рыб существенно отличается от традиционных карусельных лошадок: Чудовищные рыбы плывут по кругу, норовя схватить друг друга за хвост. / Двадцать пять веков крутится эта карусель. Художник, / зачем ты ее придумал? – Нет, – отвечает художник, я ничего не придумал, я – реалист (Г. Алексеев).
В определенной мере этот индивидуальноавторский символ карусели смыкается с известным древним образом змеи, кусающей себя за хвост – Уроборосом. Перед нами энигматический образ вечности. Обратим внимание на позицию художника: в данном случае это – поиск и нахождение символов.
Интересно определение «городская карусель» в тексте современного поэта: Я мечтал подружиться с совой, но увы, / Никогда я на воле не видел совы, / Не сходя с городской карусели. / И хоть память моя оплыла, как свеча, / Я запомнил, что ходики в виде сыча / Над столом моим в детстве висели (А. Цветков).
Сова – традиционный символ мудрости, эта птица часто изображалась как один из атрибутов богини Афины. Поэт замечает, что нельзя приблизиться к мудрости, находясь на городской карусели.
Таким образом, индивидуально-авторская символизация карусели в поэтическом языковом сознании соответствует общим мифологическим характеристикам движения по мировому кругу, при этом возникают ассоциации с хаосом, а также энигматические смыслы, допускающие множественную открытую интерпретацию.
Заслуживают внимания повествования, герои которых преображаются, сев на карусель.
Это происходит со старым синьором из сказки Джанни Родари «Карусель в Чезенатико»:
Как-то вечером один старый синьор посадил своего внука в красный автомобиль, а сам тоже поднялся на карусель и сел на деревянную лошадку. Ему было неудобно сидеть на ней – ноги у него были длинные и волочились по земле, и синьор смеялся. Но едва карусель закружилась… Что за чудеса! Старый синьор в одно мгновение оказался выше самого высокого небоскреба в Чезенатико, и его лошадка поскакала по воздуху прямо к облакам. Синьор посмотрел вниз и увидел сразу всю Романью – провинцию, в которой он жил, – затем всю Италию, а потом и все Землю, которая удалялась куда-то под цокот копыт его лошадки. Скоро она стала походить на маленькую голубую карусель, которая кружилась и кружилась, показывая один за другим свои материки и океаны, словно нарисованные на глобусе.
– Куда же мы едем? – удивился синьор, как вдруг увидел своего внука. Тот сидел за рулем красного, довольно облезлого автомобиля, который превратился теперь в космический корабль. Затем он рассмотрел и остальных ребят. Они спокойно и уверенно правили – кто рулем, а кто вожжами. И все мчались по своим орбитам, будто искусственные спутники (Дж. Родари).
Карусельная лошадка возносит своего героя ввысь, и тот получает возможность посмотреть на землю из космоса. Карусель превращается в волшебное средство, с помощью которого можно чудесным образом оторваться от реальности.
В ином ключе идея карусели раскрыта в одноименном ироничном рассказе Михаила Зощенко:
Вот, братцы мои, придется нам некоторое время обождать с бесплатностью. Нельзя сейчас.
Скажем, бесплатно все. А мы никакой меры не знаем. Думаем, ежели бесплатно, так и при, ребята, всем скопом.
Как однажды на первомайских праздниках поставили карусель на площади. Ну, народ повалил, конечно. А тут парень какой-то случился. Из деревни, видимо.
– Чего, – спрашивает парень, – бесплатно крутит?
– Бесплатно!
Сел этот парень на карусель, на деревянную лошадь, и до тех пор крутился, покуда не помертвел весь.
Сняли его с карусели, положили на землю – ничего, отдышался, пришел в себя.
– Чего, – говорит, – крутит еще?
– Крутит…
– Ну, – говорит, – я еще разочек… Бесплатно, все-таки.
Через пять минут снова его сняли с лошади.
Снова положили на землю.
Рвало его, как из ведра.
Так вот, братишки, обождать требуется (М. Зощенко).
Катание на карусели показано как аллегория земных удовольствий, избыточное количество которых приносит людям вред. Это тривиальная идея, которая выражена в различных назидательных нарративах.
Символический потенциал концепта «карусель» закономерно приводит писателей к тому, чтобы это слово становилось заглавием для сборников рассказов. Идея понятна: движение по кругу дает возможность соединить порой несоединимые вещи. Эту мысль четко выразил Харуко Мураками в предисловии к своей книге «Ничья на карусели»:
Чем больше ты слушаешь чужие истории, чем больше наблюдаешь сквозь них чужую жизнь, тем большее тебя охватывает бессилие. Осадок и есть то самое бессилие. Суть бессилия в том, что нам некуда идти. В нашем распоряжении – подвижная система под названием «наша жизнь», в которую мы можем себя вписать, но эта же система одновременно предусматривает и нас самих. Как карусель – мы всего лишь вращаемся в определенном месте с определенной скоростью. Наше вращение никуда не направлено. Ни выйти, ни пересесть. Мы никого не обгоняем, и никто не обгоняет нас. При том для сидящих на карусели это вращение кажется яростной ничьей с воображаемыми врагами.
Вероятно, именно по этой причине факт может выглядеть странно неестественным в той или иной ситуации. Подавляющая часть внутренней силы, которую мы зовем волей, исчезает, едва возникнув, однако мы не в состоянии этого признать, и пустота оборачивается странными и неестественными искривлениями на разных этапах нашей жизни (Харуко Мураками).
Карусель становится символом воображаемой реальности, в которую мы погружены и которую остро переживаем. Замечу, что в греческом языке удивительно точно обозначен концепт «развлечение» – ψυχαγωγία [psycha-gogía] – букв. «душа» + «ведение». Символ ка- русели смыкается с символом зеркального лабиринта.
Российский писатель-сатирик С. Альтов объединил в сборнике рассказов под заглавием «Карусель» свои наблюдения над характерами и обстоятельствами. Приведу его комментарий к известной басне И.А. Крылова:
Лебедь, рак да щука
…Воз по-прежнему оставался на том же месте. Хотя рак добросовестно пятился назад, щука изо всех сил тянула в воду, а лебедь в поте лица рвался в облака.
Всем троим приходилось нелегко, зато они были при деле.
Но вот однажды ночью местные хулиганы перерезали постромки и скрылись.
Едва рассвело, рак привычно попятился назад, щука, изогнувшись, рванула в воду, а лебедь замахал белыми крыльями.
И рак, ничего не понимая, полетел в воду. Щука, не успев толком обалдеть, по самый хвост увязла в речном иле. Лебедь испуганно взмыл в облака. Воз, предоставленный сам себе, укатил.
Теперь все трое часто встречаются в одном водоеме. Лебедь опустился и здорово сдал. Щука на нервной почве жрет всех подряд. А в глазах рака временами появляется прямо-таки человеческая тоска по большому настоящему делу (С. Альтов).
Этот сюжет раскрывается в постмодернистской тональности абсурда как полного отсутствия смысла там, где смысл должен быть. В басне И.А. Крылова высмеивается нерациональная организация деятельности. В комментарии сатирика показана исходная пустота намерений участников этого дела. Высмеивается их ностальгическая привязанность к бессмысленному занятию, которое их объединяло. Такое понимание символа карусели созвучно публицистическому его осмыслению.
Резюмирую. Основные векторы символизации карусели в языковом сознании сводятся к пониманию этого объекта как повторяющегося неподконтрольного движения по кругу, как отрыва от реальности, как суеты, как удовольствия, которое должно быть дозированным, как иллюстрации абсурдности бытия. Наблюдается определенная дискурсивная специфика понимания карусели как символа в публицистике и поэзии. Для публицистов на первый план выдвигается критическое отношение к карусельности жизни, поэты прибегают к этому символу, чтобы выразить трагичность несовпадения кажущейся и настоящей реальности. Вместе с тем актуальным остается детское восприятие карусели как чуда и праздника жизни.
Список литературы Карусель как лингвокультурный символ
- Аверинцев С.С. Символ // Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев [и др.]. М., 1983. С. 607-608.
- Баешко Л.С., Гордиенко А.Н., Гордиенко А.Н. Энциклопедия символов / под ред О.В. Пер-зашкевича. М., 2007.
- Барляева Е.А. Символы сознания в структурах языка (на материале английского языка): мо-ногр. СПб., 2010.
- Бидерман Г. Энциклопедия символов / пер. с нем. М., 1996.
- Борботько В.Г. Формы концептуализации идей как ценностей культуры в языковом сознании // Жизнь языка в культуре и социуме - 3: материалы конф. М., 2012. С. 5-7.
- Вольский А.Л. От поэтической философии к философской поэзии: опыт герменевтического исследования / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб., 2008.
- Воркачев С.Г. В чаще символов: образ в языке и культуре: моногр. Краснодар, 2021.
- Зубко Г.В. Древний символ. Истоки. Смысловая структура. Эволюция. М., 2010.
- Кармадонов О.А. Социология символа. М., 2004.
- Купрякова В.С. Зеркало как символ роскоши и тщеславия // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусства. 2012. № 3. С. 16-20.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
- Лотман Ю.М. Между эмблемой и символом // Лотмановский сборник / Тартуский ун-т, каф. русской литературы, каф. семиотики, Рос. гос. гу-манит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед.; сост. Е.В. Пермяков. М., 1997. Т. 2. С. 416-423.
- Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / под ред. Ю.С. Степанова. М., 1983. C. 37-89.
- Олянич А.В. Дар Востока - Западу: линг-восемиотика и аксиология веера // Лингвокультур-ные ценности в сопоставительном аспекте: кол. моногр. / науч. ред. В.И. Карасик, Н.А. Красавский. Волгоград, 2018. С. 134-157.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / пер. с англ. М., 2000.
- Пророков М.В. Категория художественного образа и проблема символа // Вестн. Моск. гос. унта. Сер. 9: Филология. 1987. № 4. С. 39-47.
- Тодоров Ц. Теории символа. М., 1998.
- Топоров В.Я., Мейлах М.Б. Круг // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 18-19.
- Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: моногр. М., 2008.
- Шейкин А.Г. Символ // Культурология. Энциклопедия: в 2 т. М., 2007. Т. 2. С. 457-458.
- Шелестюк Е.В. Семантика художественного образа и символа (на материале англоязычной поэзии XX века): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.
- Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа // Вопр. языкознания. 1997. № 4. С. 125-143.
- Якушевич И.В. Лингвокультурологический комментарий слова-символа в поэтическом тексте // Русский язык за рубежом. 2012. № 1. С. 85-91.