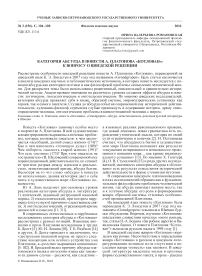Категория абсурда в повести А. Платонова «Котлован»: к вопросу о шведской рецепции
Автор: Романовская Ирина Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (156), 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены особенности шведской рецепции повести А. Платонова «Котлован», переведенной на шведский язык К. Э. Линдстен в 2007 году под названием «Grundgropen». Цель статьи заключается в анализе шведских научных и публицистических источников, в которых повесть исследуется с позиции абсурда как категории поэтики и как философской проблемы осмысления человеческой жизни. Для раскрытия темы были использованы рецептивный, описательный и сравнительно-исторический методы. Акцентировано внимание на различных уровнях создания эффекта абсурда в повести: логическом, гносеологическом и онтотелеологическом. По мнению шведских исследователей, категория абсурда проявляет себя в языке, образной системе, мировоззренческих установках как героев, так и самого писателя. Сгущая до абсурда события современной ему исторической действительности, художник-философ стремился глубже проникнуть в содержание истории, драму самоопределения человека, онтологические проблемы взаимоотношений человека с миром.
А. платонов, повесть "котлован", абсурд, экзистенциализм, рецепция русской литературы в швеции
Короткий адрес: https://sciup.org/14751035
IDR: 14751035 | УДК: 821.113.6
Текст научной статьи Категория абсурда в повести А. Платонова «Котлован»: к вопросу о шведской рецепции
Повесть «Котлован» занимает особое место в творчестве А. Платонова. В ней художественно концентрированно выражены ключевые проблемы, которые волновали писателя: в чем заключается «всеобщий, долгий смысл жизни» (174)1? Как и чем наполнить «томящую душу» (189)? Чем побороть «жалость старой жизни» (191)? Что есть «истина» (173)? При этом писатель не «остраняется» (В. Шкловский) современной ему пореволюционной действительности, но сознает ее трагизм: разрыв между идеалом и реальностью, экзистенциальный кризис, абсурд бытия. Несмотря на то что слово «абсурд» в повести не использовано, данная категория дает о себе знать в художественном мире «Котлована» повсеместно.
Ю. А. Лень выделяет три основных уровня реализации категории абсурда в литературе: 1) логический, заданный деструкцией языковой нормы; 2) гносеологический, при котором нарушены (отсутствуют) причинно-следственные связи; 3) онтотелеологический, отражающий кризис ценностей и смыслов [11: 311].
В современных отечественных и зарубежных исследованиях категория абсурда в «Котловане» рассмотрена с разных позиций. Языковые аномалии в прозе Платонова исследованы в трудах Б. Дооге [5], Ю. И. Левина [10], Т. Б. Радбиля [14] и других. Б. Дооге приходит к заключению, что «деструкция языковой нормы не просто следствие концепции или особого устройства ума Платонова, а средство выражения концепции» [5: 182]. И. Бродский видел причину абсурда платоновского языка в онтологии языка как такового (в данном случае – русского), как следствие –
в языковых реалиях революционного времени, где новый лексикон, новая грамматика есть порождение утопической мысли, которая по своей сути ограниченна и конечна [2]. Н. Полтавцева считает, что абсурдность бытия в художественном мире Платонова возникает как результат «ощущения исчерпанности возможности проясненного познания мира… как кризис индивидуального сознания» [13]. По мнению Х. Гюнтера [4], О. В. Стукаловой [15] и ряда других исследователей, значимость категории абсурда в «Котловане» есть результат осмысления исторической действительности в форме утопии/антиутопии.
В современном шведском платонововедении взгляд исследователей обращен как к фундаментальным философским проблемам человеческой жизни, где абсурд занимает важное место, так и к эстетике абсурда: его роли в формировании жанра, образной системы, стилевых особенностей произведений Платонова.
На шведский язык повесть «Котлован» была переведена К. Э. Линдстен в 2007 году под названием «Grundgropen» и вызвала в Швеции бурное обсуждение. Впрочем, изучение «Котлована» шведскими славистами началось много раньше, так, статья П.-А. Бодина «Загробное царство и Вавилонская башня. О повести Платонова “Котлован”» вышла на русском языке в 1994 году [1].
В шведской системе жанров «Котлован» определен как роман. Несоответствие в определении жанра «Котлована» в русском и шведском литературоведении возникло из-за отсутствия в последнем жанра «повесть» как такового. В шведской литературе выделены малые и крупные формы художественного текста; в прозе – рассказ
(новелла) и роман. Однако определение жанровой природы «Котлована» через романную форму соответствует внутренней логике художественного текста А. Платонова. Н. И. Дужина отмечает, что, работая над «Котлованом», Платонов «вычеркивает длинные монологи и отдельные эпизоды», «убирает все с его точки зрения лишнее» [6: 26]. В итоге, считает В. Ю. Вьюгин, автор добивается «особой плотности сюжета» и повествования, где «буквально каждая фраза представима как загадка» [3: 228–229]. Сокращается форма подачи материала, при этом объем содержания возрастает.
Первое, на что обратили внимание шведские литературоведы-слависты, – это язык А. Платонова, который был назван абсурдным: «Язык крушит все вокруг себя. Он обречен под тяжестью собственного абсурда» [19]. По мнению М. Нюда-ля и А. Хаглунд, деструкция норм литературного языка, приемов психологизации сближает стиль А. Платонова с творчеством писателей-экзистенциалистов, в частности С. Беккета [18], [19].
Логический абсурд связан с нарушением принципов таксономии и семантической валентности языка. В утопическом сознании времени русская пролетарская социалистическая революция открыла путь к счастью человечества. В повести А. Платонова о строительстве нового социалистического мира лексема «счастье» уже на первых страницах вытеснена лексемами «тоска», «голод», «смерть».
Как известно, язык выступает в качестве посредника между человеком и бытием, и если нарастают языковые аномалии, которые выводят язык на грань деструкции картины мира, то это свидетельствует о том, что с бытием и/или с самим человеком происходит нечто исключительно важное, но не поддающееся логическому объяснению. Профессор Стокгольмского университета П.-А. Бодин интерпретирует речевой абсурд «Котлована» в контексте библейской легенды о строительстве Вавилонской башни. Опорной точкой в исследовании шведского слависта является обращение к тому фрагменту текста, где будущий общепролетарский дом сопоставлен с башней. Строительство общепролетарского дома-башни невозможно претворить в жизнь, полагает Бодин, не только потому, что отсутствует его проект и технические средства воплощения, но также по причине «нового» языка. Революционный новояз – это эклектика, он вбирает в себя иностранные политические и научные термины, канцеляризмы, при этом он предельно безграмотен и милитаризован. Язык этот в конфликте с традицией, с опытом прошлого, и это мешает коммуникации, взаимопониманию людей. Платонов дает сцены обучения «политграмоте» в «Котловане». Революционный лексикон внушается, вдалбливается в сознание советского человека. Макаровна с «бодростью своего памятливого разума» отчеканила: «Авангард, актив, аллилуй- щик, аванс, архилевый, антифашист» (263). Слова заучены наизусть, но для Макаровны остаются «чужими». Таким образом, «новый» язык оказывается лишенным смысла. Следствием отсутствия нормальной коммуникации становится невозможность строительства «общепролетарского дома», и котлован трансформируется в яму, дыру, провал.
Гносеологический абсурд возникает как результат иллюзии знания, когда казалось бы логически освоенная реальность, оформленная в дефиниции «время», «пространство», «природа», «история», «социализм», «план», «факт» и т. д., не открывает истины. Действие повести разворачивается, с одной стороны, в реальном пространстве, во множестве присутствуют в ней и конкретные маркеры времени, указывающие на советские реалии 1929–1930 годов. С другой стороны, действие повести происходит как бы вне времени: герои копают котлован «общепролетарского дома» в нетерпении «конца истории», одновременно готовы копать столь долго, пока не докопаются до истины. Нельзя в точности определить «цель» их действий и степень ее достижения. Что именно является целью? – строительство дома, поиск смысла жизни, борьба с прошлым, реализация мечты, бегство от сомнений. Сама жизнь является целью или материалом для реализации идеи «новой жизни»? Эти и другие вопросы стоят перед автором, героями и читателями «Котлована».
П.-А. Бодин приходит к выводу, что в повести создается иллюзия осуществления социалистической утопии, однако она тут же «демонтирована разными способами – на уровне языка, метафорики, наррации» [1: 170]. В качестве «причины» возникновения прозы, в которой напряженно взаимодействуют рациональное и иррациональное начала, исследователь видит смену и конфликт литературных направлений. Повесть «Котлован» – это завершающий аккорд в развитии литературного процесса 1920-х годов с господствующим в нем авангардом, в то же время она отражает первый этап становления «сталинистской» литературы. В советской литературе утверждается (насаждается) канон социалистического реализма. И хотя словосочетание «социалистический реализм» возникло позже (в 1932 году), многие авторы уже были вынуждены считаться с идеологической установкой на героическое освещение строительства социализма, в котором особая роль отводилась «новой идее» и преображенному ею «новому человеку» – готовому к жертвенному участию в создании нового мира социализма.
Начиная с названия, в центре – строительство общепролетарского дома, который в перспективе должен стать «очагом» общей счастливой жизни. Однако «текст» «Котлована» абсурден: внешне соответствуя канону социалистического реализма, внутренне представляет его антимодель.
Алогичной представляется вся архитектоника повести. Вслед повествованию сюжетно-композиционная структура произведения имеет как минимум две «самостоятельные» части и два разнонаправленных идейно-эстетических вектора. Повествователь сообщает: «…Они должны начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата – и тот общий дом возвысится надо всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, и их непроницаемо покроет растительный мир» (190). Если первая часть дает читателю положительный импульс, связанный с надеждами на преобразование жизни, то вторая часть несет в себе мощный отрицательный заряд. В ней автор показывает трагедию советского народа, ставшего заложником реализации государственной утопии.
В рецензии «Между абсурдом и реальностью» (2007) Анна Хаглунд акцентирует внимание на том, что сюжет повести развивается по двум сценариям. Если в первой части представлен «мягкий, будничный, меланхолично-серый абсурд», то во второй – абсурд достигает своего апогея и выглядит как «сумасшедший праздник, где и животные, и люди вовлечены в “ лихорадочный танец”» [19]. Автор постепенно доводит абсурд до предела. Если ситуация с затянувшимся по времени рытьем котлована предельно гиперболична, на грани гротеска, то разворачивающиеся во второй части события коллективизации и раскулачивания строятся по гротескно-абсурдному принципу. Сцена за сценой, событие за событием писатель показывает пиррову победу идеи над жизнью, «классового» над «единоличным», действий над целеположением. В «Котловане» гротескно-абсурдное изображение действительности связано с «выражением дисгармонии мира» [7]. Комплекс проблем исторического развития, конфликт идеи и жизни, по мнению шведских исследователей и критиков, даны А. Платоновым в «Котловане» сквозь призму двойной жанровой модели утопии/антиутопии [17], [19], [20]. Строительство нового мира вопреки сознанию и воле людей превращается в «лихорадочный танец» смерти, где человеческая жизнь, цивилизация, история теряют смысл.
«Абсурдность» персонажей Платонова задана двойственностью, «расчленением» их «я» [5: 586]. Обратный прием, дающий ту же «абсурдную экзистенцию», – соединение в одном художественном образе разнородных элементов [17: 191]. Яркий пример – образ молотобойца, совмещающего в себе черты человека и животного: выглядит как «почерневший, обгорелый медведь» (277), «рычит» (291), но у него «утомленнопролетарское лицо» (276), «от злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать» (279). Во второй «записной книжке» 1929–1930 годов есть упоминание о том, что зооморфный образ имел реального прототипа. Брат Платонова С. П. Климентов вспоминал о существовании медведя-молотобойца в Ямской слободе Воронежа [12: 328]. Образ человекоподобного медведя (или звероподобного человека) принадлежит литературной эпохе авангарда, поскольку фантасмагоричен и трагедийно-ироничен. П.-А. Бодин обращает внимание на то, что появление человека-медведя у Платонова задано национальной традицией: образ русского человека традиционно связывается именно с этим животным [16: 125]. Одновременно в образе «молотобойца» А. Платонов вывел «нового героя» революционной эпохи – пролетария. Шведский исследователь П. Виктор-сон в статье «Абсурдный реализм Платонова» пишет о том, что медведь-молотобоец наделен «чувством справедливости» [21]. Молотобоец «обожает дисциплину, просит еще трудиться» (279), «чует» классового врага и испытывает к нему звериную «ярость» (291). При этом сцены с участием медведя «описываются так спокойно и неторопливо, что читатель частично теряет доверие и к рассказчику, и к рассказу» [1: 178]. Грань между реальностью и вымыслом едва различима – читатель самостоятельно должен определить для себя границы и координаты этого «сумбурного мира».
В «Котловане» иррациональное начало обозначено в каждом герое – в системе персонажей, что усиливает атмосферу абсурда. Вощев – герой мысли и совести, от которого читатель ждет, что он добудет смысл жизни если не благодаря, то вопреки действительности, по ходу событий все чаще «растворяется» в коллективно-бессознательном, принимает участие в «гнусных, омерзительных, насильственных деяниях» [16]. Образ Вощева амбивалентен: в нем сочетается и стремление побороть «нарастающую силу горюющего ума» (177), и в то же время – неспособность понять значение своих собственных действий.
По мнению переводчика и издателя М. Ню-даля, герои повести – «полдюжины порочных душ», «неприятные, жестокие… и человечные» [19]. Переводчица К. Э. Линдстен особо отмечает, что «автор как будто растворяется в каждом из своих героев (запутанных, уверенных в себе, наивных, хитрых, отчаянных, жестоких, беспомощных)» [20: 188].
Шведская исследовательница Т. Лане считает, что для понимания системы персонажей в «Котловане» важен миф о Сизифе из философского «Эссе об абсурде» А. Камю. В статье «Беспочвенность как основа» она пишет о том, что «становление советского общества сопровождается неуклонно растущей инерцией. Революционер, окрыленный экзистенцией в светлое никуда, вязнет в коллективной, традиционной косности, подобно Сизифу, непрерывно скатывается с вершины обратно» [9].
Онтотелеологический абсурд – инструмент отражения утраты смысла. Абсурдное сознание тесно связано с «пограничной ситуацией». Человек ощущает разлад с повседневностью, глубоко чувствует внешние и внутренние противоречия, утрачивает телеологию жизни. Рассматривая тему «расчленения “я”» героев «Котлована», Б. Дооге приходит к выводу, что она тесно связана в платоновском повествовании с темой опустошения: «В ”Котловане” опустошение встречается чаще, чем в других произведениях: человек не просто опустошается от труда, но и охлаждается… Эту передачу энергии обрабатываемому материалу саму по себе можно интерпретировать как некоторую сконденсированную механистичность» [5: 586–587]. Е. И. Колесникова считает, что за «масштабностью происходящего явления» «подтекстно прорисовывается индивидуальное бытие» [8]. А. Хаглунд сравнивает героев «Котлована» с «одинокими островами» [18]. По мнению Т. Лане, они «оторваны от своего прошлого», равно как «отстранены от обещанного (революцией. – И. Р.) будущего» [9]. Преодолеть внутренние и внешние противоречия, гармонизовать жизнь оказывается невозможным, поскольку кризис, ставший для героев личной трагедией, позиционируется как трагедия вселенского масштаба. Одновременно, по глубокому наблюдению Т. Лане, «у тех, кто потерял все, обостряется чувство связи с потерянным» [9].
Журналист, писатель, литературный критик К. Энандер считает, что стиль Платонова обладает чертами «экзистенциальной неопределенности» [17]. Переводчица К. Э. Линдстен отмечает, что «экзистенциальная проблематика повести актуализирует в читателе ужас истории. Такая же вечная, абсурдная и леденящая, как рассказы Кафки или Беккета» [20: 188]. «Котлован» – это произведение не только о русской революции, но и о проблемах общечеловеческих. Платонов, пишет Линдстен, дает возможность читателю осмыслить отрицательный опыт диктатуры внешнего логоса на человеческое существование, когда взаимоотношения человеческого «я» и внешнего мира находятся в тупике, в глубоком экзистенциальном кризисе. Сгущая до абсурда события современной ему исторической действительности, художник-философ стремился глубже проникнуть в содержание истории, драму самоопределения человека, онтологические проблемы взаимоотношений человека с миром.
Список литературы Категория абсурда в повести А. Платонова «Котлован»: к вопросу о шведской рецепции
- Бодин П. -А. Загробное царство и Вавилонская башня. О Повести Платонова «Котлован». Tartu, 1994. С. 168-183 . Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/reprint/klassicizm/bodin.pdf (дата обращения 17.10.2015).
- Бродский И. Послесловие к «Котловану» А. Платонова. 1973. 2 с. . Режим доступа: http://a-platonov.narod.ru/downloads/o_platonove/o_platonove_brodsky.pdf (дата обращения 15.10.2015).
- Вьюгин В. Ю. Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и эволюция стиля). СПб.: РХГИ, 2004. 440 с.
- Гюнтер Х. По обе стороны от утопии: Контексты творчества А. Платонова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 208 с.
- Дооге Б. Творческое преобразование языка и авторская концептуализация мира у А. П. Платонова: Опыт лингвопоэтического исследования языка романов «Чевенгур» и «Счастливая Москва» и повести «Котлован». Gent: Universiteit Gent, 2007 . Режим доступа http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/261/138/RUG01-001261138_2010_0001_AC.pdf (дата обращения 11.09.2015).
- Дужина Н. И. Путеводитель по повести А. П. Платонова «Котлован». М.: Изд-во МГУ, 2010. 287 с.
- Кобленкова Д. В. Проблемы становления теории гротеска//Филологический журнал. № 2 (3). М.: РГГУ, 2006. С. 26-36.
- Колесникова Е. И. Эмоционально-смысловые доминанты в произведениях советской литературы 1940-х годов (М. Зощенко и А. Платонов)//Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Научный журнал. Сер.: Филология. СПб., 2008. № 4 (16). С. 145-153.
- Лане Т. Беспочвенность как основа//НЛО. 2011. № 111 . Режим доступа http://magazines.russ. ru/nlo/2011/111/la12.html (дата обращения 22.09.2015).
- Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 392-419.
- Лень Ю. А. Модернистская интерпретация категории абсурда//Универсальное и национальное в культуре. Минск, 2012. С. 310-317.
- Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии/Сост. Н. В. Корниенко; Публ. М. А. Платоновой. М.: Наследие, 2000. 421 с.
- Полтавцева Н. Феномен Андрея Платонова в контексте культуры XX века . Режим доступа: http://artesliberales.spbu.ru/workfolder/copy_of_critique/poltavtseva.pdf (дата обращения 22.09.2015).
- Радбиль Т. Б. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие: Монография. М.: Флинта, 2012. 322 с.
- Стукалова О. В. Утопия абсурда (от романов А. Платонова до В. Пьецуха). 2013. 20 с. . Режим доступа https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129887/2_NovajaRusistika_6-2013-2_3. pdf?sequence=1 (дата обращения 02.11.2015).
- Bodin P. -A. Grundningsgropen: utopi och spräkförbristning. Om en roman av Andrej Platonov//Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur. 2002. S. 116-137.
- Enander C. Mästerligt och tragiskt. 2007 . Режим доступа: http://www.hd.se/kultur/boken/2007/12/13/masterligt-och-tragiskt/(дата обращения 05.11.2015).
- Haglund A. Mellan absurdism och verklighet. 2007 . Режим доступа: http://dagensbok. com/2007/12/29/andrej-platonov-grundgropen/(дата обращения 02.11.2015).
- Nydahl M. Platonov,Andrej: «Grundgropen». 2007 . Режим доступа http://www.kristianstadsbladet. se/kultur/platonov-andrej-grundgropen/(дата обращения 08.11.2015).
- Platonov A. Grundgropen. Stockholm: Ersatz, 2007. 191 s.
- Viktorsson P. Platonovs realism av absurda slaget. 2007 . Режим доступа: https://www.smp.se/noje_o_kultur/kultur/platonovsrealism-av-det-absurda-slaget(309232).gm (дата обращения 10.11.2015).