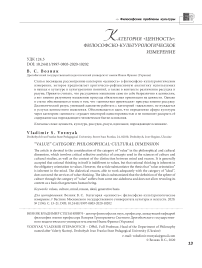Категория "ценность": философско-культурологическое измерение
Автор: Возняк Владимир Степанович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философские проблемы культуры
Статья в выпуске: 2 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению категории «ценность» в философско-культурологическом измерении, которое предполагает критическо-рефлексивную аналитику используемых в науках о культуре и культурологии понятий, а также в контексте различения рассудка и разума. Принято считать, что рассудочное мышление само по себе безразлично к ценностям, а вот именно разумному мышлению присуща обязательная ориентация на ценности. Однако в статье обосновывается тезис о том, что «ценностная ориентация» присуща именно рассудку. Диалектический разум, умеющий адекватно работать с категорией «идеальное», не нуждается в услугах ценностного мышления. Обосновывается идея, что определение сферы культуры через категорию «ценность» страдает некоторой односторонностью и не позволяет раскрыть её содержание как порождающего человеческое бытие основания.
Ценности, культура, рассудок, разум, идеальное, порождающее основание
Короткий адрес: https://sciup.org/144161350
IDR: 144161350 | УДК: 124.5 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10202
Текст научной статьи Категория "ценность": философско-культурологическое измерение
ВОЗНЯК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии имени профессора Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко (Украина)
VOZNYAK VLADIMIR STEPANOVICH – DPhil, Full Professor, Head of the Department of Philosophy named after Valeriy Skotnyi, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Ukraine)
Одной из существенных задач философско-культурологического дискурса является критическая аналитика тех понятий, которые используются в науках о культуре и в самой культурологии. К таким понятиям относится категория «ценность», ин- тенсивно присутствующая в отмеченных дисциплинах.
Мартин Хайдеггер отмечает: «В XIX веке говорить о ценностях, мыслить ценностями становится делом привычным. Но лишь вследствие распространения сочинений Ницше ценности вошли в обиход. Говорят о жизненных ценностях, о культурных, о вечных ценностях, об иерархии ценностей, о духовных ценностях, каковые надеются обрести, например, в античности. Учёные занятия философией, реформа неокантианства приводят к философии ценностей. Тут строят системы ценностей, в этике прослеживают наслоения ценностей» [15, с. 151]. Понятие «ценность» впервые появляется у Канта в контексте противопоставления мира природы и мира свободы (мира зависимого и независимого, по словам М. К. Мамардашвили). Кант ценностями называет то, что мотивирует человеческие поступки – общезначимые принципы. А посему они относятся к этической сфере, они нечто значат и предписывают воле человека определённую направленность. А далее в неокантианстве мир ценностей предстаёт фундаментом мира культуры.
Однако категория «ценность» является историческим продуктом ещё в ином смысле – не по времени своего появления в науке, а как отражение и выражение некоторых изменений в собственно общественном бытии человека и в способах его осознания. Её появление и интенсивное использование в философском «обороте» с времён неокантианства свидетельствует о капитальном факте дезонтологизации и субъекти- вации бытия, отрыва объективной истины от субъекта, и тогда наука чисто внешне вынуждена дополняться ценностями, отображение мира – внешней «активностью». Именно так и появляется «аксиология». Нам сложно не согласиться с М. А. Лифшицем:
«<…> своим успехом так называемая аксиология обязана прежде всего растущему опустошению реального мира, противостоя- щего человеку с его поисками смысла жизни <…> Отсюда понятен весь тот бум “ценностной ориентации”, конструирующей и реконструирующей условные ценности на новый лад в соответствии с жизненной активностью субъекта, его потребностями, его волей к власти. Где бытие, познаваемое наукой, лишено собственного смысла и всякой объективной связи с внутренним миром субъекта, тем неизбежно явление особой “ценностно-ориентационной деятельности” самого широкого спектра – от ухода в религию до возрождения социальной утопии» [7, с. 185].
О том, что появление «ценностей» как какой-то особой ориентации связано с опустошением реальности и предельной субъ-ективацией, говорит и Мартин Хайдеггер. Он полагает, что мысль, идущая наперекор «ценностям», не объявляет никчёмными те реалии, которые характеризуются как «ценности», однако следует понимать, что именно характеристика чего-то как «ценности» лишает так оценённое его достоинства. Объявить Бога «ценностью» – значит принизить божественное существо. «Мышление в ценностях здесь и во всём остальном – высшее святотатство, какое только возможно по отношению к бытию » [14, с. 343– 344] (выделено курсовом нами. – В. В. ).
Итак, ценностное мышление есть «высшее святотатство», оно реально уценивает то, что объявляется «ценностью». Правда, при этом немецкий мыслитель настаи- вает на исключительно субъективном характере ценностей, поскольку сущность ценности покоится в том, что она – точка зрения [15, с. 152].
Об основах «ценностного мышления» – рассудок или разум
Для того чтобы представление о ценности довести до собственно понятия , необходимо обратить внимание на то, что М. А. Лифшиц, не будучи никоим образом сторонником «ценностного мышления», в полемике с М. С. Каганом утверждает принципиально объективный характер ценностей [см.: 7, с. 109–188]. О том же речь идёт и у Г. С. Батищева [см.: 1; 2], который призывает не путать ценности с «ценимостями» 1. При этом и М. А. Лифшиц, и Г. С. Батищев не являются сторонниками противопоставления истины и ценности: ведь существуют истинные и ложные ценности.
Диалектический разум направлен на предметность, но при этом она не ссыхается к объектно-вещественным измерениям. Его отношение является субъект-субъект-ным . Причём последнее не сводится только к межличностным отношениям, а имеет глубинный, онтологический, универсальный смысл. Нравственность, духовность, культура существуют, живут, бытийствуют именно в контексте «субъект-субъект».
Может сложиться впечатление, что автор вообще отвергает аксиологию и само понятие «ценность». Однако всё не так: ценности – очень серьёзная вещь. Здесь надо мыслить конкретно. Как считает В. С. Биб-лер, вне идеи сакральности, надысторич-ности ценностного мира, освящённого ре- лигией или, скажем, платоновской теорией идей, аксиологический подход не имеет смысла, и полемика с ним является неинтересной [3, с. 214]. В. С. Библер прав. Обычный взгляд на «ценность» как некую значимость чего-то для человека и на что человек должен «ориентироваться» – рассудочный «конструкт», но не только: это и рассудочная обыденно-повседневная практика. Но и к сакральным (абсолютным!) ценностям рассудок относится так же – «ориентируясь» на них в том же духе, как и на «ценности» социальной жизни, повседневного обихода, путая ценность и стоимость.
В. С. Библер пытается полемизировать именно с серьёзной аксиологией. К нему стоит прислушаться: «Прекрасное – не ценность для тех, кто продуцирует произведения искусства, не эталон, не норма; красота как ценность – это отстранённый от произведения и иссохший схематизм его создания и жизни» [3, с. 215]. В каждом произведении каждый раз заново создаётся красота. То же самое происходит и с добром. «Добро – не внешняя ценность (для поступка, который якобы на него «ориентирован»), но это – сам поступок (произведение) как некий субъект добра, заново творимый и по-новому понимаемый; это – поступок, в его уникальности, неповторимости, неотделимости от данной перипетии, от данного индивида» [3, с. 215–216]. Здесь решается логическая проблема соотношения всеобщего и индивидуального (уникального) , и решается чисто диалектически. Речь идёт каждый раз об уникальной универсальности , уникали-зированной универсальности , индивидуализированной всеобщности; но и сама всеобщность берётся сугубо конкретно .
На уровне «ценностной ориентации» отдельное чисто рассудочно подводится под некоторую (пусть – самую высокую) «ценность», которая выступает в виде абстрактно-всеобщего. На уровне аксиологической посвящённости высшему (а это – собственно разумное отношение, но не просто умственное) человек в уникальном, индивидуально неповторимом действии, отношении, произведении реализует это высшее, воплощает его, продолжает его жизнь. Рассудок же только ориентируется на «ценности». Разум способен к самоопределению в горизонте ценностей, определять себя ими, осуществляя их содержание в себе и собой.
Относительно истины как ценности В. С. Библер замечает, что если взять проблему истины во всей полноте , то ценностный подход здесь не работает (он не является основоположным, а лишь производным): « истина здесь – это не нависшая над нашим мышлением однозначная “ценность” для ума, для человека, но <...> – напряжение самого понимания, неотделимое от этого (моего) личностного бытия» [3, с. 218]. И буквально тут же В. С. Библер конструирует блестящую метафору, которая может быть точным «эйдосом» для понимания способа вхождения того, что называют «ценностью», в самые недра субъектного бытия, или – способа осуществления ценностей: «Это – не вязка сена перед мордой осла, но – это сам “осел”, стремящийся не к “сену”, но к “насыщению” , то есть к самому себе» [3, с. 218].
Природа ценностей и проблема идеального Размышляя над статьёй, мы обратили внимание на интересный факт: те авторы, которые активно употребляют термин «ценность», никоим образом не «работают» с категорией «идеальное». И наоборот: исследователи, которые адекватно понимают смысл и содержание сложнейшего в философии понятия «идеальное», не работают в преде- лах «ценностного мышления». Случайно ли это?
Идеалы – это не просто то, что выражает человеческие потребности, желания или устремления. Э. В. Ильенков утверждал: «<…> контуры идеала как образа необходимо наступающего будущего есть не что иное, как вывод из анализа существующих противоречий, разрушающих наличное состояние. В этом – вся суть диалектико-материалистического понимания идеала <...> Это – сама действительность в полном теоретическом синтезе её имманентных противоречий, то есть с точки зрения тех перспектив, которые ей же самой имманентны» [6]. Иными словами, идеал как таковой имеет, безусловно, объективное содержание.
Смысл понятия «идеал» не раскрыть без адекватного понимания природы идеального как такового. Г. В. Лобастов справедливо полагает, что идеальное предстаёт единством, точнее – конкретным тождеством идеи и идеала, которые сопряжены именно по линии истины: «Бытие предмета как бы замкнуто между его идеей (его предпосылками, в противоречивости которых идеально таится его реальная определённость) и его идеалом (совершенной формой его объективного, действительного существования, в котором моменты, выражающие его целостность, представлены в чистоте их всеобщих определений)» [8, с. 273–274]. Таким образом, идея и идеал принадлежат самой действительности, хотя сторонникам «ценностного мышления» может показаться, что за пределами социально-исторического бытия такое невозможно, посколь-ко-де эти определения характеризуют лишь сознание и сознательную деятельность. Идеал как «всесторонне развитая, внутренне совершенная форма конкретной действительности принадлежит самой природе и определяется по её законам, выступая вну- тренним пределом … качественно определённого бытия, самотождественностью его. В сознании идеал определяется внутренней логикой развития самого предмета – идеал как форма сознания есть отражение предмета в его тождестве, соответствии самому себе. Иначе говоря, он есть отражение истины бытия» [8, с. 274].
Когда мы называем те или иные предметы, явления, формы культуры ценностями , мы никоим образом не ошибаемся, однако при этом упускается из виду очень важный момент. А именно: в ценности самой по себе не явлено в достаточной мере способ её презентации субъекту. Говоря терминологией Мартина Бубера, здесь нет различения на « Оно -обр а зное бытие» и « Ты -обр а з-ное бытие». Однако культура как собственно культура не дана человеку в виде «Оно». Она всегда принципиально иная, она обращена к человеку и тем самым имеет «Ты-об-р а зную» природу. Культура не может представать для человека простым объектом , она всегда субъектна .
Предметное поле культуры – это не наличное бытие анонимных продуктов труда или предметов потребления, а поле произведений. Культура является сферой произведений как феноменов. Тем самым культура – это форма самодетерминации индивида в горизонте личности, форма самодетерми- нации нашей жизни, сознания, мышления. «Бытие в культуре, – пишет В. С. Библер, концепцию культуры которого мы только что воспроизвели в последних констатациях, – общение в культуре является общением и бытием на основе произведения, в идее произведения» [4, с. 291].
Характеристика культуры в пределах «ценностного мышления» очень затрудняет понимание её как порождающего основания человека. Здесь следует вспомнить «концепцию обращения» Ф. Т. Михайлова. Философ разделяет тезис К. Маркса о сущности человека как ансамбля общественных отношений, однако при этом различает социальное и общественное, считая первое превращённой формой собственно общественного. Общественное как таковое автор выводит из общения, а его – радикально углубляет до обращения как субъективно мотивированного, эмоционально насыщенного отношения изнутри субъективности человеческого индивида к субъективности других и тем самым – к себе. Именно здесь надо искать онтологию культуры. Культура является «исторически всеобщей категорией бытия – бытия человеческого» [10, с. 258]. Дело в том, что «своим происхождением, расселением, выживанием и развитием люди обязаны постоянному поиску со-мыслия и со-чувствия в общем деле преобразования условий и средств жизни (только потому, кстати сказать, и целесообразного, осознаваемого преобразования)» [10, с. 259–260]. Культура есть то, что порождает и сохраняет человека, ибо порождающим человека отношением является отношение (обращение) к субъективности других в поисках со-чувствия, со-мыслия, со-гласия, со-действия [13, с. 500]. Ф. Т. Михайлов понимает обращение и как механизм порождения культуры, и как механизм её развития, и как механизм её освоения в онтогенезе. Все уни- версалии культуры так или иначе ориентированы на внутренний, субъективный мир человека, который понимается как «я», расширенное в культурно-исторической перспективе. Все формы культуры приобретают свою действительность только в актах живого обращения людей друг к другу (и тем самым – к самим себе). При этом они (формы культуры) сами становятся средствами осмысленного, эмоционально насыщенного и выразительного обращения, которое всегда адресно и предполагает отзыв и ответ. При этом утверждается и аргументируется принципиальная тождественность интер- и интрасубъективности культуры людей, тождественность всегда индивидуальных и всегда надындивидуальных сил их общей истории.
Ф. Т. Михайлов определяет культуру (без обращения к термину «ценность») как предпосылку, процесс и результат творения людьми жизненно необходимых им обращений друг к другу и к себе самим. Тем самым культура является процессом постоянного творения внешней обращённости беспокойной души человеческой к субъективности других людей, столь же настойчиво ищущих сочувствия в осмысленном освоении своего трагически одинокого и всегда общественного (лишь в общении, через обращение к другим возможного) бытия» [12, с. 266].
С чего начинается человек? С другого человека. «Нерасчленимый атом духовно-практического бытия людей – это не что иное, как сохраняющее и изменяющее их жизнь обращение друг к другу и к себе самим. Субъективно целеустремлённое обращение к субъективности друг друга» [11, с. 116]. Именно в таких обращениях происходит «акт рождения в человеке осознаваемого объективного мира, а главное – это акт рождения реально-идеальной сути его тождества со своим родом – с человечеством» [11, с. 116]. Именно в сплошности по- добных обращений и зарождается способность «ухода внутрь», впускания в себя других, рода, человечества. Кстати, способность к подобному «впусканию вовнутрь», принятию и есть, собственно, душа, душевность.
Как видим, Ф. Т. Михайлов прекрасно обходится без термина «ценность» при раскрытии сущности культуры: он вла- деет на категориальном уровне понятием «идеальное».
***
В качестве выводов можно сказать следующее: мы никоим образом не ставили своей целью «изъять» понятие ценности из корпуса наук про культуру . Речь идёт об определённом коварстве этой категории, что необходимо учитывать при её употреблении: она присуща именно рассудочному мышлению. При характеристике культуры как «ценности» остаётся в тени тот принципиальный факт, что культура порождает, хранит, воспроизводит и развивает собственно человеческое в человеке. Вот почему понятие ценности не раскрывает подлинную сущность культуры.
Список литературы Категория "ценность": философско-культурологическое измерение
- Батищев Г. С. Истина и безусловные ценности. К критике аксиологического антропоцентризма с точки зрения диалектики междусубъектности // Философско-педагогические произведения : собрание сочинений в 2 томах. Бийск : ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. Том 2. С. 321-328.
- Батищев Г. С. Ценности - больше, чем человеческое // Философско-педагогические произведения : собрание сочинений в 2 томах. Бийск : ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. Том 2. С. 458-461.
- Библер В. С. Из «заметок впрок» // Новый круг. Киев, 1992. С. 210-220.
- Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры : Два философских введения в двадцать первый век. Москва : Политиздат, 1991. 413 с.
- Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. Москва : Политиздат, 1967. 351 с.
- Ильенков Э. В. Идеал [Электронный ресурс]. URL: http://caute.ru/ilyenkov/texts/enc/idealfe.html
- Лифшиц М. А. В мире эстетики : статьи 1969-1981 гг. Москва : Изобразительное искусство, 1985. 318 с.
- Лобастое Г. В. Идеальное как конкретное тождество идеи и идеала // Идеальное: Ильенков и Лифшиц. Москва : Микрон-принт, 2004. С. 259-279.
- Михайлов Ф. Т. Карл Маркс и проблема тождества бытия и сознания [Электронный ресурс] // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://philosophy.ru/iphras/library/marx/marx2.html
- Михайлов Ф. Т. Культурология как основание общего человековедения // Избранное. Москва : Индрик, 2001. С. 257-390.
- Михайлов Ф. Т. Диалектика как логика рефлексивного мышления // Избранное. Москва : Индрик, 2001. С. 110-118.
- Михайлов Ф. Т. Самоопределение культуры. Философский поиск. Москва : Индрик, 2003. 272 с.
- Михайлов Ф. Т. Философия образования: её возможности и перспективы // Избранное. Москва : Индрик, 2001. С. 452-512.
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии : сборник пер. с англ., нем., фр. / сост. и послесл. П. С. Гуревича ; общ. ред. Ю. Н. Попова. Москва : Прогресс, 1988. С. 314-356.
- Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мёртв» // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 143-176.