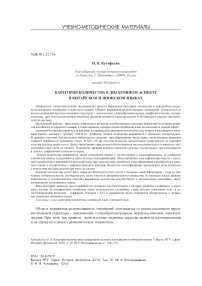Категория количества в диахронном аспекте в китайском и японском языках
Автор: Кутафьева Наталья Витальевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Учебно-методические материалы
Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проводится сопоставительное исследование средств выражения категории количества в диахронном аспекте на материале китайского и японского языков. Область выражения количественных отношений соотносится со всеми основными ярусами языковой структуры - лексическим, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим, при этом используемые языковые средства являются неоднородными и не образуют единую грамматическую систему. Цель данной работы - проследить появление и развитие количественных именных выражений в истории развития китайского и японского языков, а также влияние, которое оказал китайский язык на японский в данной сфере. Грамматическая категория числа как одно из проявлений категории количества отсутствует в китайском и японском языках, начиная с древних этапов их развития. Точное количество выражается с помощью числительных. В древних системах числительных наблюдается сходство: при образовании числа перед последующим разрядом ставится морфема со значением «еще». В XIV-XV вв. система японских числительных разрушается, ее заменяет система числительных- канго. Далее продолжают параллельно использоваться числительные- канго и японские числительные (при счете до десяти). Рудименты древней исконно японской системы числительных прослеживаются в лексике современного японского языка. Точное количество выражается также сочетанием имени с числительным и классификатором. В китайском и японском языках складываются свои системы классификаторов. Затем китайские классификаторы вместе с системой числительных проникают в японский язык, при этом система китайских классификаторов адаптируется в японском языке в соответствии с мировосприятием японцев. Японские классификаторы продолжают использоваться с японскими числительными при счете до десяти. Значение количества может быть передано безотносительно числа с помощью квантификаторов - слов со значением собирательности, обобщенности, целостности и дистрибутивного множества. В японском языке древние лексические и синтаксические способы выражения количества сосуществуют с лексическими способами, заимствованными из китайского языка. Факультативно значение числа выражается личными местоимениями в истории развития китайского и японского языков. В изолирующем китайском языке используются служебные слова, позднее показатель мэнь, в агглютинирующем японском - суффиксы. Начиная с XVI в. выражение числа становится обязательным в личных местоимениях японского языка.
Категория количества, китайский язык, японский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147219561
IDR: 147219561 | УДК: 811.521''36
Текст научной статьи Категория количества в диахронном аспекте в китайском и японском языках
Область выражения количественных отношений соотносится со всеми основными ярусами языковой структуры – лексическим, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим. При этом, как правило, используемые языковые средства являются неоднородными и не образуют единую грамматическую подсистему.
Кутафьева Н. В. Категория количества в диахронном аспекте в китайском и японском языках // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 166–175.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение
Анализ различных аспектов японского языка с исторической точки зрения можно найти в работах классиков российской японистики: Е. Д. Поливанова, Н. И. Конрада, Е. М. Колпакчи, Н. А. Сыромятникова, А. А. Холодовича, С. А. Старостина и др. Так, в работах Н. А. Сыромятникова прослеживается появление количественных выражений японского языка. Зарубежные исследователи С. Мартин, Р. Миллер, С. Мэйнард занимаются исследованием значений и способов выражений количественных значений в японском языке. Японские лингвисты, начиная с Ямада Ёсио, изучают историю японского языка. В работе Киэда Масуити дается критический анализ существующих лингвистических теорий, а также в некоторых разделах монографии приводятся количественные выражения японского языка.
Российские синологи С. Е. Яхонтов, М. В. Крюков, И. С. Гуревич, Т. И. Зограф занимаются изучением истории китайского языка и, в частности, способов выражения количества в китайском языке в различные периоды языка. Работы китайских исследователей Люй Шусяна и Ван Ли посвящены истории китайского языка, Ли Юймин изучает категорию количества в современном китайском языке [Ли Юймин, 2000]
Существуют также сопоставительные работы, в которых рассматриваются частные вопросы, например, Симидзу Ясуюки анализирует чтение древнеяпонских и древнекитайских числительных [1999], Окамото Каору описывает использование числительных- канго и классификаторов в новояпонском языке [1986].
Наше исследование продолжает традицию российской японистики и синологии, в нем мы обращаем внимание, в основном, на лексические способы выражения количества в обоих языках.
Цель данной работы – сравнить появление и развитие количественных именных выражений в китайском и японском языках в диахронном аспекте, а также проследить влияние китайского языка на японский в данной области. Способы выражения количественных отношений в современных китайском и японском языках описаны автором ранее [Кутафьева, 2015].
В работе мы опираемся на периодизацию китайского языка, предложенную М. В.Крюко-вым и Хуан Шуин [Крюков, Хуан Шуин, 1978], и периодизацию японского языка, предложенную Н. А. Сыромятниковым в цикле работ [2002а; 2000б; 2009а; 2009б]. В таблице приводится сравнительная периодизация китайского и японского языков.
Сравнительная периодизация китайского и японского языков
|
Китайский язык |
Японский язык |
|
Архаический XIV‒XI вв. до н. э. |
|
|
Доклассический до VI в. до н. э. ранний X‒VIII вв. до н. э. поздний VII‒VI вв. до н. э. |
|
|
Классический V в. до н. э. ‒ II в. н. э. ранний V‒III в. до н. э. поздний II в. до н. э. ‒ II в. н. э. |
|
|
Постклассический III‒V вв. |
Древнеяпонский III‒VIII вв. |
|
Среднекитайский XIII‒XIV вв. |
Классический IX‒XII вв. |
|
Переход к современному языку после XIV в. |
Новояпонский XVI в. ‒ начало XIX в. |
При написании лексики и иероглифики в японском языке мы опираемся на словарь старого языка [О:но Сусуму и др., 1994].
Китайский и японский языки относятся к типологически разным языкам: китайский ‒ изолирующий, японский ‒ агглютинирующий, при этом они являются классифицирующими, и в них отсутствует грамматическая категория числа.
Тем не менее семантика количества в японском и китайском языках может быть выражена следующими способами: с помощью числительных; сочетанием числительных и классификаторов с именами; квантификаторами и в агглютинативном японском языке ‒ с помощью суффиксов. Рассмотрим историю развития количественных отношений и способов их выражений в указанном порядке, начиная с китайского языка, поскольку он имеет более длительную историю развития и оказал значительное влияние на японский язык.
Становление и развитие системы числительных
Китайский язык. Для числительных в архаическом языке (XIV‒XI вв. до н. э.) характерна предикативная функция: 二 эр «два» обозначает «иметься в количестве двух». Также они могут выполнять функцию определения к имени, находясь в пре- или постпозиции к определяемому слову: например, 二人 эр жэнь «два человека», 人六千 жэнь лю цянь «человек шесть тысяч».
Количественные и порядковые числительные по форме не различаются. Существуют простые числительные до десяти, названия разрядов 十 ши «десять», 百 бай «сто», 千 цянь «тысяча», 萬 вань «десять тысяч» и слова 兩 лян «оба», 再 цзай «дважды», 半 бань «половина», 倍 бэй «вдвое больше», 數 шу «несколько». Система числительных за прошедшие три тысячи лет практически не претерпевает никаких изменений.
Числа обозначаются сочетанием простых числительных. Число единиц разряда стоит перед названием разряда, меньшие разряды следуют за большими, перед последующим разрядом обычно ставится наречие 有 ( 又) ю «еще» с вариантами: 1) имя + числительное (без единиц) + ю + единицы ( 鹿五十又六 лу у ши ю лю «оленей 50 и еще шесть»), 2) числительное (без единиц) + имя + ю + единицы ( 十示又三 ши ши ю сань «десять предков и еще три»).
Разряд числительных 億 и появляется в раннем доклассическом китайском языке (X‒VIII вв. до н. э.), причем он может обозначать и «сто тысяч» и «миллион». Позднее за ним закрепляется значение «сто миллионов». При пропуске разряда знак нуля не ставится, он появляется поздно, не ранее XII в.
В раннем классическом языке (V‒III вв. до н. э.) знак 兩 лян употребляется как числительное «два» наряду с 二 эр . В период, предшествующий позднему классическому языку (II в. до н. э. ‒ II в. н. э.), знак 兩 лян имеет значение «оба, и тот и другой» и употребляется в функции определительного местоимения, когда речь идет о двух конкретных, уже известных из контекста предметах.
願君堅塞兩耳無聴其談也 . Юань цзюнь цзянь сай лян эр у тин цитань е. «Я хочу, чтобы Вы накрепко заткнули оба уха и не слушали его слов» [Крюков, Хуан Шуин, 1978. С. 247].
В позднем классическом языке (II в. до н. э. ‒ II в. н. э.) знаки 兩 лян и 二 эр становятся абсолютными синонимами
Для обозначения порядковых числительных в позднем древнекитайском языке (III‒VI вв. н. э.) используется служебное слово 第 ди , первоначально знаменательное слово со значением «располагаться по порядку». Происходит окончательное оформление порядковых числительных.
Японский язык. В древнеяпонском языке (III‒VIII вв. н. э.) количественные числительные образуют следующую систему.
Одинарное число противопоставляется удвоенному: 一 хито «один» ‒ 二 фута «два», 三 ми «три» ‒ 六 му «шесть», 四 ё «четыре» ‒ 八 я «восемь». 八 я чаще означает «несколько».
Числительные 五 ицу «пять» и 七 нана «семь» не имеют удвоенных соответствий, 九 коко-но «девять» встречается редко.
Числительное 十 то: ( тöво в древнеяпонском языке) «десять» соотносится с глаголом тöвому «загибать пальцы при счете», поскольку любой народ сначала ведет счет при помощи пальцев.
Числительные от 11 до 19 образуются путем присоединения к числительному 十 то: «десять» морфемы 余 (а) мари «излишек» (в значении «плюс») и числительного от одного до девяти, например, 十余四柱之神 то: мари ё хасира-но ками «десять и еще четыре бога» (柱 хасира «столб» ‒ классификатор для счета богов) [Сыромятников, 2002а. С. 80].
Как и в современном японском языке, при абстрактном счете числительные от одного до девяти имеют суффикс - цу . При счете людей включая «три» используется суффикс - ри ( 一人 хитори , 二人 футари , 三人 митари ).
При счете десятков используется корень со ( 三十 мисо «30», 四十 ёсо «40», 五十 исо «50»). Числительное 百 момо «100» используется при счете от 100 до 199. При счете сотен этот корень заменяется на хо , например, 五百 ихо «500». После десятков и сотен встречается суффикс - ти : 三百余二 мисоти амари футацу «30 и еще два». Используются также числительные 千 ти «1 000» и 万 ёродзу «10 000» [Киэда, 2002. С. 120]. Формальные различия между количественными и порядковыми числительными отсутствуют.
Эта система существует достаточно длительное время и начинает разрушаться в XIV‒ XV вв., интенсивно вытесняясь системой числительных- канго. Числительные- канго от «одного» до «десяти» в сочетании с китайскими классификаторами используются параллельно с японскими числительными.
При счете свыше «десяти» используется китайская система, которая существует и в современном японском языке. Появляются формальные различия между количественными и порядковыми числительными: для порядковых числительных- канго используется префикс 第 дай -, для японских числительных ‒ суффикс 目 - мэ .
В новояпонском языке (XVI‒XIX вв.) числительные (часто с классификатором) выступают в функции определения ( 四十の栗 40-но кури «40 каштанов»), обстоятельства ( 棒が一本ござ れば бо: га иппон годзарэба «если есть одна палка») и предиката ( 騎馬が二十騎 киба га 20 ки «всадников 20») [Сыромятников, 2009б. С. 92]. Постепенно складывается система современного японского языка.
От прежней исконно японской системы в современном японском языке сохраняются числительные, например: 三十日 мисока «30-е число», 八百万 яоёродзу «мириады» в сочетании 八 百万の神 яоёродзу-но ками «мириады богов» и некоторые другие.
Становление и развитие системы классификаторов
Китайский язык. Классификаторы уже в архаическом языке (XIV‒XI вв. до н. э.) выступают в функции имени и разделяются на две категории: 1) для наименования мер объема веществ или совокупностей мелких предметов; 2) для счета единичных предметов. В качестве классификаторов используются дубликаты имен: 人十人 жэнь ши жэнь «десять людей», 羊百羊 ян бяй ян «сто баранов».
По мнению М. В. Крюкова и Хуан Шуин, в архаическом языке числительное с единицей измерения стоит после имени. Если числительное предшествует имени и выступает в функции определения к нему, единицы исчисления не употребляются, например 十人 ши жэнь «десять человек» [Крюков, Хуан Шуин, 1978. С. 56].
Собственно классификаторы, употребляющиеся для исчисления отдельных предметов и не совпадающие с соответствующими именами, появляются в раннем доклассическом языке (X‒VIII вв. до н. э.). Классификатором для лошадей становится 匹 пи ( 馬百四匹 ма бай сы пи «104 лошади»), для колесниц ‒ 兩 лян ( 車三十兩 цзюй сань ши лян «30 колесниц»).
Количество классификаторов продолжает увеличиваться в V‒IV вв. до н. э. Изменяется грамматическая конструкция для исчисления веществ или набора предметов. Числительное и классификатор стоят не после соответствующего имени ( 矢五束 ши у шу «пять пучков стрел»), а предшествуют ему ( 一豆羮 и доу гэн «одна чашка супа»).
Заметно увеличивается в постклассическом китайском языке (III‒VI вв.) количество классификаторов для штучного счета предметов, этимологически восходящих к названиям частей целого: 頭 тоу «голова» (для счета скота), 領 лин «воротник» (для счета халатов, курток). Появляется классификатор 枚 мэй , использующийся для счета разнообразных предметов: оружия, украшений, посуды, утвари, птиц, рыб и т. д.
Конструкции с числительными и классификаторами для счета индивидуальных предметов в функции определения к имени начинают смешиваться. Используются следующие конструкции: 1) без классификатора 三牛 сань ню «три быка»; 2) имя + числительное + классификатор 牛三頭 ню сань тоу «быка три головы»; 3) числительное + классификатор + имя 三頭牛 сань тоу ню «три головы быка», причем последняя характерна именно для постклассического периода.
Для обозначения количества несчитаемых предметов используются две конструкции: 1) имя + числительное + классификатор 米三斗 ми сань доу «риса три меры»; 2) числительное + классификатор + имя 三斗米 сань доу ми «три меры риса» [Крюков, Хуан Шуин, 1978. С. 226].
Числительное с названием меры может быть в функции предиката:
其書五車 . Циши у цзюй . «Его книг было пять возов» [Яхонтов, 1965. С. 55].
Процесс формирования системы классификаторов пока еще не закончен, одни и те же имена могут использоваться с разными классификаторами.
Количество классификаторов в среднекитайском языке превосходит их количество в предыдущие и последующие эпохи. В это время закрепляется синтаксическая позиция числительное + классификатор + имя. Если имени предшествует указательное местоимение, классификатор может опускаться, что наблюдается и в современном китайском языке. Появляется классификатор 個 гэ «штука», но используется он редко и в, основном, с одушевленными существительными [Зограф, 2005].
Японский язык. Система классификаторов в древнеяпонском языке (III‒VIII вв.) была неразвитой. При конкретном счете числительные не сопровождались классификаторами. Можно отметить наличие классификатора 日 ка для счета дней.
В XIV‒XV вв. начинает складываться современная система классификаторов: классификаторы для счета единичных предметов (как правило обозначающих форму предмета) и классификаторы для единиц измерения, японские классификаторы и классификаторы- канго . Японские числительные сочетаются с японскими классификаторами, китайские числительные - с классификаторами- канго.
Классификаторы- канго самостоятельно не употребляются, тогда как некоторые классификаторы японского происхождения могут использоваться самостоятельно: 粒 цубу «зерно», 樽 тару «бочка» и др. При счете людей до двух используются японские числительные с суффиксом - ри ( "А хитори , —А футари ), начиная с трех используется сочетание числительного- канго с классификатором- канго ( 三人 саннин «три человека») [Сыромятников, 2009б. С. 92].
Следует отметить, что заимствованная система классификаторов была адаптирована японским языком. Классификатор разделяет предметы внешнего мира по тем или иным основаниям. При этом выделяются те или иные особенности исчисляемого предмета, значимые для носителей данного языка, поэтому для счета одного и того же предмета в китайском и японском языках могут использоваться разные классификаторы [Окуцу, 1986. С. 71].
Так, в китайском языке классификатор 条 тяо «полоска» используется для счета вытянутых предметов: рек, дыма, ниток, а также для счета животных, рыб, змей. В японском языке этот же классификатор 条 дзё: используется для счета узких, длинных предметов, линий, черт, лучей, мостов. Для счета небольших животных, в том числе собак, рыб и змей, в японском языке используется классификатор 匹 hiki. Для мировосприятия китайцев важна форма, японцев – одушевленность / неодушевленность.
Становление и развитие системы квантификаторов
Количественные отношения могут быть выражены безотносительно числа с использованием квантификаторов. Квантификаторы – это слова, использующиеся при указании на количество того, что может быть исчисляемым или неисчисляемым, и на то, каким образом говорящий идентифицирует в своем сознании тот или иной объект и соотносит его с внеязыковой действительностью. Они придают словам, использующимся с ними в одной конструкции, обобщенность значения.
Китайский язык. Квантификаторами в разные периоды развития китайского языка являются слова 咸 сянь «все», 率 шуай «все», 凡 фань «все», 諸 чжу «много, многие», 皆 цзе «все», 盡 цзинь «целиком, полностью», 都 доу «все, всё», 各 гэ «каждый из, все». Они различаются значением, категориальной принадлежностью и синтаксической позицией. Квантификаторы могут выполнять различные функции.
-
1. Стоять перед сказуемым и указывать на всеобщность подлежащего (или дополнения) (значение собирательности): служебные слова 咸 сянь «все», 率 шуай «все» в раннем доклас-сическом языке (X‒VIII вв. до н. э.), определительное местоимение 皆 цзе «все» в раннем классическом языке (V‒III вв. до н. э.), слова 皆 цзе «все», 都 доу «все» в среднекитайском языке (XII‒XIV вв.).
-
2. Указывать, что действие, выраженное сказуемым, распространяется на все подлежащее, а не его часть: обобщающее слово 都 доу «все» в постклассическом (III‒V вв.) и среднекитайском языке.
-
3. Стоять перед подлежащим и относиться только к предметам, явлениям или людям, выраженным подлежащим: определительное местоимение 凡 фань «все» в позднем доклассическом языке (VII‒VI вв. до н. э.).
-
4. Обозначать множественность предметов или лиц в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть множественное число. Для этого используются определительное местоимение 諸 чжу «все, многие» в позднем доклассическом языке (VII‒VI вв. до н. э.) и наречие 盡 цзинь «все» перед именным сказуемым в раннем классическом языке (V‒III вв. до н. э.) [Там же. С. 231].
-
5. Выражать значение дистрибутивной множественности. В позднем классическом языке и в среднекитайском языке определительное местоимение 各 гэ «каждый из…, все» находится в постпозиции к имени, к которому относится. В классическом языке (V в. до н. э. ‒ II в. н. э.) определительное местоимение 毎 мэй «каждый» стоит в препозиции к имени, как и в современном языке.
芽莖枝葉一切都失 . Я цзин чжи е ице доу ши . «Ростки, стебли, ветви и листья – все полностью погибло» [Крюков, Хуан Шуин, 1987. С. 335].
Дистрибутивная множественность в среднекитайском языке (XII‒XIV вв.) выражается удвоением односложного существительного 事事 шиши «каждое дело» и классификатора 個 個 гэгэ «каждый человек», а также конструкцией 是 … 都 ши…доу ( 是 … 皆 ши… цзе ), в которой после связки используются слова с обобщающим значением 人 жэнь «человек», 事 ши «дело» и др.:
是人皆老 . Ши жэнь цзе лао . «Все люди стареют (Каждый человек стареет)» [Зограф, 2005. С. 58].
Японский язык. В древнеяпонском языке (III‒VIII вв.) существует квантификатор 凡て субэтэ «все, все до одного» (со значением совокупности).
В классическом языке (IX‒XII вв.) используется квантификатор 皆 мина «все» сначала по отношению к людям, впоследствии и к предметам. Квантификатор 皆 мина может стоять в препозиции ( 皆人 мина хито «все люди») и постпозиции ( 盗人皆 нусубито мина «разбойники все») к определяемому слову. Кроме того, используется сочетание вопросительных местоимений с частицей 誰 дарэ «кто» + も мо «все», 何れ дорэ «который» + も мо «все».
В новояпонском языке (XVI в. ‒ начало XIX в.) продолжают использоваться указанные выше способы. Появляется местоимение 何れも идзурэмо «все», которое относится ко 2-му и 3-му лицу и которое может присоединять суффикс множественности 何れも方 идзурэмога-та «все». К вопросительному местоимению 何方 доната «кто (вежливо)» присоединяется частица も мо. Образующееся сочетание 何方も доната мо имеет значение «все, каждый, любой» (с дистрибутивным значением) в утвердительном предложении и значение «никто» в отрицательном предложении [Сыромятников, 2009б. С. 66].
Заимствованные из китайского языка квантификаторы 每 мэй «каждый», 各 гэ «все; каждый» и др. (со значением обобщенности), 全 цюань (со значением целостности) используются префиксально в словах- канго : 毎日 майнити «каждый день, 各国 каккоку «каждая страна», 全体 дзэнтай «всё, целиком».
Способы выражение числа у личных местоимений
Далее рассмотрим системы личных местоимений в китайском и японском языках, поскольку это разряд местоимений, в котором число имеет вещественное выражение.
Китайский язык. В архаическом языке (XIV‒XI вв. до н. э.) существуют личные местоимения 1-го и 2-го лица, местоимения 3-го лица отсутствуют. Число выражается непоследовательно: местоимение 1-го лица 我 во может употребляться как в единственном числе «я», так и во множественном числе «мы». Остальные местоимения выражают единственное число. Местоимение 3-го лица 厥 цзюэ с ограниченной функцией определения к имени появляется в раннем доклассическом языке (X‒VIII вв. до н. э.).
Трансформация местоимений происходит в позднем доклассическом языке (VII‒VI вв. до н. э.), местоимения могут использоваться в функции подлежащего, дополнения, определения. Появляются новые местоимения для 1-го Ж эр , 2-го Ж эр и 3-го X ци лица.
Личные местоимения указывают на единственное число обозначаемых лиц в классическом языке (V в. до н. э. ‒ II в. н. э.). При необходимости выразить множественное число к личному местоимению добавляются специальные служебные слова Д шу , # цао , ^ дэн в позднем классическом языке (II в. до н. э. ‒ II в н. э.).
Выражение числа является необязательным в среднекитайском языке (XIII‒XIV вв.), но может использоваться показатель 毎 мэй ( 我毎 вомэй «мы», 你毎 нимэй «вы», 他毎 тамэй «они»), он присоединяется и к одушевленным существительным ( 兄弟毎 сюндимэй «братья»). Показатель 等 дэн используется преимущественно с местоимениями 1-го и 2-го лица ( 我等 водэн «мы», 你等 нидэн «вы»). У местоимений 1-го лица различается эксклюзивное значе-ние 我們 вомэнь «мы без тебя» и инклюзивное значение 咱們 цзамэнь «мы с тобой». Наличие показателя множественного числа 們 мэнь [Зограф, 2005. С. 54].
Японский язык. Личные местоимения в древнеяпонском языке (III‒VIII вв.) немногочисленны, множественное число выражается при помощи агглютинативных суффиксов W - ра, # (X) - домо, ^ (^) - тати . Местоимения 1-го лица не подразделяются на эксклюзивные и инклюзивные формы.
Местоимения различаются по степени вежливости по отношению к собеседнику: 1-е лицо (уничижительное по отношению к себе Й& вакэ ), 2-е лицо (по отношению к низшим В на, вежливое Ж намути , распространенная форма Ж имаси , очень вежливое #(^) кими, грубое 俺 (己) орэ ). Местоимение 3-го лица отсутствует, вместо него используются указательные местоимения.
Выражение множественного числа у местоимений обязательно в новояпонском языке (XVI-XIX вв.). Для этого используются суффиксы ^ - ра, ^Ь - домо, L^ - сю (проникает в японский язык вместе со словами- канго , позднее присоединяется и к исконно японской лексике), кЪ - тати, ^fc - гата (указаны в порядке возрастающей вежливости). Кроме того, используется редуплицированная форма 我々 варэварэ для выражения значения «мы».
Система личных местоимений значительно изменяется к XVIII в. Личные местоимения составляют большой класс слов, использование которых зависит от таких факторов, как пол, возраст, социальное положение собеседников и лица, о котором идет речь. Н. А. Сыромятников отмечает существование 31 местоимения 1-го лица, около 50 местоимений 2-го лица и 21 местоимение 3-го лица. Развитая система местоимений отражает многочисленные градации в японском обществе. В группе личных местоимений используется небольшая группа местоимений- канго , восходящих к именам, обозначающим говорящего скромно: Ж^ сэсся «неумелый человек», 愚僧 гусо: «глупый монах» [Сыромятников, 2009б. С. 50‒82].
В дальнейшем эта сложная система упрощается, количество местоимений значительно сокращается.
Итак, мы рассмотрели формирование способов выражения количественных значений в китайском и японском языках.
Грамматическая категория числа как одно из проявлений категории количества отсутствует в китайском и японском языках, начиная с древних этапов развития этих языков.
Точное количество выражается с помощью числительных. В древних системах числительных наблюдается сходство: при образовании числа перед последующим разрядом ставится морфема со значением «еще». В XIV‒XV вв. система японских числительных разрушается, ее заменяет система числительных- канго .
Точное количество выражается сочетанием имени с числительным и классификатором. В китайском и японском языках складываются свои системы классификаторов. Затем классификаторы- канго вместе с системой числительных проникают в японский язык и адаптируются японским языком в соответствии с мировосприятием японцев. Японские классификаторы продолжают использоваться с японскими числительными при счете до десяти.
Значение количества может быть передано безотносительно числа с помощью квантификаторов, слов со значением собирательности, обобщенности, целостности и дистрибутивного множества. В японском языке сосуществуют древние лексические и синтаксические способы выражения количества со способами (лексическими), заимствованными из китайского языка.
Факультативно число выражается личными местоимениями в китайском и японском языках. В изолирующем китайском языке для этого используются служебные слова, в агглютинирующем японском – суффиксы. Начиная с XVI в. выражение числа становится обязательным в личных местоимениях японского языка.
Список литературы Категория количества в диахронном аспекте в китайском и японском языках
- Зограф И. Т. Среднекитайский язык. СПб.: Наука, 2005. 259 с.
- Киэда Масуити. Грамматика японского языка. М.: УРСС. 2002. Т. 1. 674 с.
- Крюков М. В., Хуан Шуин. Древнекитайский язык. М.: Вост. лит., 1978. 512 с.
- Кутафьева Н. В. Категория количества и способы ее выражения в китайском и японском языках // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4. С. 131-140.
- Ли Юймин. Ханьюй лян фаньчоу яньцзю [李宇明.汉语量范畴研究. 武汉:华中师范大学出版社]. Изучение категории количества в китайском языке. Ухань: Хуачжун шифань дасюэ чубаньшэ, 2000. 506 с.
- Люй Шусян. Очерк грамматики китайского языка. М.: Наука, 1965. Т. 2. 349 с.
- Сыромятников Н. А. Древнеяпонский язык. М.: Вост. лит., 2002а. 174 с.
- Сыромятников Н. А. Классический японский язык. М.: Вост. лит., 2002б. 151 с.
- Сыромятников Н. А. Становление новояпонского языка. М.: УРСС, 2009а. 306 с.
- Сыромятников Н. А. Развитие новояпонского языка. М.: УРСС, 2009б. 303 с.
- Яхонтов С. Е. Древнекитайский язык. М.: Наука, 1965. 115 с.
- Окамото Каору. Киндай сакка-но су:си-дзёсу:си [岡本勲.近代作家の数詞・助数詞.日本語学.1986.5巻. 8号] Числительные и классификаторы в произведениях авторов нового времени. Нихонгогаку // Японоведение. 1986. Т. 5, № 8. С. 36-47.
- Окуцу Кэйитиро. Ниттю: тайсё: су:рё: хё:гэн [奥津敬一郎. 日中対照数量表現. 日本語学. 1986. 5巻. 8号]. Сравнение выражения количества в японском и китайском языках. Нихонгогаку // Японоведение. 1986. Т. 5, № 8. С. 70-79.
- О:но Сусуму, Сатакэ Акэхиро, Маэда Кингоро:. Кого дзитэн [大野晋,佐竹明広,前田金五郎.古語辞典.岩波]. Словарь старого языка. Иванами, 1994. 1532 с.
- Симидзу Ясуюки. Нихонго-но су:хё:гэн [清水康行.日本語の数表現.言語.1999. 28巻.10号] Количественные выражения японского языка. Гэнго // Язык. 1999. Т, 28. № 10. С. 42-47.