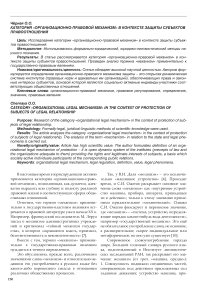Категория "организационно-правовой механизм" в контексте защиты субъектов правоотношений
Автор: Чрная Ольга Олеговна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 5 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследование категории «организационно-правовой механизм» в контексте защиты субъек-тов правоотношений. Методология: Использовались формально-юридический, юридико-лингвистический методы научного познания. Результаты: В статье рассматривается категория «организационно-правовой механизм» в контексте защиты субъектов правоотношений. Проведен анализ термина «механизм» применительно к государственно-правовым явлениям. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью. Автором формулируется определение организационно-правового механизма защиты - это открытая динамическая система институтов (правовых норм и адекватных им организаций), обеспечивающих права и законные интересы субъектов, основой которой являются социально активные индивиды-участники соответствующих общественных отношений.
Организационно-правовой механизм, правовое регулирование, определение, значение, правовые явления
Короткий адрес: https://sciup.org/140224950
IDR: 140224950
Текст научной статьи Категория "организационно-правовой механизм" в контексте защиты субъектов правоотношений
В настоящее время в юриспруденции активно применяется категория «организационно-правовой механизм», позволяющая, как думается, адекватно выразить всю глубину и полноту реальной правовой жизни в соответствующих сферах общественных отношений.
Отметим, что термин «механизм» применительно к государственно-властным явлениям встречается в правовой литературе уже в начале ХХ в. Например, французский исследователь М. Леруа писал о механизме административных учреждений и критиковал «тайный механизм государства», в котором «скрываются власть, произвол, безответственность и некомпетентность» [7].
Вместе с тем, термин «механизм» применительно к государственно-правовым явлениям нуждается в точном определении.
Это обусловлено, прежде всего, различными значениями слова «механизм» и относительно недавним его употреблением в русском языке без какого-либо переносного смысла в отношении различных общественных процессов.
Так, у В.И. Даля «механизм» – это исключительно «машинное устройство» [4]. Проходит время, и С.И. Ожегов раскрывает основное значение слова «механизм» как «внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие»; только к этому значению применимо прилагательное «механический». Однако С.И. Ожегов фиксирует и переносное значение, где «механизм» – «система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности», например «государственный механизм». Это ещё не обязательное употребление слова, не основное, а расширительное, скорее индивидуальное или метафорическое, но оно уже существует [10].
Современное словоупотребление гораздо шире. Большой толковый словарь русского языка, подготовленный в Институте лингвистических исследований РАН, так раскрывает его значение: механизм (от греч. «машина, орудие»): 1. Совокупность подвижно соединенных частей, совершающих под действием приложенных сил заданные движения; устройство машины, при- бора, аппарата и т. п.; 2. (чего и с определением) Внутреннее устройство, система чего-либо (государственный механизм, механизм власти); 3. разговорное – Методика; 4. (чего) Совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-либо физическое, химическое, физиологическое и т. п. явление [2].
Таким образом, в современном понимании применительно к государственно-правовым явлениям механизм – это система, то есть совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, определяющая порядок той или иной юридически-значимой деятельности.
В области юриспруденции невнимание к точному определению понятия «механизм» привело к тому, что само использование этого термина иногда воспринимается как попытка рецидива механицизма (то есть метода познания, признающего механическую форму движения материи единственно объективной: «мир есть машина») [12]. Однако при таком подходе можно прийти к выводам о возможности исследования правовых явлений лишь на основе механицизма и праве как «машинном устройстве», что неверно.
Г.В. Мальцев отмечал, что, исходя из механико-математических научных парадигм XVIII в., в юридической науке утверждался своего рода «конструктивизм, в котором отразился общий взгляд на мир как рационализированную машину, действующую по законам ньютоновской механики. Слова «юридический механизм», «механизмы юридического регулирования, правотворчества, правоприменения» сегодня занимают почтенное место в лексиконе юриста. Его нисколько не смущает механический характер юридико-институциональных устройств, напротив, он видит в них то, чего сильно не хватает сложной, хаотизированной, текучей реальности, – четких соотношений по заданной схеме, движения элементов согласно рассчитанному вектору (…). Если о конституции либо о юридическом институте говорят, что они «работают как часы», то это высокая похвала их создателям. В практическом плане образ часового механизма как идеала для правового регулирования, действия правовой системы весьма привлекателен. Но есть одно обстоятельство, которое в теоретико-методологическом смысле делает этот образ неудобным для права: он оставляет в стороне существование последнего в качестве сверхсложной динамической системы, буквально врастающей в свою социальную среду, способной при известных условиях самонастраиваться и саморазви-ваться» [8].
Заметим, что подобное отношение к человеческой деятельности отстаивал и выдающийся отечественный мыслитель, академик Г.И. Вернадский, который писал: «Человек как всякое живое природное (или естественное) тело неразрывно связан с определенной геологической оболочкой нашей планеты – биосферой, резко отличной от других ее оболочек, строение которой определяется ее своеобразной организованностью и которая занимает в ней как обособленная часть целого закономерно выражаемое место. Живое вещество, так же как и биосфера, обладает своей особой организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая функция биосферы. Организованность не есть механизм. Организованность резко отличается от механизма тем, что она находится непрерывно в становлении, в движении всех ее самых мельчайших материальных и энергетических частиц. В ходе времени – в обобщениях механики и в упрощенной модели – мы можем выразить организованность так, что никогда ни одна из ее точек (материальная или энергетическая) не возвращается закономерно, не попадает в то же место, в ту же точку биосферы, в какой когда-нибудь была раньше. Она может в нее вернуться лишь в порядке математической случайности, очень малой вероятности» [3].
Применение же в правоведении общей теории систем, как указывает Г.В. Мальцев, приводит к выводу о том, что «право, правовое регулирование – это не механизм, не конгломерат отдельных структур, не агрегат рационально соединенных элементов, приводимых в движение конструктором или инженером (законодателем или правоприменителем), но открытая динамическая система, обладающая качествами единства и целостности, активно взаимодействующая со средой, социальной и природной. (…) Под воздействием системного подхода (…) юрист научился придавать серьезное значение вероятностному развитию событий, санкционировать и обеспечивать их нормальный, естественный ход там, где раньше он стремился извне управлять процессами по четко заданной программе. В результате этого методика правового регулирования стала более разнообразной и гибкой, в практику входят новые «свободные» правовые формы, расширяется действие принципа диспозитивности, усиливается начало интерактивности во взаимодействии юридических субъектов» [8].
Тем не менее, попытки объяснить «правовой механизм» в духе механицизма (или, по Г.В. Мальцеву, «конструктивизма») имеют место.
В частности, исследуя судебное толкование права в механизме защиты прав и свобод человека, А.И. Рулев пишет: «Механизм определяется как устройство или приспособление, которое функционирует автоматически, в силу своей внутренней конструкции, не обладает свободой выбора и поэтому дает в высокой степени ожидаемый и гарантированный результат. Разумеется, правовые механизмы по своей социальной природе никоим образом не могут быть «очищены» от человеческой субъективности, поскольку базируются исключительно на активности конкретных лиц и социальных групп» [11]. В данном рассуждении налицо смешение различных смысловых значений слова «механизм», на что мы и указывали выше.
А.И. Рулев дает следующее определение исследуемого им явления: «Механизм защиты прав человека – это динамическая система факторов, обеспечивающих устранение незаконных препятствий при осуществлении юридически закрепленных социальных возможностей индивида. В структурную модель механизма входят: управомоченный субъект, правосознание управомоченного субъекта, нормативно-правовое основание, выбор способа защиты нарушенного права, действия управомоченного субъекта по защите своих прав, субъект, содействующий защите нарушенного права (государственные органы, общественные организации, международные организации и др.), компетенция субъекта, содействующего защите права, правосознание лиц, содействующих защите права, действия органов и организаций, содействующих защите права (юридическая квалификация, принятие решения, реализация мер защиты), результат защиты права» [11].
Обратим внимание, что А.И. Рулев говорит об «устранении незаконных препятствий», способе «защиты нарушенного права», то есть применяет термин «защита» лишь в аспекте восстановления права после совершенного деликта. Однако вызывает сомнение не столько ограниченность цели функционирования, но и суть такого механизма. Прежде всего, примененное А.И. Рулевым слово «фактор» означает «существенное обстоятельство, способствующее какому-либо процессу, явлению» [2]. Следовательно, речь идет о некоей «системе обстоятельств», к которым, по А.И. Рулеву, относятся и субъект, и законодательство («нормативно-правовое основание»), действия субъекта и правозащитных организаций, их правосознание и результат защиты. С таким подходом трудно согласиться, так как субъекты правоотношений не могут рассматриваться как не более чем «об- стоятельства, способствующие устранению препятствий»; вряд ли в данном контексте обоснован и «отрыв» правосознания от его носителя.
В работе К.Д. Шаймарданова конституционно-правовой механизм защиты основных прав человека и гражданина рассматривается как гарантированная конституционным законодательством система общепризнанных внутригосударственных и межгосударственных институтов, действие и взаимодействие которых направлено на предотвращение нарушений основных прав человека и гражданина или их восстановление в случае нарушения, а равно и возмещение вреда, причиненного нарушением; по структуре он представляет собой систему органов, в которую входят внутригосударственный механизм и межгосударственный механизм [17]. В этом определении законодательство выводится за пределы собственно механизма защиты (оно только его «гарантия»); механизм же – это система относительно самостоятельных органов, образующих отдельные механизмы защиты.
По существу, К.Д. Шаймарданов сводит конституционно-правовой механизм защиты к тому явлению, которое определяется рядом ученых как «механизм государства» (В.Д. Корельский, В.М. Сырых, В.Н. Хропанюк и др.) [6, 13, 15] либо, без применения этой дефиниции, как система государственных органов, практически осуществляющих функции государства (В.Е. Чиркин, Ю.А. Тихомиров) [14, 16], в данном случае функцию правозащиты.
Категория «организационно-правовой механизм» используется и при характеристике других правовых явлений. Например, Е.В. Марьин, анализируя организационно-правовой механизм экологического аудита, пишет, что под таковым «следует понимать совокупность принципов, управленческих процедур и механизма правового регулирования отношений по организации и осуществлению экологического аудита, направленных на охрану окружающей среды и рациональное, эффективное использование природных ресурсов, а также на достижение экологической безопасности при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» [9]. Таким образом, Е.В. Марьин в понятие организационно-правового механизма исследуемого им явления включает: принципы; управленческие процедуры; механизм правового регулирования соответствующих отношений; цели применения вышеуказанных элементов.
Исследуя проблемы защиты интересов Российской Федерации, В.П. Иванов указывает, что организационно-правовой механизм обеспечения государственных интересов «представляет собой систему юридических форм и методов декларирования и отстаивания интересов государства посредством взаимообусловленного и взаимодействующего функционирования государственного аппарата, наделенного соответствующими полномочиями в соответствии с принципом разделения властей» [5].
В целом же можно констатировать, что в понятие организационно-правового механизма учёные включают то элементы механизма государства, то элементы механизма правового регулирования [1].
Представляется, что, будучи сложной динамической системой, функционирующей в условиях рисков и социальной энтропии, организационно-правовой механизм сочетает элементы механизма государства и механизма правового регулирования, представляя собой совокупность правовых предписаний (законодательство в широком смысле) и наделенных соответствующей компетенцией государственных органов, реализующих эти предписания в той или иной юридически значимой деятельности.
В свою очередь, организационно-правовой механизм защиты – это открытая динамическая система институтов (правовых норм и адекватных им организаций), обеспечивающих права и законные интересы субъектов, основой которой являются социально активные индивиды – участники соответствующих общественных отношений.
Список литературы Категория "организационно-правовой механизм" в контексте защиты субъектов правоотношений
- Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: НОРМА, 2001. С. 316-319.
- Большой толковый словарь русского языка/Институт лингвистических исследований РАН; гл. ред. д-р филол. наук С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2006. С. 539.
- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 22.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. С. 274.
- Иванов В.П. Организационно-правовой механизм обеспечения государственных интересов Российской Федерации: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2003. С. 86.
- Корельский В.М. Механизм государства//Теория государства и права: учебник для юрид. вузов и факультетов/под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 153-154.
- Леруа М. Эволюция государственной власти (Синдикаты чиновников)/пер. с фр. В.С. Елпатьевского. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная Польза», 1907. С. 76-118.
- Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007. С. 63-64.
- Марьин Е.В. Организационно-правовой механизм экологического аудита: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. 6-е изд., стереотип. М.: Сов. энциклопедия, 1964. С. 6, 341.
- Рулев А.И. Судебное толкование права в механизме защиты прав и свобод человека (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 16.
- Старостин Б.А. Механицизм//Новая философская энциклопедия: в 4 т./Институт философии РАН; Нац. общ.-научн. фонд. М.: Мысль, 2010. Т. II. С. 561-562.
- Сырых В.М. Теория государства и права: учебник/отв. ред. д-р юрид. наук, проф. С.А. Чибиряев. М.: Былина, 1998. С. 37-40.
- Тихомиров Ю.А. Государство: монография. М.: Норма -ИНФРА-М, 2013. С. 143-148.
- Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. пособ. для высш. учеб. завед./под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. С. 134-139.
- Чиркин В.Е. Современное государство. М.: Междунар. отношения, 2001. С. 199-230.
- Шаймарданов К.Д. Конституционно-правовой механизм защиты основных прав человека и гражданина в Российской Федерации и ее субъектах (на примере Республики Татарстан): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 8, 12.