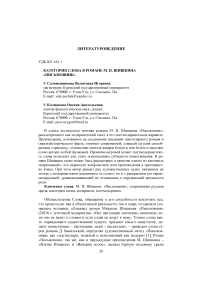Категория слова в романе М. П. Шишкина "Письмовник"
Автор: Соломенникова В.И., Колмакова О.А.
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется поэтика романа М. П. Шишкина «Письмовник», рассмотренного как модернистский текст в его постмодернистском варианте. Произведение, основанное на соединении традиций эпистолярного романа и (квази)исторического факта, отвечает современной, ставшей сегодня своеобразным «трендом», стилистике синтеза жанров fiction и non-fiction и наделяет слово автора особой функцией. Иронично-игровой аспект постмодернистского слова позволяет ему стать полноценным субъектом повествования. В романе Шишкина слово может быть рассмотрено в качестве одного из ключевых«персонажей», что переносит конфликтное поле произведения в пространство языка. При этом автор решает ряд художественных задач, связанных не только с модернистским эскапизмом «в слово», но и с раскрытием его гармонизирующей, уравновешивающей по отношению к окружающей реальности роли.
М. п. шишкин, "письмовник", современная русская проза, категория слова, модернизм, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148316476
IDR: 148316476 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Категория слова в романе М. П. Шишкина "Письмовник"
Обожествление Слова, обращение к его способности воплотить все, что происходит как в объективной реальности, так и мире, созданном сознанием человека, сближает роман Михаила Шишкина «Письмовник» (2010) с эстетикой модернизма. «Все настоящее ничтожно, никчемно, если оно не ведет к словам и если слова не ведут к нему. Только слова как-то оправдывают существование сущего, придают смысл минутному, делают ненастоящее – настоящим, меня – писателем», – приводит слова героя романа Д. Бавильский, определяя художественный метод «Письмовника» как «постмодерн, понятый и исполненный как модерн» [1]. Роман «Письмовник» так же, как и предыдущие произведения М. Шишкина – «Взятие Измаила» и «Венерин волос», вызвал бурную полемику среди критиков, пытавшихся ответить на вопрос: модернист или постмодернист писатель М. Шишкин?
Исходя из интертекстуально-игровой специфики постмодернистского текста, М. Ганин утверждает: «Шишкин обвел всех вокруг пальца, сделав вид, что написал роман о любви <…> За кажущейся элементарностью, почти предельной простотой композиции романа, за уменьшительными суффиксами и придыханиями Шишкин маскирует книгу о двух людях, живших в разные времена, никогда не встречавшихся при жизни, обращающихся не друг к другу, а в пустоту. Они не встречаются (и не встретятся) и после смерти. Единственная встреча Володи и Саши, когда-либо имевшая место, происходит здесь, в книге. Потому что смерть – сильнее любви. Но слова – сильнее даже и смерти» [2].
Главный объект постмодернизма – текст (вспомним утверждение Ж. Дерриды «Все есть текст!»). Прямая и косвенная цитата в композиции «Письмовника» играет важную роль. Человеческая жизнь неотделима от культурного наследия, накопленного предшествующими поколениями; более того, тексты, наполнившие жизнь героев, по-своему усредняют, нивелируют ее. «Газета: на первой странице – война, на последней – кроссворд…» [4, с. 1012]. При этом, цитируя отрывки из шедевров русской и мировой литературы, исторических источников и деловых документов, автор доказывает, что «все, что в жизни происходит важного, – выше слов» [4, с. 1036].
М. Шишкин апеллирует в своем романе к еще одному фундаментальному принципу постмодернизма – отказу от истины. М. Ганин приводит пример из романа Шишкина: «На происходившее со мной я смотрел только с точки зрения слов – могу я это взять с собой туда, на страницу, или нет. Я знал теперь, что ответить давно сгнившим мудрецам: мимолетное обретает смысл, если поймать его на лету. Где вы, мудрецы, ау? Где видимый вами мир? Где ваше мимолетное?» И продолжает: «Это не герой пишет, отсылая нас к другому вопрошанию («Смерть, где твое жало?»), – это автор» [2].
Однако С. Оробий считает, что было бы неправильным признать художественный мир романа М. Шишкина постмодернистским. Главный аргумент исследователя состоит в том, что автора интересует не столько игра с образами и цитатами (которых, впрочем, очень много), а сюжет жизни и смерти человека, который никак нельзя назвать лишенными серьезности. С. Оробий пишет: «Принципиальные неточности и умолчания в портретах главных героев делают их образы предельно абстрактными, придают действию архетипический характер – что может быть универсальнее, чем мужское и женское начало; мужской образ в произведении связан с вечной темой войны и смерти, женский – со столь же вечными темами рождения ребенка, жизни. Появление «Письмовника» позволяет утвердиться в мысли о том, как далек Шишкин от постмодернистской поэтики <…> роман писателя заканчивается парадоксальным принятием смерти как великого дара, растворением героев во времени, но теперь и «Сашенька», и «Володенька» могут умереть спокойно. Писатель Шишкин знает про них то, что не позволит им исчезнуть никогда» [3, с. 148-149].
Жизнь, прерванная наяву, но продолженная в слове является ведущей темой «Письмовника». Трагический по содержанию, но оптимистический по своей сути, роман утверждает ценность любви, противостоящей ненависти, абсурдности жестокого мира и неизбежности смерти. Слово, запечатленное в письмах любимому человеку, становится для героев своеобразной исповедью, главным средством самопознания и самовыражения, рассказом о долгих поисках своего места в равнодушном и враждебном для них мире и, наконец, выражением мечты о встрече в мире ином.
Название произведения можно рассмотреть с двух позиций. Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова определяет лексическое значение слова «письмовник», во-первых, как «сборник образцов для составления писем разного содержания», во-вторых, как «книгу для самообразования по языку и литературе». Существует написанный именно с этой целью письмовник Николая Курганова, вышедший в 1793 году. В то же время название романа отсылает нас к таким заглавиям, как «Судебник», «Молитвенник», то есть имеет ту же словообразовательную модель, что и данные слова, обозначающие свод законов или молитв, имеющих для читателя, с одной стороны, императивное значение, с другой – необязательность порядковой, «хронологической» последовательности.
Так и в романе Шишкина – герои в разлуке, оказавшейся вечной, пишут друг другу письма, в которых время оказывается не властно над ними: события, происходящие в романе можно назвать «надвременными». Юноша оказывается на войне, происходящей в Китае в начале двадцатого века. Это восстание ихэтуаней, на подавление которого отправлена русская армия. Вспоминая детство, он упоминает гимназию, мечту матери надеть модные во времена его мирной жизни перчатки, закрывающие локти. В письмах героини легко угадывается российская действительность конца двадцатого века. Герои существуют в разных концах Земли и в разных временных пространствах. Однако существуют письма-воспоминания о счастливых мгновениях взаимной любви в начале их разлуки и письма-исповеди, когда героиня узнает о гибели любимого. Письма все еще продолжают идти, хотя уже, возможно, не на бумаге, а в сознании обоих героев: стареющей и переживающей удары судьбы Сашеньки и попавшего в колесо бесконечной войны Володи.
Слово, сказанное и написанное, имеет особую власть над героями. С первых строк автор отсылает читателя к библейской трактовке категории слова: «Открываю вчерашнюю «Вечерку», а там про нас с тобой. Пишут, что в начале снова будет слово…» [4, с. 810]. Вспомним, что в Библии слово имело функции творения, было неоспоримым подтверждением гармонии мира. После грехопадения Адама и Евы слова превращаются в условные знаки, далекие от истинного смысла. Так и в письмах героев – гармоничными являются воспоминания, связанные с их любовью, искренними – только слова любви, адресованные друг другу. Все остальное – война, отношения с окружающими, даже с родителями – дисгармонично, противоречиво, полно внутренних конфликтов и непонимания.
Володя до ухода на войну пытался стать писателем. Ему знакомы муки творчества. «Дар оставил меня», – пишет он роковые слова перед тем, как сжечь все свои рукописи. При этом для героя слово, как возможность быть услышанным (прочитанным) важнее всего: «Наверное, нельзя так любить слова. Я любил их до одури» [4, с. 953]. Он «ненавидел ложь, особенно когда начинали уверять со всех трибун, что смерти нет, что записанные слова – это что-то вроде трамвая, увозящего в бессмертие». Так пишет героиня, пытаясь объяснить себе причину ухода на войну возлюбленного. Она тоже вспоминает, как его дневники и рукописи становятся пеплом, так что письма к ней – все, что остается после его гибели.
Слово и жизнь Володи тесно переплетаются. «Я должен был доказать, что существую сам по себе, без слов… Мне нужны были доказательства моего бытия» [4, с. 954], – пишет он возлюбленной. Он чувствовал, что не творит, а только слышит и передает чью-то волю: «Я не был собой. Слова приходили – и я чувствовал себя сильным, но я не мог им сказать – приходите! И они оставляли меня пустым, никчемным, использованным, выбрасывали на помойку. Я ненавидел себя слабого и хотел быть сильным, но каким мне быть – за меня решали слова…» [4, с. 955]. Можно сделать вывод, что не только на поиски «своего Тулона» идет на войну герой, ему важно ответить самому себе «на вопрос: кто я?».
Не только главные герои – практически, все персонажи в какой-то мере находятся в тех или иных отношениях со Словом. Так, отец героини, не понятый ни женой, ни окружающими, пережив много потерь и приключений, писал мемуары – «брошюрку бытия» [4, с. 1062]. И сообщил дочери, что планирует закончить их фразой, которой когда-то древние писцы завершали свои книги. Его желанию не суждено было сбыться. Эту фразу пишет автор от имени Володи, завершая переписку: «Уставшая рука спешит и медлит, выводя напоследок: счастлив бысть корабль, переплывши пучину морскую, так и писец книгу свою» [4, с. 1086].
Мать Сашеньки долгие годы пыталась заработать на жизнь, печатая на машинке документы. «Завещания, доверенности, купчие, протоколы обыска, заверенные переводы…». Неудивительно, что материнское слово-напутствие дочери содержит знакомые для советского строя шаблоны: «она все время повторяла где-то вычитанное, что жизнь – это не роман, что она не усыпана розами, что в ней надо делать не только то, что хочешь…» [4, с. 852]. Героиня, как и ее возлюбленный, не принимает прописных истин, протестует против них. И становится женой человека, сказавшего, что «давно уже ничего не читает, потому что надо писать живой жизнью – слезами, кровью, потом <…>, а они (писатели) пишут чернилами» [4, с. 887]. Возможно, она вспомнила слова Володи, который пытался убедить ее в том, что «любая книга – ложь, уже хотя бы потому, что в ней есть начало и конец. Нечестно поставить последнюю точку, написать слово «конец» – и не умереть» [4, с. 954].
Погибший на войне друг Володи Кирилл Глазенап, тоскующий о гармонии, находит ее в занятиях каллиграфией (отметим самоцитацию, отсылку к рассказу Шишкина «Урок каллиграфии»). Когда не хватает бумаги, он «пишет на доске или холстине, окуная кисточку в простую воду <…> Когда он дописывает стихотворение до конца, начало уже исчезает от солнца и ветра» [4, с. 916]. История каллиграфических упражнений этого героя символична: так исчезает в потоке времени воспоминание о судьбе любого человека. Только любящее сердце способно подарить погибшему вторую жизнь.
Тема смерти – одна из ключевых в романе. Не только Володя погибает на войне, смерть словно преследует и его возлюбленную: выйдя замуж после гибели любимого, героиня теряет ребенка, ухаживает за матерью, в тяжких муках умирающую от рака, хоронит вслед за ней отца. Первая, брошенная жена художника – мужа героини пытается покончить жизнь самоубийством, от несчастного случая умирает дочь от первого брака, до рождения погибает третий, долгожданный ребенок подруги детства Яны. Да и деятельность самих героев волей судьбы связана со смертью: Володя назначен армейским писарем, основная обязанность которого – писать и посылать похоронки. Сашенька в медицинский «пошла учиться, потому что хотела давать жизнь», а приходится работать по прерыванию беременности – убийству нерожденных детей. Кроме того, героиня носит имя умершего до ее рождения брата, и, ухаживая за матерью, периодически впадающей в беспамятство перед смертью, вдруг понимает, что та зовет не ее, а мертвого брата. При этом еще в детстве героиня искренне верила, что прочитанное слово давно умершего творца способно хотя бы на миг воскресить из небытия. Поэтому в библиотеке «из жалости к умершим и никому не нужным авторам» брала их «забытые книги, потому что иначе об этих писателях никто и не вспомнит».
Смерть противостоит жизни и на страницах романа приходит к людям и животным, как добрая утешительница, спасающая от ставшей невыносимой жизни. Так, Володя первый раз в жизни убивает птенца, упавшего около муравейника и обреченного быть заживо съеденным муравьями, образовавшими на нем «черный, вздрагивающий от невыносимой боли комок». На войне он от жалости пристреливает собаку с раздробленными лапами.
Героиня после гибели любимого живет в атмосфере постоянного холода одиночества: «утром еду на работу. Жду трамвая, и от ледяного ветра на глаза навернулись слезы, щеки обожжены. Замерзшая толпа на остановке угрюмая, молчаливая. Не то люди, не то тени…» [4, с. 1049]. Но в последний день на этом свете, а может быть уже «на том» вдруг радуется зиме, ведь можно, как в сказке слепить дочку-Снегурочку. «Беру снег, а он ловкий, лепкий. Все получается – ручки, ножки. Пальцы замерзнут, погрею их в карманах и снова леплю. Щечки, носик. Ушки. Пальчики… Чудесная получилась девочка!» [4, с. 1077]. С ней героиня садится в трамвай и едет в царство попа Ивана, про которое когда-то в детстве рассказывал ей отец, а теперь там ожидают ее все умершие родные и любимые. Царство попа Ивана – своеобразное тридесятое царство умерших предков, где «каждый знает свое будущее и все равно живет свою жизнь, любящие любят еще прежде того, как узнают друг о друге, познакомятся и разговорятся, и реки (символ времени) текут днем в одну сторону, а ночью в другую» [4, с. 1083].
Слово существует в романе и как напоминание о шедеврах мировой классики, утверждающих истины, важные во все времена. Текст построен на множестве аллюзий: упоминаются Элоиза и Абеляр, первооткрыватели эпистолярного жанра, Юлия – «новая Элоиза» и Сен-Пре, есть отсылки к «Гамлету» Шекспира, «Войне и миру» Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевскому, Ф. И. Тютчеву, К. М. Симонову. Все мудрые слова уже были сказаны, тончайшие движения души влюбленного уже были описаны. Что нового могут сказать герои о своей любви и поисках смысла жизни? Появляющийся перед героиней в минуту раздора с собой «весть и вестник» произносит: «Ты же знаешь, что любые слова – это только плохой перевод с оригинала. Все происходит на языке, которого нет. И вот те несуществующие слова – настоящие» [4, с. 886]. После известия о гибели любимого героине приходит письмо с очень важным выводом: «Все сущее и мимолетное отражает свет. Этот свет проходит через слова, как через стекло. Слова существуют, чтобы пропускать через себя свет...» [4, с. 955]. И перед самой встречей влюбленных, в последнем письме, не полученном героиней, следующий вывод: «…тела могут соприкасаться, и нет никакого зазора между душами. А люди становятся тем, чем они всегда были – теплом и светом…» [4, с. 1086]. Испытав потери и страдания, герои поняли: жизнь в разлуке и даже смерть бессильны перед словом любви. «Какие еще нужны доказательства моего бытия, если я счастлив из-за того, что ты есть, и любишь меня, и читаешь сейчас эти строчки!» [4, с. 960].
Итак, можно говорить о двоякой роли слова в романе М. Шишкина «Письмовник». С одной стороны, слово – это традиционное для литературного произведения «средство» передачи смыслов, на что указывают такие черты романа, как исповедальность, лиризм, обращение к эпистолярной традиции. С другой стороны, слово в романе наделяется статусом субъекта, творца художественного мира, т.е. становится «целью» автора, который буквально заворожен Словом, способным гармонизировать несовершенную объективную реальность.
Список литературы Категория слова в романе М. П. Шишкина "Письмовник"
- Бавильский Д. Шишкин лес. Достучаться до небес - 10: урок каллиграфии и чистописания в романе М. Шишкина «Письмовник» [Электронный ресурс]. URL: http://www.chaskor.ru/article/shishkin_les_19083 (дата обращения: 25.11.2016)
- Шишкин М. Три прозы: Взятие Измаила. Венерин волос. Письмовник: романы. М.: Астрель, 2012. 1085 с
- Оробий С. П. «Вавилонская башня» Михаила Шишкина: опыт модернизации русской прозы. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. 161 с
- Ганин М. Михаил Шишкин. «Письмовник»: рецензия [Электронный ресурс]. URL: http://os.colta.ru/literature/events/details/17894/ (дата обращения: 25.11.2016)