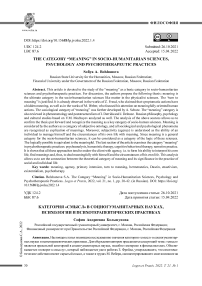Категория "смысл" в социогуманитарных науках, психологии и психотерапевтических практиках
Автор: Большунова София Андреевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена исследованию значения категории «смысл» в социогуманитарных науках и психотерапевтических практиках. Для обсуждения автором предлагается следующий тезис: «смысл» является предельной категорией в социогуманитарных науках, подобно «материи» в физикалистских. Обосновывается «поворот к смыслу», который наблюдается уже в работах З. Фрейда, утверждавшего, что симптоматические действия имеют скрытый смысл, а также в трудах М. Вебера, сконцентрировавшего свое внимание на осмысленно ориентированных человеческих действиях. Дальнейшее развитие социологическая категория «смысл» получила у А. Шюца. Также рассматривается отношение к смыслу в феноменологии на примерах работ Э. Гуссерля, в постструктурализме Ж. Деррида и Ж. Делеза, в культурологии (с опорой на труды В.М. Межуева), а также в отечественной философии и психологии. Анализ вышеперечисленных источников позволяет подтвердить выдвинутый тезис и признать «смысл» ключевой категорией социогуманираных наук. Смысл рассматривается авторами как категория субъектной онтологии, а все социологические и психологические явления признаются экспликацией смыслов. Более того, субъектность понимается как способность индивида со смыслом распоряжаться собой и обстоятельствами собственной жизни. Поскольку смысл является общей категорией для социогуманитарных наук, он может быть рассмотрен как категория логики этих наук: в данном контексте логически возможное эквивалентно осмысленному. В последнем разделе статьи рассмотрено значение категории «смысл» в психотерапевтических практиках: психоанализе, гуманистической терапии, когнитивно-поведенческой терапии, нарративной практике. Показано, что все перечисленные подходы стремятся к наделению клиента субъектностью, то есть к формированию у него способности к интерпретации собственной жизни, нахождению смысла и, таким образом, к осмысленному обхождению с собой и обстоятельствами собственной жизни. Данный анализ позволяет увидеть связь между теоретической категорией смысла и ее значением в практике социальной и индивидуальной жизни.
Смысл, субъектность, первичные интенсионалы, поворот к смыслу, герменевтика, присутствие (dasein), энактивизм, экзистенциализм, психотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/149141028
IDR: 149141028 | УДК: 124.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.1.4
Текст научной статьи Категория "смысл" в социогуманитарных науках, психологии и психотерапевтических практиках
DOI:
Цитирование. Большунова С. А. Категория «смысл» в социогуманитарных науках, психологии и психотерапевтических практиках // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 30–42. – DOI:
Поворот к смыслу
Целью данной статьи является рассмотрение категории «смысл» в социогуманитар-ных науках, а также обоснование свершившегося поворота к смыслу, закрепившего за данной категорией статус предельной.
В 1901–1904-х гг. З. Фрейд пишет книгу «Психопатология обыденной жизни», методологическое значение которой до сих пор остается неверно истолкованным. Отчасти виноват в этом сам З. Фрейд, с подачи которого книга воспринимается как иллюстрация к следующему тезису: даже кажущиеся непреднамеренными психологические явления на самом деле мотивированны и детерминированными скрытыми от сознания мотивами [Фрейд 1923]. Собственно же установленный З. Фрейдом факт состоит в том, что даже кажущиеся ошибочными, случайными и т. п. проявления человека имеют смысл, что за редким исключением психоаналитику «удается найти скрытый смысл симптоматического действия» [Фрейд 1923, 241]. Сам отец психоанализа не без гордости заявляет, что именно он первым заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл. Понятие мотива вводится З. Фрейдом лишь в порядке интерпретации этого фундаментального факта. Суть пред- принятого психоаналитиком исследования заключается в оценке событий с позиции смысла. Событие является психологическим или не является таковым в зависимости от того, имеет ли оно смысл. Основной и напрашивающийся вывод из книги может быть сформулирован так: смысл конституирует психологический статус явления, позволяет отнести его к психологическим явлениям как таковым. Установить психологический статус событий – значит обнаружить их смысл, и именно смыс-лодетерминированность делает события психологическими. Обратим внимание, что в последней, собственно методологической главе книги З. Фрейд подчеркивает, что его современники отрицают преднамеренность множества психических актов и таким образом преуменьшают значение детерминации в душевной жизни человека. На самом же деле у человека нет возможности сознательно и произвольно сочинять бессмыслицу.
Аналогичный поворот к смыслу в то же время совершается в социологии М. Вебером. Задачу социологии он видит в интерпретирующем понимании осмысленно ориентированных человеческих действий [Вебер 1990]. Более того, согласно М. Веберу, нечто является действием постольку, поскольку действующий индивид связывает с ним некий смысл. Параллельно Э. Гуссерль пишет «Логические исследования», ставшие отправной точкой развития феноменологии, а в 1932 г. А. Шюц, ученик Э. Гуссерля, публикует работу по феноменологической социологии. Заголовок недавнего издания трудов А. Шюца в России – «Мир, светящийся смыслом» – точно отражает существо его идей [Шюц 2004]. Поворот к смыслу обнаруживается даже в подоплеке «лингвистического поворота» Л. Витгенштейна. Свою программную установку он формулирует так: мой «метод заключается в отказе от поисков истины, вместо которых мы задаемся вопросом о смысле» [Витгенштейн 2010, 24].
Итак, начавшийся на рубеже ХХ в. поворот к смыслу завершился во второй половине столетия признанием универсального значения категории смысл для всего спектра со-циогуманитарных наук. Наиболее жестко пишет об этом А.Ф. Лосев, утверждая, что философия исходит из утверждения: вещь обладает смыслом, каждая вещь имеет свой смысл. Данный тезис оценивается им как априорный, бездоказательный и даже принципиально недоказуемый, а возражения на этот счет он считает несущественными и не имеющими отношения к самой философии. И даже радикальнее: подобные «возражения есть не больше, как человеческая патология, с которой не нужно спорить, но которую надо лечить» [Лосев 1994, 472].
Всеобъемлющее значение смысла констатирует и Ж. Деррида, когда пишет: все, что предстает сознанию и существует для него, есть смысл; всякий опыт есть опыт смысла. Смысл рассматривается им как сама «феноменальность феномена» [Деррида 2007, 37]. Аналогичной позиции придерживается Ж. Делез. Он уподобляет смысл сфере, куда человек помещается изначально, как только начинает говорить. Только находясь в сфере смысла, индивид способен осуществлять возможные обозначения и даже продумывать их условия. Смысл предполагается сразу, когда человек начинает говорить, и без такого предположения речь не может быть начата. Любая десиг-нация подразумевает смысл, и поэтому, обозначая нечто, мы сразу оказываемся внутри смысла [Делез 2011]. В культурологии универсальность категории смысл подчеркивается В.М. Межуевым. Он пишет, что именно спо- собность вещи излучать смысл, а, еще точнее, способность человека наделять вещь смыслом, превращает ее в предмет культуры. Все в мире исполнено человеческого смысла, даже природа [Межуев 2006]. В отечественной психологии уже в 1920–1930-х гг. категория смысл приобретает ключевое значение в деятельностных подходах А.Н. Леонтьева и М.М. Рубинштейна: «Учение о деятельности есть альфа, учение о смысле – омега психологии» [Леонтьев 1994, 209; Рубинштейн 1927]. С точки зрения теории деятельности, психологическое содержание поведения возникает в процессе образования смысловых связей. Наконец, новая феноменология У. Матурано и Ф. Варела охватывает категорией смысл и биологию (впрочем, уже А.Н. Леонтьев использовал понятие «биологический смысл») [Maturana, Varela 1980; Maturana 2002; Vörös web]. Признается, что даже простейшие организмы действуют в феноменологических (смысловых) ландшафтах, являющихся продуктом со-определения организма с миром. Нервная система, включая мозг, возникла и развивалась как орган, предназначенный к функционированию в феноменологических полях как своего рода «акцептор смыслов» (заметим, что такой подход устраняет гордиев узел неувязок между нейронауками и психологией). В 1991 г. на базе феноменологии У. Матурано и Ф. Варела создается энактивизм как новая парадигма со-циогуманитарных наук, даже своего рода универсальный логос этих наук (особенно культурологии, социологии и психологии) [Varela, Thompson, Rosch 1991; Villalobos, Ward web; Jesus web; Ward, Silverman, Villalobos web]. Энактивистами вполне осознается близость этой парадигмы к деятельностному подходу А.Н. Леонтьева [Drain 2018]. В связи с этим энактивизм можно характеризовать как деятельностно-феноменологический подход в гуманитарных науках [Durt, Fuchs, Tewes 2017].
Смысл – категория субъектной онтологии
Из сказанного следует, что смысл не является специфической категорией какой-либо из социогуманитарных наук, но в каждой из них он проявляется в форме какой-либо из своих метаморфоз, например, как личностный и операциональный смысл в психологии, социальный смысл, экзистенциальный смысл и т. д. Собственно же смысл является категорией иного порядка, и не случайно именно борьба с психологизмом в логике приводит Э. Гуссерля к категории смысла. Смысл указывает на некую отличную от физика-листской онтологию социогуманитарных явлений (Д. Макдауэлл называет ее «второй природой») [McDowell 1994]. В физических и химических процессах нет ничего, что указывало бы на наличие в них чего-то подобного смыслам; физико-химические процессы ни в какой из своих частей не опосредуются смыслами, и смыслы не нужны для их описания и объяснения. Напротив, все социогуманитар-ные явления смыслоконституированы и смыслодетерминированы.
Нечто само по себе не является ни товаром, ни культовым предметом, ни даже пищей. Оно становится таковым в отношениях с субъектом или в образуемых человеческими практиками отношениях. Сказать, например, что некая вещь в отношениях обмена становится / является товаром – то же самое, что сказать: она приобретает / имеет смысл товара. Этот смысл (товара) объективируется как стоимость, которую К. Маркс называет «объективной мыслительной формой», а на языке энактивизма стоимость является воплощением (embodiment) смысла. Товар, подчеркивает К. Маркс, вещь чувственно-сверхчувственная. Сверхчувственное в товаре – это его смысл. Все, что мы делаем с товаром, мы делаем сообразно с этим смыслом. Любая практика, например обмена, атрибутирует индивиду свойство субъектности как способности действовать с вещью сообразно с тем смыслом, которым она обладает в этой практике.
Здесь необходимо сразу развести понятия субъектности и субъективности. Государство, к примеру, может располагать субъектностью, то есть ему может атрибутироваться субъектность как субституту субъектности, но не субъективностью. Чиновник, напротив, даже оказавшись на вершине власти, может оставаться всецело субъективным и не располагать субъектностью. Под субъектностью мы понимаем способность распоряжаться обстоятельствами своей жизни, сво- ей жизнью в целом и самим собой сообразно с их смыслом (смыслом обстоятельств, смыслом жизни и смыслами всех аспектов своей идентичности). Вопрос субъектности может быть поставлен как вопрос «суббота для человека или человек для субботы», обстоятельства распоряжаются человеком или человек обстоятельствами.
В силу всеобъемлющего характера категории смысла мы не знаем ответа на вопрос, что значит «иметь смысл». Дефинировать смысл невозможно, ведь всякое утверждение есть отрицание, все – это ничего. Но как наличие смысла, так и сам смысл обладают характером самоочевидности. Еще раз обратимся к тезису А.Ф. Лосева: каждая вещь имеет свой смысл [Лосев 1994]. Смысл – предельная категория социогуманитарных наук, в чем-то подобная понятию материи в физи-калистских науках: мы заранее убеждены, с каким бы физическим явлением мы не встретились, оно будет материальным, ибо иное исключило бы его из тех причинно-следственных связей, на исследовании которых зиждется физика.
Все психологические и социологические проявления человека являются смыслодетерминированными и смыслоопосредованными. Более того, все психологические явления следует рассматривать как экспликации смыслов, репрезентации смыслов субъекту. Эти экспликации образуют сферу субъективного. Сами же смыслы не субъективны и не объективны, они субъектны, они суть то, чем вещи становятся в отношениях с субъектом. Без понятия субъектной онтологии мы вынуждены были бы подобно Д.А. Леонтьеву утверждать, что понятие смысла неким образом «соотносимо и с объективной, и с субъективной, и с интерсубъективной (групповой, коммуникативной) реальностью» [Леонтьев 2007, 4]. Но сказать, что смысл является и субъективным, и объективным, и интерсубъективным, значит неразрешимо запутать проблему смысла.
Представляется, что предпосылки и условия разрешения этого узла недоразумений находятся в онтологии М. Хайдеггера, в конституции сущего характера Присутствия (заметим, что Хайдеггер характеризует Dasein как «онтологически верно понятый субъект»)
[Хайдеггер 2011, 111]. Сущее характера Присутствия – это сущее, которое, понимая в своем бытии, относится к этому бытию. В этом онтологическом отношении сущего и бытия этого сущего Присутствие полагается как субъект, а бытие как объект и предмет. Можно сказать точнее, что бытие в этом отношении полагается как вся совокупность моментов объективной логики Г.В.Ф. Гегеля, то есть как сущность, основание, явление, существование, действительность. При этом бытие конституируется как объект и предмет по смыслу: объект суть то, что имеет смысл объекта. Смысл же суть исключительная форма мыс-лимости этого отношения – то, в чем и как выражено это отношение. Для М. Хайдеггера вопрос о смысле бытия «универсальнейший и пустейший» [Хайдеггер 2011, 39]. С одной стороны, сущее характера Присутствия есть опрашиваемое в вопросе о смысле бытия, с другой, в нем заложена возможность индивидуации до конкретного Присутствия. Поскольку же в отношении Dasein с бытием присутствуют (соприсутствуют) другие, постольку смысл приобретает и характер интерсубъективности.
Смысл и субъект как категории логики
Опять же, поскольку смысл не является специфической категорией какой-либо из со-циогуманитарных наук, его следует рассматривать как категорию логики этих наук [Большунов, Тюриков, Большунова 2019]. С точки зрения логики, субъект предпосылается действию и высказыванию в качестве условия их осмысленности. Так, в объективной логике Г.В.Ф. Гегеля, являющейся «генетической экспозицией» понятия (субъекта), по завершении ее выясняется, что субъект был предпослан всему развертыванию логических категорий и поэтому являет себя как истина этого становления, в котором оно снято (объективная логика приводит к понятию субстанции, которая суть то, что содержит в себе все основания своих проявлений; субъект же содержит их не только в себе, но и для себя). Аналогично в совсем другой традиции у В. Декомба субъект предпосылается глаголу как первый актант (агенс), являющийся логиколингвистическим условием осмысленности высказывания [Декомб 2011]. Соответственно, понимая что-либо (а понимаются смыслы), мы всегда ищем и конструируем субъекта, который мыслится как предпосылка осмысленности действия и высказывания. Если нечто «просто произошло», оно бессмысленно (точнее, вопрос о смысле в отношении этого «просто произошедшего» неуместен, и именно поэтому – см. выше – психоанализ как выяснение смысла обречен на удачу как конструирование смысла, осмысленности). Так, если болезнь воспринимается не как испытание, наказание или искушение, но только как результат инфицирования, она не имеет смысла; но для того, чтобы болезнь имела смысл испытания, ей должен быть предпослан Бог как субъект, ведь именно отношением к Нему, распоряжающемуся и вирусами, болезнь приобретает смысл испытания.
Соответственно, описанное в предыдущем разделе наделение индивида субъектностью осуществляется сообразно с логосом субъектной онтологии. При этом индивид, которому атрибутирована субъектность, должен как-то привести себя в соответствие с атрибутированными ему экзистенциальными характеристиками – что, собственно, и означает «стать человеком».
Понятие «смысл» впервые вводится в логику Г. Фреге, который показывает, что знак несет в себе не только обозначаемое, но и некий смысл [Фреге 2000]. Обозначаемое и смысл не только не тождественны друг другу, но и существуют независимо друг от друга. Так, Г. Фреге показывает, что любое грамматически правильное предложение имеет смысл, однако не всегда обладает значением. В качестве примера логик рассматривает предложение: «Одиссей был высажен на берег Итаки крепко спящим». Очевидно, что оно имеет смысл, но имеет ли оно значение? Ведь, вероятнее всего, имя «Одиссей» значения не имеет, а значит и само предложение тоже. Из этого Г. Фреге делает вывод, что художественная литература в первую очередь наделяет знаки смыслом, а вот наука, ориентированная на поиск истины, стремится связать с понятием определенное значение.
Аналитическая философия, напротив, редуцировала смыслы к значениям, и на место смысла пришло понятие верификации. Это привело к признанию бессмысленными не только этики, но и чуть ли не всей философии [Вайсман 1998]. Но основная загвоздка состоит в следующем: чтобы ставить вопрос о значении предложения, оно уже должно иметь смысл. Бессмысленное априори не имеет значения.
Новая попытка отделить смысл от значения была предпринята Р. Карнапом [Карнап 1959]. Он вводит понятия интенсионала и экстенсионала, уподобляя их смыслу и значению у Г. Фреге. Однако интенсионал, как его понимает Р. Карнап, не позволяет провести различий между смыслом и содержанием предложений, интенсионал и экстенсионал для него всегда существуют в паре. Но когда Д. Чалмерс разделяет интенсионалы на первичные и вторичные, становится очевидно, что это не так [Чалмерс 2013]. Для пояснения этого приведем следующий пример. Предложение «вода есть Н2О», по Р. Карнапу, есть интенсионал, указывающий на определенный класс объектов, то есть экстенсионал, образующий «объем» понятия [Большунов, Тюриков, Большунова 2019]. Однако данное высказывание ничего не сообщает о смысле воды, которым она обладает для человека в актуальном или контрфактическом мирах. Первичный интенсионал воды, то есть ее смысл, выражается в обращении с водой в разных практиках: культурных, бытовых, социальных. Вода имеет особый смысл в культовой практике крещения, иной – в культурных практиках массового купания во время Ивана Купала. Основной бытовой смысл воды заключается в том, что ее можно пить, готовить на ней, купаться, мыться. Подобный смысл не заложен в ее химическом составе и, если представить себе формы жизни на кремниевой основе, тем же смыслом для них могла бы обладать серная кислота.
Первичный интенсионал вводит в игру смысл: добро есть то, что имеет смысл добра, свобода – то, что имеет смысл свободы и т. д. Но содержание этих понятий всегда остается проблематичным (см. [Вильянуэва web]), и они либо вообще не имеют референции, либо не являются «жесткими десиг-наторами».
Изначально Д. Чалмерс вводит различие между первичными и вторичными интенсио-налами, основываясь на разделении жестких и пластичных десигнаторов С. Крипке. В его терминологии десигнаторы различаются, поскольку референции в актуальном и контрфактическом мирах определяются разными механизмами [Kripke 1980]. Д. Чалмерс, в свою очередь, обосновывает наличие разных схем зависимости референта от состояния мира и вводит два интенсионала:
-
1) первичный интенсионал: зависимость фиксирует референцию в актуальном мире сообразно тому, каким является этот мир;
-
2) вторичный интенсионал: зависимость определяет референцию в контрфактическом мире при условии фиксации референции в актуальном мире.
Мы же настаиваем, что первичные ин-тенсионалы (смыслы) не имеют референции, но располагают интенциональностью и вследствие этого способностью к различным «опредмечивающим оборачиваниям», по Э. Гуссерлю; объективациями, по М. Фуко; или воплощениями, говоря языком энактивизма. Кроме того, они находятся в процессах перманентных и бесконечных пониманий и интерпретаций. Понимаются и интерпретируются именно смыслы; во вторичном интенсионале типа «вода есть Н2О» нечего понимать и интерпретировать, это только знается. Поэтому М. Хайдеггер утверждает, что «Лпгпт феноменологии Присутствия имеет характер герменевтики» [Хайдеггер 2011, 37]. Через герменевтику принадлежащая Присутствию бытийная понятливость извещается о собственном смысле бытия и основоструктурах своего бытия.
Возвращаясь к трудам Р. Карнапа, отметим еще одно понятие, введенное им, – интенсиональный изоморфизм [Карнап 1959]. Оно вводится для анализа синонимии и дает возможность говорить об интенсиональных структурах и контекстах. Если переложить карнаповский интенсиональный изоморфизм на первичные интенсионалы, получится интенсиональный морфизм – непрерывное отображение, не предполагающее синонимии. Примером непрерывного отображения могут служить бинарные оппозиции, пронизывающие все жизненные миры: сакральное – профанное, живое – мертвое, мужское – женское и пр. Содержания подобных оппозиций различны, но каждая из них производит общий смысл и об- разует «темные» интенсиональные контексты. Они не очевидны для наблюдателя, но самоочевидны для представителя культуры. Так, бинарная оппозиция «инь / ян» охватывает все явления китайского жизненного мира, любой представитель китайской культуры способен распределить между «инь» и «ян» все знакомые ему явления, однако для других культур эта задача непосильна.
С введением понятия первичных интен-сионалов и образуемых ими интенсиональных структур и контекстов мы получили мощное средство мыслимости смыслов.
В отличие от аналитической философии в феноменологии проблематика смысла изначально является ключевой. В «Логических исследованиях» Э. Гуссерля логическое, по сути, приравнивается к осмысленному. Логически возможное эквивалентно осмысленному, логика есть то, что «дает смысл» [Гуссерль 2011, 145]. Для Э. Гуссерля бессмысленный мир не является логически возможным [Chakraborty 2016]. Впоследствии Г.П. Щедровицкий определит логику как «организацию собственного мышления, собственного действия… которая несет в себе осмысленность» [Щедровицкий 2004, 45–46]. Начиная с «Идеи к чистой феноменологии…» и далее в трансцендентальной феноменологии и интенциональной аналитике смысл у Э. Гуссерля приобретает характер априорной (логической) формы мыслимости жизненного мира и всех ингредиентных ему явлений, т.е. всех социогуманитарных и, в особенности, психологических феноменов.
В заключение раздела подчеркнем, что границы осмысленного значительно шире границ рационального; и даже аффекты имеют смысл и свою логику.
Смысл и язык
В отличие от западной философии, в которой язык признается «обиталищем смыслов», мы придерживаемся тезиса Л.С. Выготского: вещи имеют смысл, слова имеют значения [Выготский 2004, 232]. При этом слова выражают смысл в значениях, подобно тому, как денежные знаки выражают стоимость в ценах. И так же, как выражение стоимости в ценах ведет к возникновению денежной формы стоимости, выражение смысла в значени- ях слов ведет к возникновению языковой формы смысла. Это имеет три важных последствия. Первое заключается в беспрецедентных возможностях по обращению смыслов в дискурсах. Вторым является то обстоятельство, что в этом обращении (метаморфозах) смысл может приобретать характер «превращенных форм» и симулякров в значении, придаваемом этому термину Ж. Бодрийяром: перефразируя, симулякр смысла – не ложь, скрывающая смысл или его отсутствие, а смысл, которого нет [Бодрийяр 2015]. И подобно тому, как денежная форма стоимости как симулякр стоимости терпит катастрофу при «встрече с реальностью», терпит крах и языковой симулякр смысла. Третьим обстоятельством является то, что с языковой формой смысла возникает и возможность самообмана в значении этого понятия у Ж.-П. Сартра.
Смысл в психотерапевтических практиках и консалтинге
Расширение значения категории смысл в социогуманитарных науках привело к развитию смыслоцентричных и смыслоориентированных практик консультирования, причем не только психологического [Wong web; Kudesia web; Batthyany, Russo-Netzler web].
Есть две фундаментальных особенности смыслоориентированного консультирования. Во-первых, если все проявления людей смыслоконституированны и смыслодетерми-нированны, то изменения сознания и деятельности людей происходят вслед за изменениями, трансформациями различных смысловых образований: смысловых ситуаций, феноменологических полей, в которых люди находятся и действуют. Соответственно, в фокусе работы смыслоориентированного консультанта всегда находятся не только смыслы, но и процессы смыслообразования. Во-вторых, смыслоориентированный консультант для обеспечения эффективности своей работы вынужден решать три ключевых проблемы. Это деконструкция, демонтаж различных субститутов субъектности, симулякров смысла и порождаемых обращением смыслов форм самообмана. Особенно важно консультанту разобраться с субститутами субъектности, по- скольку центрированные на субститутах миры, то есть миры, в которых вещи, события, поступки имеют смысл отношением не к людям, а к субституту, априори нерелевантны запросу на бытие людьми. В глобальном плане субъектностью могут наделяться государство, капитал, наука, церковь, какая-либо идеология и т. д. В локальном – семья, организация, карьера, вообще, что угодно. В любом случае такой центрированностью глобальный или локальный жизненный мир, используя различие Ю. Хабермаса [Хабермас 2010], трансформируется в систему, режим, не предполагающий субъектности человека; в любом случае деформированный центрированностью на субституте жизненный мир наполняется человечно не обосновываемыми многочисленными «должен» и «нельзя», «принципами» и т. п.
Традиционно пионером исследований смысла в психологии и психотерапии принято считать В. Франкла, однако и до логотерапии категория смысла присутствовала в психологии в разной степени выраженности.
Как сказано выше, если посмотреть на классический психоанализ сквозь современную оптику, можно сказать, что З. Фрейд создал дискурсивную практику смыслообразо-вания [Филатов 2014]. Психоаналитическая концепция постулирует принципиальную иска-женность и ограниченность знаний человека о себе. Искажается она неосознаваемыми моральными предписаниями и защитными механизмами. В психоанализе познающий субъект принципиально не способен быть объективным в полной мере, и поэтому для понимания себя он нуждается в диалоге с Другим. Смысл символа не дан объективно, не артикулирован ситуацией, но извлекается с помощью кода. Код проступает в результате взаимодействия сознательного и бессознательного, аналитика и анализируемого, т.е. в процессе интерпретации. По сути, З. Фрейд разрабатывает язык, который позволяет раздвинуть границы мыслимого и найти смысл в том, что раньше казалось случайным и бессмысленным. Позже Ж. Лакан скажет, что бессознательное структурировано как язык [Лакан 2004].
Развитие теории психоанализа в русле лингвистического поворота переориентирует его со стандартов естественнонаучного познания на непрерывный поиск кода. Код позволяет буквально перевести речь Другого, бессознательное Другого на язык, доступный Эгосознанию. Аналитик становится переводчиком для пациента и благодаря интерпретации и нахождению смыслов языка бессознательного достигается целительный эффект.
Более открыто о значении смысла для психотерапевтического подхода говорили представители классического гуманистического направления. Здесь психологические проблемы клиентов трактуются как результат незнания себя и несоответствия самому себе, точнее неконгруэнтности Я-концепции и переживаний человека, его опыта [Роджерс 1994]. Основой личности вновь выступает субъективный опыт, в соответствии с которым интерпретируется действительность. В связи с этим понимание терапевтом мира клиента так, как он сам его видит, является обязательным условием для терапевтических изменений. Однако в отличие от психоанализа здесь терапевт не интерпретирует, а стремится эмпа-тически воспринять систему внутренних смыслов клиента.
К. Роджерс демонстрирует значимость понятия «смысл», приводя в пример исследование двух групп врачей психиатрической клиники. Первая группа работала с большим успехом, а вторая имела некоторые трудности. Исследователи поставили перед собой задачу выявить причины разной эффективности. Одним из отличий оказалось стремление первой группы понять больного, исходя из смысла его поведения, а не работать с ним по истории болезни или только согласно описанию диагноза. Важно, что гуманистический подход исходит из принципиальной допустимости полного понимания путем эмпатического вчувствования и принятия Другого, и указывает, что именно это понимание производит благотворный эффект.
Интересный путь к категории «смысл» проделала когнитивно-поведенческая терапия (далее – КПТ) [Гаранян web; Beck 2011]. Черпая свои истоки из бихевиорального подхода, в своей первоначальной версии практически полностью отрицавшего ментальные явления, она соединила его с когнитивным, сфокусированным в первую очередь на мыслительных процессах. В результате КПТ сосредоточила свое внимание на связи мышления и поведения. Базовое утверждение – мысли человека сильно влияют на то, как он себя чувствует и как он себя ведет, – нашло отражение в треугольнике КПТ, в вершинах которого располагаются поведение – мысли – чувства.
Психотерапевт уделяет внимание «неадаптивным» когнициям и убеждениям, которые порождают нежелательное поведение или переживания. Предполагается, что клиент интерпретирует внешние события и ситуации, наделяя их определенным смыслом. Интерпретации в свою очередь приводят к тому или иному поведению индивида. Соответственно, к нежелательному поведению приводят неадаптивные интерпретации. Терапевт вместе с клиентом исследует неадаптивные убеждения и интерпретации в рационалистическом ключе, то есть выявляет «ошибки мышления» путем поиска доказательств, альтернативных убеждений и выявления эффектов тех или иных убеждений на жизнь клиента. Одним из популярных методов современных когнитивно-поведенческих терапевтов является «сократический диалог», в процессе которого задается серия вопросов, направленных на прояснение сути проблемы, смысла событий для клиента и оценки последствий неадаптивных мыслей и видов поведения [Overholser 1993]. Таким образом, процесс интерпретации и переосмысления с помощью терапевтических вопросов и упражнений становится центральным в современной КПТ.
Однако, несмотря на значимую роль понятия «смысл» в приведенных выше направлениях психотерапии, центральную роль оно традиционно занимает в экзистенциальном подходе. Основоположник смысло-центрированной терапии В. Франкл, которому принадлежит знаменитая психотерапевтическая формула, созданная Ф. Ницше и трагически проверенная В. Франклом на практике: «У кого есть “Зачем”, тот выдержит почти любое “Как”» [Франкл 2004]. «Зачем» – это и есть смысл, и именно смыслу отдана определяющая роль в человеческой экзистенции в логотерапии.
В. Франкл ввел традицию разделять вопросы о смысле на большие и малые [Лэнгле 2004]. Большие смыслы – жизнеопределяющие, это вопросы о смысле жизни, страдания, труда, любви и т. д. К малым смыслам относятся повседневные решения, поэтому любое действие ставит маленький вопрос о смысле. Смысл как ответ на вопрос «зачем» пронизывает бытие человека. При этом зачастую маленькие смыслы являются конкретизацией большого Целого, поэтому вопрос о смысле нелинейный и подразумевает поиск контекста, системы взаимосвязей, включенности ситуации в нечто большее [Лэнгле 2009]. Экзистенциальный поворот в бытие человека означает занятие активной позиции по отношению к смыслу, когда субъект перестает пассивно ждать смысл, но начинает принимать участие в жизни, спрашивать себя и мир. Смысл тогда понимается как участие в бытии и непосредственно переходит в действие, что вновь возвращает к понятию субъектности.
Важно, что логотерапия В. Франкла и ее последователи утверждают, что смысл должен быть найден и не может быть создан. Это отличает экзистенциальную терапию от конструктивистских подходов. Для нахождения смысла В. Франклом был разработан «Метод обнаружения смысла», состоящий их четырех последовательных шагов: дистанцирование от ситуации, эмоциональное соотнесение с открывшимися возможностями, выбор наилучшей из возможностей и осуществление решения в действии. Именно нахождение смысла в диалоге с терапевтом обладает положительным эффектом на клиента с точки зрения ло-готерапии и экзистенциального анализа.
Также активно работают со смыслом постмодернистсткие и постструктуралистские подходы, которые едва ли могут быть объединены в однородную группу, однако имеют сходные установки и принципы, базирующиеся на соответствующих философских идеях. Для примера может быть рассмотрена нарративная практика, сфокусированная на интерпретации и переинтерпретации личных историй (нарративов) в контексте влияния социальных дискурсов и отношений власти [Кутузова 2011]. Нарратив выступает основным средством осмысления жизненных событий и переживаний. Тогда цель помогающего практика – создание условий для насыщенного описания предпочитаемой истории субъекта, то есть создание предпочитаемого наррати- ва, многомерного, осмысленного, эмоционально-насыщенного, в котором повествование ведется от первого лица и человек наделен субъектностью.
Поскольку нарративная практика является нон-структуралистским подходом, в ней не принято считать поведение человека проявлением структурных характеристик отношений или личности. Напротив, поступки и поведение выводятся из смыслов, зависят от условий, ценностей и намерений. Внимание к связыванию смыслов и действий позволяет обеспечить насыщение нарратива и укрепить субъектность клиента, поскольку он становится автором как мыслей, так и действий. При этом ведущая роль в смыслообразовании и интерпретации, выборе предпочитаемой истории и ее оценке отдана самому клиенту, поскольку только он признается экспертом в собственной жизни. Терапевт же выступает расспрашивающим, который в диалоге направляет беседу и высвечивает те или иные нарративы и дискурсы и их влияние на жизнь человека, а также предлагает ему занять субъектную позицию по отношению к ним. Таким образом, смысл здесь конструируется, а не обнаруживается.
Здесь приведен краткий обзор отношения к смыслу в разных психотерапевтических направлениях: психоанализе, гуманистическом подходе, КПТ, экзистенциальной терапии и нарративной практике. Сознательно из обзора была исключена гештальттерапия, поскольку, несмотря на ее философские истоки, она не работает с конструктом смысла, концентрируясь на специфически определяемом понятии феномена. Анализ приведенных направлений показывает, что независимо от истоков, современная психотерапия с разных сторон приходит к вопросам смысла, нарекая его краеугольным камнем психотерапевтического процесса, что еще раз доказывает основной тезис статьи: смысл есть базовая категория социогуманитарных наук.
Таким образом, можно выделить два базовых подхода к работе со смыслом: 1) поиск или конструирование смысла герменевтическими методами с помощью диалога, направленного на истолкование и интерпретацию; 2) поиск смысла феноменологическим методом, то есть через вчувствование. В не- которых подходах мы видим комбинацию данных методов. Важно отметить, что работа со смыслом есть особая социальная и личная практика, которая требует активности от субъекта. Главным же в консультировании остается вопрос, кто принимает решение о смысле: считать ли его адаптивным, конгруэнтным, полезным, истинным, предпочитаемым, большим или малым. Ведет ли терапевт клиента к смыслу или следует за ним? Ответ на этот вопрос позволяет увидеть, приближают ли описанные практики индивида к субъектности или, напротив, делают его объектом властных отношений, формируя субституты субъектности.
Список литературы Категория "смысл" в социогуманитарных науках, психологии и психотерапевтических практиках
- Бодрийяр 2015 - Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Постум, 2015.
- Большунов, Тюриков, Большунова 2019 - Большу-нов А.Я., Тюриков А.Г., Большунова С.А. Человек между смыслом и вздором (логико-семантический и психологический анализ сознания эпохи глобальных трансформаций) // Развитие человека в современном мире. 2019. №> 3. С. 87-103.
- Вайсман 1998 - Вайсман Ф. Людвиг Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М. : Дом интеллектуальной книги: Прогресс-Традиция, 1998. C. 44-69.
- Вебер 1990 - Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Вильянуэва web - Вильянуэва Э. Метафизическая свобода и рациональная философия [Epistemology & Philosophy of Science. 2010. Т. XXV №° 3] // https://cyberleninka.ru/article/ n/metafizicheskaya-svoboda-i-ratsionalnaya-filosofiya
- Витгенштейн 2010 - Витгенштейн Л. Культура и ценность. О достоверности. М.: АСТ: Астрель, 2010.
- Выготский 2004 - Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М.: Изд-во Смысл: Эксмо, 2004.
- Гаранян web - Гаранян Н.Г. Практические аспекты когнитивной психотерапии [Московский психотерапевтический журнал. 1996. N° 3] // https:// psyjournals.ru/files/25529/mpj_1996_n3_ Garanyan_Prakticheskie%20aspektu.pdf
- Гуссерль 2011 - Гуссерль Э. Логические исследования. В 2 т. Т. 1: Пролегомены к чистой логике. М.: Акад. проект, 2011.
- Декомб 2011 - Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица. М.: НЛО, 2011.
- Делез 2011 - Делез Ж. Логика смысла. М.: Акад. проект, 2011.
- Деррида 2007 - Деррида Ж. Позиции. М.: Акад. проект, 2007.
- Карнап 1959 - Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
- Кутузова 2011 - Кутузова Д. Введение в нарративную практику // Журнал практического психолога. 2011. №> 2. С. 23-41.
- Лакан 2004 - Лакан Ж. Семинары. Кн. XI. Четыре основных понятия психоанализа. М.: Гнозис, 2004.
- Леонтьев 1994 - Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из научного наследия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.
- Леонтьев 2007 - Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Мир, 2007.
- Лосев 1994 - Лосев А. Ф. Миф - Число - Сущность. М.: Мысль, 1994.
- Лэнгле 2004 - ЛэнглеА. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004.
- Лэнгле 2009 - Лэнгле А. Концепция смысла В. Фран-кла - вклад в психотерапию // Экзистенциальный анализ. 2009. №№ 1. С. 47-79.
- Межуев 2006 - Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2006.
- Роджерс 1994 - Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994.
- Рубинштейн 1927 - Рубинштейн М. М. О смысле жизни. В 2 ч. Ч. 1. Л.: Типолит. «Вестник Ленинградского Совета», 1927.
- Филатов 2014 - Филатов Ф.Р. Семиосфера психоанализа: постановка проблемы // Российский психологический журнал. 2014. Т. 11, №2 3. С. 83-92.
- Франкл 2004 - Франкл В. Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере. М.: Смысл, 2004.
- Фреге 2000 - Фреге Г. Логика и логическая семантика: сб. тр. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Фрейд 1923 - Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М.: Кн-во Современные проблемы, Н.А. Столяр, 1923.
- Хабермас 2010 - Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. М.: Праксис, 2010.
- Хайдеггер 2011 - Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Акад. проект, 2011.
- Чалмерс 2013 - ЧалмерсД. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. М.: УРСС: ЛИБ-РОКОМ, 2013.
- Шюц 2004 - Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
- Щедровицкий 2004 - Щедровицкий Г. П. На досках. Публичные лекции по философии Г.П. Щед-ровицкого. М.: Изд-во Шк. Культ. Полит., 2004.
- Batthyany, Russo-Netzler web - Batthyany A., Russo-Netzer P. Chapter 1 Psychologies of Meaning [Meaning in Positive and Existential Psychology. 2014. DOI: 10.1007/978-1-4939-0308-5_1] // https:// www.researchgate.net/publication/280050398_ Psychologies_of_Meaning
- Beck 2011 - Beck J.S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. N. Y.: The Guilford Press, 2011.
- Chakraborty 2016 - Chakraborty S. Wittgenstein and Husserl: Context Meaning Theory // Gauhati University Journal of Philosophy. 2016. Vol. 1, no. 1. P. 101-112.
- Drain 2018 - Drain C. Cognition, Activity and Content: N. Leontiev and the Enactive Origin "Of Ideal Reflective Content" // Epistemology & Philosophy of Science. 2018. Vol. 55, no. 3. P. 106-121.
- Durt, Fuchs, Tewes 2017 - Durt C., Fuchs T., Tewes C. Embodiment, Enaction, and Culture: Investigating the Constitution of the Shared World. Cambridge: MIT Press, 2017.
- Jesus web - Jesus P. Autopoietic Enactivism, Phenomenology and the Deep Continuity Between Life and Mind [Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2015. 15(2). DOI: 10.1007/ s11097-015-9414-2] // https://www.academia.edu/ 10452512/Autopoietic_Enactivism_Phenomenology_ and_the_Deep_Continuity_Between_Life_and_ Mind
- Kripke 1980 - Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.
- Kudesia web - Kudesia R.S. Organizational Sensemaking [Industrial and Organizational Psychology. 2017] // https://www.academia.edu/ 36443274/Organizational_Sensemaking
- Maturana, Varela 1980 - Maturana H., Varela F. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht: Kluwer, 1980.
- Maturana 2002 - Maturana H. Autopoiesis, Structural Coupling and Cognition: A History of These and Other Notions in Biology of Cognition // Cybernetics & Human Cnowing. 2002. Vol. 9, no. 3-4. P. 5-34.
- McDowell 1994 - McDowell J. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Overholser 1993 - Overholser J. C. Elements of the Socratic Method: II. Inductive Reasoning // Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1993. No. 30 (1). P. 75-85.
- Varela, Thompson, Rosch 1991 - Varela F.J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience.
- Cambridge: The MIT Press, 1991. Villalobos, Ward web - VillalobosM., WardD. Living Systems: Autonomy, Autopoiesis and Enaction. [Philosophy & Technology. 2013. No. 28(2). DOI: 10.1007/s13347-014-0154-y] // https:// www.academia.edu/35537995/Living_Systems_ Autonomy_Autopoiesis_and_Enaction
- Voros web - Voros S. The Autopoiesis of Peace Embodiment Compassion and the Selfless Self [Poligrafi. 2014] // https://www.dlib.si/details/ URNNBN: SI:DOC-S7XVOEOL
- Ward, Silverman, Villalobos web - WardD., Silverman D., Villalobos M. The Varieties of Enactivism [Topoi. 2017. No. 36 (1). DOI: 10.1007/s11245-017-9484-6] // https://www.researchgate.net/ publication/31635303 5_Introduction_The_ Varieties_of_Enactivism
- Wong web - Wong T.P. Meaning-Centred Counselling // https://www.academia.edu/783625/Meaning-centered_counseling