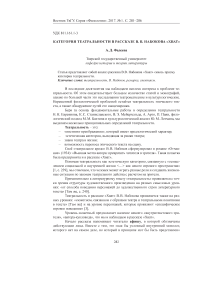Категория театральности в рассказе В. В. Набокова "Хват"
Автор: Фадеева Анна Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой анализ рассказа В.В. Набокова «Хват» сквозь призму категории театральности.
Театральность, в. набоков, ремарка, спектакль
Короткий адрес: https://sciup.org/146122003
IDR: 146122003 | УДК: 811.161.1-3
Текст научной статьи Категория театральности в рассказе В. В. Набокова "Хват"
В последние десятилетия мы наблюдаем всплеск интереса к проблеме театральности. Об этом свидетельствует большое количество статей и монографий, однако по большей части это исследования театроведческие и культурологические. Нерешенной филологической проблемой остаётся театральность эпического текста, а также обнаружение путей его инсценировки.
Беря за основу фундаментальные работы в определении театральности Н. Н. Евреинова, К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, А. Арто, П. Пави, филологический подход М. М. Бахтина и культурологический анализ Ю. М. Лотмана, мы выделяем несколько принципиальных определений театральности.
Театральность – это:
– «инстинкт преображения», который имеет предэстетический характер;
– эстетическая категория, выходящая за рамки театра;
– знаки театра в жизни;
– возможность переноса эпического текста на сцену.
Своё «театральное кредо» В. В. Набоков сформулировал в романе «Отчаяние» (1934): «Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя». Такая попытка была предпринята и в рассказе «Хват».
Понимая театральность как эстетическую категорию, связанную с «осмыслением социальной и внутренней жизни <…> как некого игрового пространства» [1, с. 239], мы отмечаем, что человек может играть разные роли и создавать жизненные ситуации по законам театрального действа с расчетом на зрителя.
Применительно к литературному тексту «театральность» проявляется с точки зрения структуры художественного произведения на разных смысловых уровнях: «от способа поведения персонажей до художественного строя литературного текста» [Там же, с. 240].
Театральность в рассказе «Хват» В. В. Набокова проявляется также на разных уровнях: «сюжетном, связанном с образами театра и театральными понятиями в тексте» [Там же] и на уровне персонажей, которые проявляют «специфическое игровое поведение» [3].
Уровень сюжетный предполагает наличие некоего «внутритекстового зрителя», «автора-кукловода», что мы и наблюдаем в рассказе «Хват».
Начало рассказа напоминает читателю афишу , в которой обозначены действующие лица. Вместе с тем, это «как бы условный внутренний монолог, которого нет на самом деле, но который в принципе мог бы быть представлен»
[9, с. 63]: «Наш чемодан тщательно изукрашен цветными наклейками, – Нюрнберг, Штутгарт, Кельн (и даже Лидо, но это подлог); у нас темное, в пурпурных жилках, лицо, черные подстриженные усы и волосатые ноздри; мы решаем, сопя, крестословицу. В отделении третьего класса мы одни, и посему нам скучно…» (здесь и далее рассказ В. В. Набокова цит. по: [4]). Неотделимость персонажа от автора подчёркнуто использованием местоимений мы, наш, нас , что не только подтверждает наличие «автора-кукловода», но и ограничивает действия актёров при инсценировке.
К примеру, в постановке 2004 года театра «У Никитских ворот» «голосом автора» наделена актриса, играющая Зонью Бергман, что автоматически сокращает количество актёров до двух. В постановке же 2014 года Артели Кузьмы Шампанского «введена фигура дво йника-суфлёра», что доказывает театральную природу последнего.
По ходу повествования в «афишу» вводятся ремарки, организующие мизансцены: «Поле. Дорога. Ёлки-палки. Домишко и огород. Поселяночка, ничего, молодая». Здесь происходит совпадение точек зрения повествователя и персонажа, «точка зрения повествователя последовательно скользит <…> от одной детали к другой – и уже самому читателю предоставляется возможность смонтировать эти отдельные описания в одну общую картину» [8, с. 104–105].
В постановке Марка Розовского 2004 года эта мизансцена проигрывается на воображаемом уровне. Актёр-Костенька будто смотрит в окно, многократно зевая, перечисляя увиденное, и вскакивает, крича «Поселяночка!..», что только подчёркивает его особенное восприятие окружающего мира и готовность забыть обо всём при виде женщины. В постановке Тараса Кузьмина эта мизансцена перенесена на уровень декораций: условные зарисовки на бумаге, которые актёр-Костенька сам перемещает в пространстве вагонного окна.
Вторым персонажем в «афише» является жена Константина – Катенька. Это персонаж внесценический , однако для описания используется довольно много деталей: «Катенька – тип хорошей жены. Лишена страстей, превосходно стряпает, моет каждое утро руки до плеч и не очень умна: потому не ревнива».
Вкраплениями в тексте возникают варианты расположения и игры актёров, декораций: «Шлагбаум, пакгаузы, большая станция» или «мусорный ящик, реклама, скамья», или «трое с газетами – а в углу, по диагонали, черноволосая напудренная дама» или «(и покачиваясь, и хлопая себя сзади по юбке сумкой» и т. д. Использование таких композиционных элементов текста (постановочные ремарки, указывающие на жесты, действия, декорации) является приметой категории театральности. Возможность переноса фрагментов рассказа, оформленных наподобие ремарки, на театральную сцену позволяет говорить о театральности в эпическом тексте.
Интересно, что в обеих постановках режиссёры отказываются от массовки, оставляя только главных героев, а некоторые декорации заменяют «проговариванием» прописанных в тексте мизансцен. Делается это потому, что на первый план выдвигается театральная природа главного персонажа, суть его поведения и восприятия жизни.
Здесь и начинается реализация категории театральности как «специфического игрового поведения». Главный герой рассказа – Костенька, как определяет словарь С. И. Ожегова, – «хват, бойкий, полный молодечества человек; то же, что и ловкач» [5, с. 863]. Костенька воспринимает окружающую обстановку наподобие театральной сцены, что подтверждается обилием театральной терминологии в его дискурсе. К примеру, описание Зоньи Бергман оформлено в качестве указания актёрам (ремарки): «Траурное выражение глаз, развратные губы. Первоклассные ноги. Искусственный шёлк» [4, с. 227]. Однако последующая рефлексия говорит о том, что описание дано именно с точки зрения Константина: «Что лучше: опытность интересной тридцатилетней брюнетки или глупая свежесть золотистой егозы?» Ремарка же продолжается: «Далее: сквозь желатин пальто – прекрасное обнаженное тело, – как наяда на жёлтую воду Рейна» Когда Константин описывает увиденное, он выступает в качестве режиссера. Иногда же, отказываясь от ответственности, он становится зрителем: «Не смотрит, но всё равно будем фиксировать», или «Корректные шутки и правильный глазомер – вот наш девиз», или «Какой хороший знак: она оправляет всякое место, на которое посмотришь».
Восприятие Константином жизни сквозь призму театральности доказывает и эпизод с переодеванием в крестьянку: «Я бежал, переодевшись крестьянкой. Из меня вышла в те годы очень недурная девочка». Во-первых, по П. Пави, переодевание – «изменение облика персонажа, есть признак театральности, театра в театре» [6, с. 225], во-вторых, в этом эпизоде только подтверждается Эдипов комплекс Костеньки (см. об этом: [7]).
С процессом переодевания сочетается приём масочности . Костенька называется себя «Влюблённым Геркулесом». «Влюблённый Геркулес» – опера Франческо Кавалли, которую он сочинил в честь брака Людовика XIV и Марии Терезии Испанской. Получается, что Костенька снова ощущает себя частью театрального действа.
Продажа зеркал в виде «фантази» также часть театрально маркированного мира. Они же возникают в эпизоде с размышлениями о любовных утехах: «Зеркала, вакханалия, пара шнапсов…» С помощью зеркала происходит смешение реального и ирреального пространств. Этот приём использовал и Тарас Кузьмин в своей постановке. Константин описывает Зонью Бергман, видя её через зеркало, это подтверждает, что он видит её в своём театрально маркированном пространстве.
В рассказе выделяется два театральных пространства, одно из которых существует только в сознании Костеньки, другое же косвенно выражено в роде занятий Зоньи Бергман: «Жить стало трудно, я получаю больше цветов, чем денег, и теперь я буду рада отдохнуть, а через месяц новый ангажемент».
В постановке Тараса Кузьмина пространство персонажа и пространство «двойника-суфлёра» разграничены кулисами. «Двойник» Костеньки периодически пытается попасть на сцену, вылезая из-за углов декораций или же выставляя таблички «Враньё», но Константин успешно выталкивает его обратно. Константин также не верит и Зонье. В момент знакомства он «про себя» произносит: «Всё врёт, родители, актёры, всё врёт, директор какой-то… всё врёт…» В квартире же Зоньи в тот момент, когда герой остаётся один, в окне возникает картонная фигура смерти, что символизирует не только приближающееся несчастье в реальном мире – смерть отца Зоньи. Это может означать и крушение театрального мира Константина: в спектакле главный герой и двойник меняются местами, и исполнитель главной роли – Кости – по замыслу режиссёра наделяется функциями двойника.
В постановке Марка Розовского реплики Константина и Зоньи смешиваются. Зонья будто предугадывает реплики Константина: «…подальше от этой…», тут вступает Константин: «…чепухи…». «Чепухи… – вторит Зонья. – Чепухи, болтовни… и… Иностранец, русский».
В постановке Розовского Зонья говорит и голосом автора: «Всегда подкладывает под себя во время своих плоских, твёрдых, геморроидальных поездок…» Герои не слышат друг друга, только делают вид, что слушают: Константин озабочен достижением своей цели, а Зонья вовсе поглощена посторонними мыслями. «Глухота» героев в итоге и приводит к крушению их миров.
Наиболее значимым в понимании категории театральности становится последний эпизод, который в постановке Тараса Кузьмина построен на «кратности, повторе – ритмическом и лексическом, – становясь в этом случае эквивалентом значения “мы все”» [7, с. 153]. Это отсылает к бахтинскому понимаю карнавала, участниками которого были все без исключения. Карнавальное мироощущение «освобождает мир от всего страшного и пугающего, делает его предельно нестрашным и потому предельно весёлым и светлым» [2, с. 55]. Поэтому-то актёр-Константин смеётся, произнося «Представляю, какой бы был скандал, если бы я ей доложил сразу после»: «Страх – это крайнее выражение односторонней и глупой серьёзности, побеждаемой смехом» [Там же]. Другими словами, «смеховое начало и карнавальное мироощущение <…> освобождают человеческое сознание, мысль и воображение для новых возможностей» [Там же, с. 58], освобождает от страха перед смертью.
В постановке театра «У Никитских ворот» «часть дискурса Костеньки передаётся актрисой, играющей Зоньей Бергман» [7, с. 153]. Интересно, что именно Зо-нья произносит «Мы умрём», «очевидно, такую реплику режиссёр не мог доверить герою-пошляку» [Там же].
Таким образом, признаками театральности в рассказе В.В. Набокова выступают: 1) использование композиционных элементов драматического текста; 2) мизансценирование отдельных эпизодов, напоминающее режиссёрскую партитуру пьесы; 3) театральный «мотивный комплекс» (мотивы масок, игры, двойников, перевоплощения); 4) использование возможностей визуальной и звуковой организации сцены для постановки в театре.
Список литературы Категория театральности в рассказе В. В. Набокова "Хват"
- Аликова Т. А. Театральность как стилевой принцип постмодернизма в романе Дж. Барнса «История мира в 10 ? главах»//Дергачёвские чтения -2011. Т. 3. Екатеринбург: Уральский ун-т, 2012. С. 239-243.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1965. 527 с.
- Лотман Ю. М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века//Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 269-286.
- Набоков В. В. Хват//Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991. С. 225-233.
- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Инфотех, 2009. 944 с.
- Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 504 с.
- Семёнова Н. В. Языковые маркеры авторской позиции в новелле В. Набокова «Хват»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 2. С. 149-153.
- Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 352 с.
- Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. 360 с.