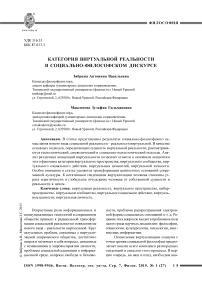Категория виртуальной реальности в социально-философском дискурсе
Автор: Зябрина Антонина Васильевна, Максютова Зульфия Гильмановна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (27), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты социально-философского осмысления нового вида социальной реальности - реальности виртуальной. В качестве основных подходов, определяющих сущность виртуальной реальности, рассматриваются технологический, символический и социально-психологический подходы. Анализ различных концепций виртуальности позволяет отнести к основным концептам этого феномена категории виртуального пространства, виртуального сообщества, виртуального социального действия, виртуальных ценностей, виртуальной личности. Особое внимание в статье уделяется трансформации ценностных оснований современной культуры. К негативным тенденциям виртуализации человека отнесены утрата идентичности и глобальное отчуждение человека от собственной сущности и реальности в целом.
Виртуальная реальность, виртуальное пространство, киберпространство, виртуальное сообщество, виртуальное социальное действие, виртуальные ценности, виртуальная личность
Короткий адрес: https://sciup.org/14974692
IDR: 14974692 | УДК: 316.33
Текст научной статьи Категория виртуальной реальности в социально-философском дискурсе
Возрастание роли информационных и коммуникативных технологий в современном обществе привело к радикальной трансформации социальной реальности и появлению ее нового вида – реальности виртуальной. Круг актуальных проблем, связанных с виртуализацией современного общества, достаточно широк и включает в себя вопросы, связанные с изменениями в мировосприятии личности, проблемы социальной адаптации в информационной среде, вопросы свободы и безопас- ности, проблемы распространения электронной формы социальных отношений и т. д. Решение этих вопросов входит в проблемное поле целого ряда научных дисциплин: философии, социологии, культурологии, психологии, лингвистики, информатики.
Осмысление виртуализации социума с точки зрения социальной философии предполагает анализ всего комплекса разнородных тенденций и смыслов этого процесса. В первую очередь, на наш взгляд, необходим ана- лиз различных понятий и категорий (таких как «виртуальная реальность», «виртуальное пространство», «виртуальное сообщество», «виртуальное социальное действие», «виртуальные ценности»), связанных с темой виртуальности, однако не имеющих до сих пор однозначного толкования и употребляемых порой в различных смыслах.
Необходимо отметить, что представления о виртуальной реальности как об особом мире, отличающемся от обычной реальности, которая доступна внешнему восприятию, имеют длительную историю осмысления и уходят в нее глубоко. Вечная мечта человека, связанная с избавлением от телесности и преодолением границ естественного природного мира ярко проявляет себя уже на уровне мифологического осмысления бытия. Анализ мифотворчества в архаической культуре показывает, что идеи виртуальности и виртуализации тесно связаны с сущностью мифа как универсального способа конструирования реальности.
Как отмечает А.Я. Флиер, понятие «виртуальная реальность» фигурирует в литературе по крайней мере со времен Средневековья: именно тогда в результате переосмысления учений Платона и Аристотеля происходит фиксация определенной связи (посредством virtus) между реальностями [8, с. 12]. Автор указывает на то, что генетически виртуальная реальность не имеет никакого отношения к компьютерным технологиям и основными формами ее воссоздания являются манипуляция предметами, не имеющими места в реальности – псевдовещами, симулякрами; псевдоманипуляция (игра) с какими угодно объектами или производство действий, лишь имитирующих реальность; выстраивание сюжетного повествования, заведомо выдуманного или не имеющего убедительного подтверждения своей подлинности (мифотворчество и вся последующая литература) [там же, с. 13]. В результате А.Я. Флиер определяет виртуальную реальность не как нечто новое, «сочиненное компьютерами», а как изобретенный культурой новый канал воспроизводства мифологического мира.
В русле феноменологической трактовки социальной реальности Б.С. Свиринов рассматривает реальность виртуальную. С этой точки зрения автор определяет виртуальность как постоянный элемент социальной системы, «социальную квазиреальность», наряду с идеологией, мифами, психосубъективными состояниями [7, с. 44]. Исследователь отмечает, что, с одной стороны, существование подобных квазиреальностей предоставляет человеку различные возможности социальной адаптации, а с другой – повышает опасность воздействия на личность с помощью манипуляционных технологий.
Еще одним вектором изучения виртуальной реальности является онтологическое направление, представители которого исследуют те характеристики виртуальной среды, которые свидетельствуют о ее укорененности не только в психике человека, но и в физическом универсуме в виде виртуальных перемещений, виртуального кода, виртуальных частиц и т. д. [10, с. 27]. Эта точка зрения противоположна мнению, согласно которому виртуальная реальность есть реальность иллюзорная и не обладает статусом бытия. Думается, что наиболее продуктивным с точки зрения выявления сущности виртуальной реальности выступает рассмотрение этого феномена как иного вида бытия, отличного от бытия материального. Безусловно, онтологи-зация виртуальности связана не с объективацией ее в существующей реальности, а с существованием субъективного бытия, главным условием которого выступает жизнь человека в физической реальности. Однако необходимо отметить, что именно с помощью виртуальной реальности человек пытается преодолеть границы своей телесности, конструируя «нового себя», уже не имеющего характеристик рождения и смерти.
Обобщая множество идей и концепций, существующих в современной социальной философии по поводу виртуальности, А.А. За-моркин говорит о нескольких сложившихся в настоящее время подходах к определению виртуальной реальности:
– технологическом, или инженерно-семиотическом, подходе (сторонниками являются Ф. Хэмит, М. Хайм, В.М. Розин), в котором виртуальная реальность (нереальность) рассматривается как особый вид символических реальностей, возникающих на базе компьютерной и некомпьютерной техники, а осново- полагающим фактором становления и развития киберреальности является виртуальная коммуникация;
– символическом подходе (Н.А. Носов, Б.С. Свиринов, И.Г. Корсунцев и др.), утверждающем, что любая социальная реальность несет в себе элементы виртуального, так как воспринимается через символы и знаки, наделяющие реальные объекты дополнительными смыслами;
– социально-психологическом подходе, сформированном в рамках постмодернизма и утверждающем, что виртуальная реальность формируется в процессе создания социальной действительности на основе какой-либо философской концепции (А. Крокер, П. Верильо) [2, с. 41].
Еще одним понятием, часто использующимся по отношению к виртуальности, является понятие «виртуального пространства». Необходимо отметить, что в контексте данного исследования виртуальное пространство рассматривается не как синоним, а как атрибут виртуальной реальности. Пространство и время в виртуальной реальности существенным образом трансформируются: локализация человека в этих условиях теряет свое историческое, географическое и культурное значение. Киберпространство не содержит в себе многие ограничения материального мира, позволяя человеку быть отражением собственного разума, который способен в мгновение преодолевать огромные расстояния и иметь доступ к огромному информационному пласту.
Интересным представляется вопрос о проявлении таких свойств реального пространства, как протяженность, сосуществование различных объектов, трехмерность в виртуальном пространстве. С одной стороны, свойства виртуального пространства отражают основные параметры пространства реального и имеют собственные границы, заданные разработчиком конкретной программы. С другой стороны, взаимопроникновение индивидуального сознания и множественных виртуальных миров приводит к появлению пространства некоей виртуальной «над-реальности», свойства которой не сводятся к сумме свойств, составляющих ее программ.
При этом при создании виртуальных миров эффект участия и интерактивности среды достигается целым рядом специальных приемов, позволяющих ощутить «дружественность» виртуальной среды: например, увеличение объектов по мере наведения курсора на определенную область создает ощущение визуальной вовлеченности в виртуальные процессы; использование пространственной терминологии (выходить, заходить, назад, добавить).
К особой группе относятся те категории, которые описывают социальную составляющую Интернета, – категории «интернет-сообщество», «виртуальное сообщество», «киберсоциум». Разнообразные виртуальные сообщества, формируемые в Сети, раскрывают перед человеком множество возможностей для самоидентификации, самопрезентации и самореализации, причем удовлетворение этих потребностей в виртуальном мире значительно превышает возможности реальной социальной среды. В современных исследованиях отмечается, что зачастую виртуальные сообщества выступают неким «пространством внутренней эмиграции» [3, с. 19], которое не имеет места в реальном социуме.
Социальные сети, являясь основной платформой для возникновения виртуальных сообществ, существенно меняют принципы, на которых основывается социальная структура. Как правило, в виртуальной реальности отсутствуют основополагающие критерии социальной стратификации: классовая и профессиональная принадлежность, имущественные различия, уровень образования. В качестве объединяющих начал для таких сообществ могут выступать случайные и не имеющие особой значимости в реальном мире факторы, например негативное отношение к безграмотности (так называемые «граммар-наци»), общие музыкальные пристрастия, общая марка автомобиля и др. Эти факторы, с одной стороны, обусловливают мобильность и неустойчивость виртуальных сообществ, а с другой – позволяют прибрести такие социальные связи, которых человек мог быть лишен в реальности в силу пространственных и социальных ограничений.
Возникающие в виртуальном пространстве формы коммуникации порожда- ют специфическую систему социальных действий – «виртуальные социальные действия». К признакам виртуального социального действия, по мнению А.А. Мищери-кова, можно отнести отсутствие времени и пространства; увеличение объема и качественного наполнения информационных потоков; дигитализацию коммуникации; отсутствие социальной дифференциации; конвергенцию общественных отношений [6, с. 53]. Еще одним аспектом, который требует социально-философского осмысления, является анализ той сферы социальной активности, которая проявляется в виде различных виртуальных социальных действий, но не находит выхода в реальный мир. В этом случае возникает проблема: возможна ли вообще подобная, замкнутая в виртуальном пространстве, социальная активность или же выход ее в социальную действительность осуществим в будущем?
Необходимо отметить, что ключевым направлением исследования виртуального социального действия с точки зрения социальной философии выступает изучение связи виртуального социального действия с реальным социальным действием, а также анализ реальных социальных последствий виртуальных отношений.
Безусловно, важным вектором исследования виртуальной реальности является и осмысление ценностных трансформаций, происходящих в современной культуре. Изменение культурных ценностей и норм приводит также к деиерархизации культуры, отсутствию в виртуальных мирах критериев деления культуры на элитарную и массовую. Мозаичность и неопределенность виртуальной реальности находит свое выражение в разрушении внутренней целостности культуры, основанной на определенной иерархии ценностей.
Расширение виртуального пространства, включение в него новых и новых областей человеческой деятельности (экономики, политики, сфер образования и искусства) приводят к значительным изменениям в области традиционной рациональности, основанной на вере в социальный порядок, устойчивость социальных отношений, ценность времени и трудовой деятельности человека.
В этих условиях происходят виртуализация традиционных ценностей и появление их виртуальных аналогов. На первое место выходит ценность информации и мгновенного доступа к ней, так как в условиях виртуальной реальности именно информация становится источником преобразования и существования бытия.
Развитие информационно-коммуникативных технологий существенно меняют такую ценность, как свобода личности. С одной стороны, человек, выходя за границы телесности, времени и пространства, получая неограниченный доступ к информационному полю, становится свободным, как никогда ранее. С другой стороны, именно виртуальная реальность порождает новые технологии дистанционного воздействия на сознание человека и условия манипулирования им.
Значительно трансформируется ценность личного общения: на смену ему приходят многочисленные безличные связи в Сети, заменяющие собой реальные отношения. Одним их наиболее ярких примеров такого воздействия виртуальной реальности на реальность социальную является виртуализация современного образовательного процесса. Новые формы и практики, появляющиеся благодаря информационно-коммуникативным технологиям, меняют сущность образования, традиционно основывающуюся на коммуникации учителя и ученика. Интерактивные технологии, дистанционное обучение, появление образовательных порталов формируют виртуальную образовательную среду, наполнение которой зависит от самого человека.
Таким образом, важнейшим направлением социально-философского осмысления виртуальной реальности выступает исследование проблем взаимопроникновения человека и виртуального пространства. В современных условиях виртуальная реальность становится фактором подлинной экзистенции человека, его социализации и реализации в мире. Будучи по природе воплощением мира идеального, виртуальная реальность, овладевая человеком, становится внутренним источником его социальной активности.
В связи с этим в современных исследованиях выработана новая типология личнос- ти, основанная на вовлеченности субъекта в поле виртуальной реальности:
– личность как активный субъект социальных отношений;
– личность, реализующая ценности виртуальной реальности вопреки всему;
– личность, пренебрегающая актуальной реальностью в пользу виртуальной [9].
Безусловно, становление и все более независимое от реального мира существование виртуальной реальности вызвано глубинными трансформациями современного социума. Написав об утрате реальности в нашу эпоху, Ж. Бодрийяр констатирует ситуацию завершения овеществления общества. Утрата реальности в концепции Ж. Бодрийяра – это утрата различения знака – образа и референта – реальности. Рассмотрение подобным образом виртуальной реальности предполагает взаимодействие человека не с вещами, а с симуляциями. Общение в пространстве Интернета привлекательно своей обезличенностью, а еще более – возможностью конструировать и трансформировать «виртуальную личность» [4].
Как отмечалось ранее, в виртуальности трансформируются и способы идентификации человека. В рамках постмодерна реализуется идентификационная стратегия, ориентированная на возникновение множественной идентичности, где идентичность человека возможна только как симуляция, а Я замещается «Я-формой» (Ж. Делез), представляющей собой безличностный фокус сингулярности, производный от дискурсионных практик и симуляционных процессов массмедийной культуры. Симуляция реального мира в пространстве виртуальной реальности приводит к деперсонализации, порождает виртуальный опыт, который не имеет собственной антропологической размерности. Таким образом, на смену идентификации, основанной на гендерных и этнических признаках, на статусной дифференциации, приходит так называемая проектная идентификация, которая является выборной, а не наследуемой.
По мнению Д. А. Беляева, виртуальное пространство, трансформируя человеческую природу, формирует новый вид человека, так называемого Homo Virtualis, или «информационно-цифровую единицу» [1, с. 69]. Таким образом, автор фиксирует не только глубокую вовлеченность Homo Virtualis в пространство виртуальной реальности, где виртуальная личность реализует индивидуально и культурно значимые поведенческие стратегии, но и говорит о существенной трансформации ценностного измерения человека, его деантрополо-гизации. По мнению исследователя, в настоящее время Homo Virtualis обретает новое понимание свободы и новые возможности ее практической реализации. Способности виртуальной личности становятся практически неограниченными, обеспечивая возможность в том числе обратимости любых действий и событий через функцию «reload» («перезагрузка») или «delete» («удалить»). Homo Virtualis способен «перезагрузить» любой локальный игровой нарратив и «переиграть», то есть фактически «перепрожить» любой эпизод виртуальной жизни. В этом случае даже смерть превращается лишь в неприятный, но вполне исправимый с помощью «перезагрузки» эпизод жизни пост(сверх)человека.
Нарушение диалектического единства жизни и смерти, порожденное виртуальной реальностью, ведет к радикальному переосмыслению онтологических, аксиологических, социальных условий существования человека. В условиях множественной (размытой) идентичности, потери телесности, оторванности от целостности мира у человека формируется ощущение неподлинности своего бытия.
Таким образом, анализ социального и антропологического измерения виртуальной реальности показывает, что радикальные изменения, происходящие в современном социуме на фоне развития информационно-кому-никационных технологий, позволяют говорить о серьезной опасности глобального отчуждения человека не только от другого человека, но и от собственной сущности и от реальности в целом.
В работах М. Хайма отмечается, что классическая и средневековая философия предлагала человеку некие центры притяжения, которые удерживали его в «реальной реальности»: такими центрами могли выступать опыт, опирающийся на постоянные свойства, или всемогущий и неизменный Бог [11, с. 29]. В современном флуктуирующем, постоянно изменяющемся мире подобные универсаль- ные константы отсутствуют, однако потребность в метафизической устойчивости реальности существует.
В этих условиях думается, что одной из основных задач современных социально-философских исследований является не только глубокий анализ процессов виртуализации социальной реальности и человека, но и поиск своеобразных «якорей реальности» (термин М. Хайма), определяющих пределы и границы виртуальной реальности.
Список литературы Категория виртуальной реальности в социально-философском дискурсе
- Беляев, Д. А. Виртуальное бытие пост(сверх)человека/Д. А. Беляев//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2012. -№ 3. -С. 68-73.
- Заморкин, А. А. Социально-философские подходы к изучению феномена виртуальной коммуникации/А. А. Заморкин//Теория и практика общественного развития. -2014. -№ 1. -С. 40-43.
- Кравцов, Ю. С. Образование в процессе становления киберсоциума/Ю. С. Кравцов//Теория и практика общественного развития. -2014. -Вып. 4. -С. 18-21.
- Максютова, З. Г. Личность в поисках смысла: между реальностью и виртуальностью/З. Г. Максютова//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2014. -№ 12. -С. 77-79.
- Малышко, А. А. Философские проблемы виртуальной реальности (историко-философский анализ): автореф. дис. … канд. филос. наук/Малышко Александр Алексеевич. -Мурманск, 2008. -22 с.
- Мищериков, А. А. Виртуальное социальное действие как форма социальной коммуникации информационного общества/А. А. Мищериков//Общество: философия, история, культура. -2011. -№ 1/2. -С. 53-55.
- Свиринов, Б. С. Социальная квазиреальность или виртуальная реальность?/Б. С. Свиринов//Социологические исследования. -2003. -№ 1. -С. 39-44.
- Флиер, А. Я. Культура как виртуальная реальность/А. Я. Флиер//Вестник МГУКИ. -2006. -Т. 4. -С. 12-16.
- Хазиева, Н. О. Виртуальная реальность как пространство социализации (социально-философский анализ проблемы): автореф. дис. … канд. филос. наук/Хазиева Наталия Олеговна. -Казань, 2014. -19 с.
- Шипицин, А. И. Компьютерные социальные сети в контексте виртуализации современной культуры: дис.... канд. филос. наук/Шипицин Антон Игоревич. -Волгоград, 2014. -161 с.
- Heim, M. The Metaphysics of Virtual Reality/M. Heim//Virtual Reality: Theory, Practice and Promise/ed. by S. K. Helsel, J. P. R. Meckler. -Westport; L., 1991. -P. 27-33.