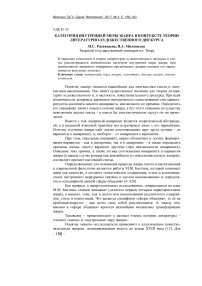Категория внутренней меры жанра в контексте теории литературно-художественного дискурса
Автор: Разницына Наталия Сергеевна, Миловидов Виктор Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В терминах семиотики и теории литературно-художественного дискурса в статье рассматривается динамическая категория внутренней меры жанра; при неизменности жанрового инварианта прозаических жанров основой его вариативности выступает контекст.
Внутренняя мера жанра, семиотика, дискурс-анализ, текст, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/146278347
IDR: 146278347 | УДК: 81`42
Текст научной статьи Категория внутренней меры жанра в контексте теории литературно-художественного дискурса
Понятие «жанр» является важнейшим для лингвистики текста и лингвистики высказывания. Оно имеет существенное значение для теории литературно-художественного и, в частности, повествовательного дискурса. При всей изменчивости жанровых вариантов прозаического повествования они характеризуются наличием некоего инварианта, неизменного во времени. Определить его специфику значит описать основы жанра, а без этого описания по существу невозможен анализ текста – в каком бы лингвистическом «цеху» он ни проводился.
Вместе с тем, жанровый инвариант является теоретической абстракцией, а в реальной языковой практике мы встречаемся лишь с его вариантами. Поэтому изучение жанра идёт двумя дополняющими друг друга путями – от вариантов к инварианту, и, наоборот – от инварианта к вариантам.
При этом, определив инвариант, важно обозначить и логику формирования вариантов – как в синхронии, так и в диахронии, – а также определить причины смены одного варианта другими (при неизменности инварианта). Описание этих причин, а также логика соотношения инварианта и вариантов жанра (в нашем случае романа как важнейшего из повествовательных жанров), составляет предмет настоящей статьи.
Определяющими для понимания природы жанра текста и высказывания в современной филологии являются работы М.М. Бахтина, который понимает жанр как единство, в котором «тематическое содержание, стиль и композиционное построение» неразрывно связаны в «целом высказывании» и определяются «спецификой данной сферы общения» [4: 428].
Как правило, в жанрологических исследованиях, опирающихся на идеи М.М. Бахтина, главное внимание уделяется первым четырем характеристикам жанра, а именно, тому, как в целостном высказывании реализуются содержание, стиль и композиция. Что касается специфики «сферы общения», то её не проблематизируют – как нечто само собой разумеющееся. А, между тем, именно в «сфере общения» кроются важнейшие механизмы трансформации жанра.
Таковыми – применительно к разным этапам истории литературы – считают «канон» и «внутреннюю меру жанра».
Понятие «канон» исследователи применяют к классическим повествовательным жанрам, доминировавшим вплоть до конца XVIII века [12]. Для - 156 - описания повествовательных форм, возникших в более поздние эпохи, когда утверждаются так называемые неканонические жанры, и, прежде всего, роман, возникла необходимость в формировании иного теоретического конструкта, который позволил бы выявить инвариант жанровой структуры в условиях динамического разнообразия её вариантов. Таким конструктом стало понятие «внутренняя мера жанра». Несмотря на то, что данным понятием оперируют в основном литературоведы, осмысление его средствами лингвистики и семиотики крайне важно для построения картины литературно-художественного (повествовательного) дискурса в жанровом аспекте.
В научный обиход понятие «внутренняя мера жанра», применительно к неканоническим жанрам, было введено Н.Д. Тамарченко как «аналогичное по своему предмету и функции понятию “канон”» [12: 97]. Внутренняя мера, пишет исследователь, «… не является готовой структурной схемой, реализуемой в любом произведении данного жанра, а может быть лишь логически реконструирована на основе сравнительного анализа ряда произведений» [цит. раб.: 97]. То есть, если в каноническом жанре структура жанра репродуцируется, выявляется путём повторения одних и тех же актантно-нарративных схем, то в неканоническом жанре, каждый вариант которого есть результат преодоления канона, внутренняя мера есть динамический механизм данного преодоления -его и нужно описать, чтобы судить о жанрах повествовательной литературы. «Таким образом, - пишут современные исследователи, - понятие “внутренняя мера жанра” фиксирует не образец воспроизведения, а образец выбора; не набор обязательных признаков, а принцип конструирования художественной структуры на основе полемики с предшествующей жанровой традицией и с учётом “жанровой памяти” гипотетического и реального читателя» [1: 40].
Это принципиально важно для лингвистики жанра. Литературоведение, в основном, стремится рассматривать жанр в его имманентных характеристиках, в отрыве от «ситуации общения», от контекста. Так, Н.Д. Тамарченко, выявляя внутреннюю меру рассказа (имеется в виду чеховский «Студент») как повествовательного жанра, описывает её как «открытую ситуацию читательского выбора между “анекдотическим” истолкованием всего рассказанного как странного, парадоксального случая и притчевым его восприятием как примера временного отступления от всеобщего закона и последующего внутреннего слияния с ним. По-видимому, такая двойственность и незавершенность характеризует вообще смысловую структуру рассказа как жанра» [13: 40]. И хотя этой ёмкой характеристикой внутренней меры жанра рассказа подразумевается жанровая структура и иных синхронных и диахронных вариантов жанра, последние даны здесь лишь на уровне импликатур. Тем более, не определяется та побудительная сила, которая заставляет жанр эволюционировать - создавать новые варианты при неизменности характеристик внутренней формы.
Современная лингвистика может описать эту силу - как это, собственно, и предполагает классическое определение, данное М.М. Бахтиным, т.е., увидеть во внутренней мере жанра функцию как самого текста, так и контекста - понимаемого в широком смысле как система норм, конвенций, принципов, представлений и традиций, закреплённых в культуре (формально - в текстах культуры).
А поскольку механизм формирования внутренней меры есть механизм динамический, логично в данном случае обратиться к методике дискурс-анализа, ведь мы имеем дело с «анализом дискурса как динамического процесса - в противовес анализу текста как статического результата процессов, протекающих в культуре» [10: 7]. И если говорить об определяющей для понятий «жанр» и его «внутренняя мера» категории «сфера общения», то готовый для рассмотрения данной проблематики контекст уже подготовлен теорией дискурса.
Определяя дискурс, вслед за Н.Д. Арутюновой, как «речь, погруженную в жизнь» [2: 136–137], мы предполагаем, что не менее важным для анализа проблемы жанра становится не только «тело текста», но и контекст, т.е. та историческая и культурная среда, в которой оно находится. Контекст же, включающий в свою структуру коммуникантов и всё, что определяет их коммуникативные интенции, относится к компетенции прагматики дискурса. И, поскольку все три уровня семиозиса (прагматика, синтактика, семантика) системно взаимосвязаны, анализ прагматического уровня повествовательного дискурса раскроет и прочие его уровни.
Для анализа прагматики литературно-художественного дискурса релевантным является понятие литературного процесса, т.е. диахронически выстроенной системы отношений между теми, кто, как иронически писал в «Пёстрых письмах» М.Е. Салтыков-Щедрин, «пописывает» и «почитывает», т.е. между креатором и рецептором литературно-художественных тестов. В реальной практике литературно-художественного процесса данные роли (актантные позиции) во временной перспективе взаимообратимы (рецептор, осуществив рецепцию предшествующей ему хронологически литературной продукции, становится - на новом витке развития литературно-художественного процесса - креатором), и прагматика литературно-художественного дискурса обязана учитывать это обстоятельство.
Динамика прагматического вектора литературно-художественного дискурса в широкой исторической ретроспективе, имеющая прямое отношение к проблеме внутренней меры жанра, описана в структурной поэтике Ю.М. Лотмана как преемственность двух обширных макроструктур литературного процесса - эстетики «тождества» и эстетики «противопоставления» [8: 226-227]. Первый тип эстетики утвердился в литературе доромантической эпохи. В соответствии с этим эстетическим каноном автор, создающий новое произведение, стремится как можно более точно воспроизвести традиционную систему базовых кодов искусства, допуская незначительную вариативность в их употреблении (так проявляется его авторская оригинальность). В эпизодах литературного процесса, где господствует «эстетика противопоставления», утвердившаяся в постромантическую эпоху, креатор полемизирует с существующими канонами, противопоставляя им свое произведение. Фактически, история литературы нового времени и есть история данной полемики - более радикальной и резкой в моменты смены эстетических систем и менее - в периоды относительной стабильности художественной системы.
Внутренняя мера жанра есть «динамическое соотношение полярных свойств в каждом из важнейших параметров художественного целого» [1: 40], а потому наиболее отчётливо её характеристики могут быть выявлены именно - 158 - в моменты смены эстетических систем и, применительно к повествовательному дискурсу, в период смены нарративных традиций.
К таковым можно отнести рубеж XVII–XIX веков в европейской литературе, когда на смену просветительской литературе, основанной на культе разума и здравого смысла, приходит литература сентиментализма, ставшая литературным референтом философии иррационализма. Этот масштабный сдвиг, формирующий прагматическую основу динамики литературнохудожественного дискурса и, в частности, изменение динамического соотношения составляющих жанра (внутренней меры), в том числе, романа, подробнейшим образом описан в историко-литературных трудах, где подробно анализируется исторический, философский, литературный и прочие контексты, обусловливавшие эволюцию жанра романа в английской литературе той поры [6]. Реализуется же этот сдвиг в принципиальной трансформации внутренней меры жанра романа, изменении её содержательной конфигурации – при неизменности конфигурации структурной. С историко-литературной точки зрения эта трансформация может быть описана как смена просветительского романа сентиментальным.
Тематический план просветительского романа воспитания (в терминологии теории дискурса – макропропозиция, the discourse topic [14: 71]) в его классической форме – может быть рассмотрен на примере романов Г. Филдинга и, в частности, романа «История приключений Тома Джонса, найдёныша» (1748). Роман повествует о формировании идеальной личности, основу которой составляет «доброе сердце» [7: 65–80], и данная макропропозиция реализуется в сюжете столкновения протагониста (актанта) с рядом персонажей и ситуаций (сирконстантов), в разной степени противополагающихся актанту наррации, т.е., самому Тому Джонсу (Блайфил, сквайр Вестерн, Софья Вестерн, мисс Бриджетт и т.д.).
Сюжет в филологической нарратологии осмысливается как цепь событий (событие как «перемещение персонажа через границу семантического поля» [9: 282]), в основе каждого из которых лежит мотив как предикативная структура (о предикативности как основе мотива, являющегося основным элементом сюжета, см.: [11: 10–12]). Система мотивов (сюжет) есть – по аналогии с макропропозицией – полипредикативная конструкция, в рамках которой актант и сирконстанты вступают в различные отношения, выраженные разнообразными предикатами, отличающимися друг от друга и семантически, и структурной выраженностью.
Базовый для просветительского романа воспитания мотив и базовое, связанное с данным мотивом, событие, которое дает нарратору толчок в развитии рационалистически выверенной, умопостигаемой картины бытия, – рождение героя. Герой (субъект) как актант наррации рождается (предикат) – с тем, чтобы, пройдя предопределённую актуальной для писателя-просветителя рационалистической картиной мира цепь событий, вступая в предикативные отношения с валентностно адекватными сирконстантами, доказать валидность тематического посыла, заявленного в макропропозиции. При этом повествование (сюжет как реализованная средствами композиции фабула) разворачивается параллельно рассказываемой истории.
Такова нарративная конструкция просветительского романа, основанная на той внутренней мере, которая сформировалась к середине XVIII века.
Сентименталистский роман Л. Стерна, пришедший на смену роману просветительскому и ставший формой полемики [5: 103] с последним, основан на совершенно иной прагматике, которой будут соответствовать и иные формы сюжетно-композиционной организации – при сохранении структуры внутренней меры жанра.
Стерн разрушает нарративные схемы романа воспитания, временные рамки взросления и становления героя, который часто не участвует в эпизодах и практически не произносит ни слова за все девять томов романа.
При постепенном развёртывании текста в «Тристраме Шенди» читатель сталкивается с нарушением того типа повествования, которое он ожидал увидеть, беря в руки роман нравоописательного типа («жанровые ожидания» читателя как элемент контекста). Так, уже в начале виден пример разрушения привычной для просветительского романа воспитания нарративной схемы, её инверсия: герой становится объектом наррации ещё до момента своего появления на свет – описание жизни героя начинается с его зачатия, и несколько томов главный герой в романе не присутствует как полноценный персонаж. Иными словами, предикат не следует за актантом, как положено в классическом повествовании, а предшествует ему. На синтактическом уровне это реализуется как нарушение нормальных валентностных связей субъекта и предиката, на семантическом (макропропозиция) – как утверждение иррациональной, абсурдной картины бытия, недоступной для рационализации.
Таким образом, при вариативности наполнения отдельных уровней жанровой структуры, внутренняя мера жанра демонстрирует неизменность самого принципа их соположения: при содержательном изменении одного из уровней видоизменяются прочие уровни, и это, с одной стороны, доказывает динамический характер внутренней меры жанра, а, с другой, делает её отличным инструментом изучения эволюции повествовательных жанров, которая составляет суть и нерв динамики повествовательного дискурса в широкой исторической перспективе.
Список литературы Категория внутренней меры жанра в контексте теории литературно-художественного дискурса
- Артемова С.Ю., Миловидов В.А. Внутренняя мера жанра//Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Издательство Кулагиной Intrada, 2008. С.40-41.
- Арутюнова Н.Д. Дискурс//ЛЭС. М.: Советская энциклопедия, 1990. C. 136-137.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: «Худож. лит.», 1975. 504 с.
- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров//Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: «Художественная литература», 1986, С. 428-472.
- Дешковец Н.В. Магистральная эволюция романов Лоренса Стерна: от барокко к рококо//Серия «Symposium», Барокко и классицизм в истории мировой культуры. Вып. 17/Материалы междунар. науч. конф. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 103-105.
- Елистратова А.А. Английский роман эпохи Просвещение. М.: Наука, 1966. 476 с.
- Елистратова А.А. Филдинг. Критико-биографический очерк. М.: Издательство художественной литературы, 1954. 100 с.
- Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике//Ю.М. Лотман и Тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 11-264.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: «Искусство», 1970. 384 с.
- Миловидов В.А. Семиотика литературно-художественного дискурса: монография. М.: Буки Веди, 2016. 172 с.
- Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования. Новосибирск: ИДМИ, 2001. 235 с.
- Тамарченко Н.Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века//Теория литературы: в 4 т. Т.3: Роды и жанры (Основные проблемы в историческом освещении). М.: Ин-т мировой литературы РАН, 2003. С. 81-98.
- Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века: проблемы поэтики сюжета и жанра. М.: М.: Intrada, 2007. 256 с.
- Brown G., Yule G. Discourse Analysis. -Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 283 p.