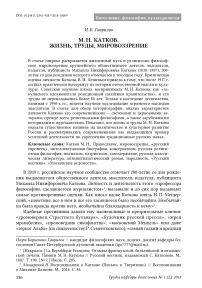Катков. Жизнь, труды, мировоззрение
Автор: Гаврилов Игорь Борисович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Богословие, философия, культурология
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье широко раскрывается жизненный путь и религиозно-философское мировоззрение крупнейшего общественного деятеля, мыслителя, издателя, публициста Михаила Никифоровича Каткова (1818-1887), 200-летие со дня рождения которого отмечается в текущем году. Критическая оценка личности Каткова В. И. Лениным привела к тому, что после 1917 г. он был практически вычеркнут из истории отечественной мысли и культуры. Советская научная школа воспринимала М. Н. Каткова как «закулисного вдохновителя реакционной политики правительства», и его труды не переиздавались более 80 лет. Только в последние десятилетия, начиная с 1990-х гг., ведется научное исследование огромного наследия мыслителя. В статье дан обзор историографии, анализ характеристик личности Каткова его современниками - светскими и церковными авторами, прежде всего религиозными философами, а также зарубежными историками и журналистами. Показано, что жизнь и труды М. Н. Каткова оказали существенное влияние на политическое и культурное развитие России и рассматривались современниками как выдающийся пример успешной деятельности по укреплению традиционных русских начал.
Катков м. н, православие, мировоззрение, "русский европеец", интеллектуальная биография, консерватизм, русская религиозная философия, нигилизм, патриотизм, самодержавие, русская классическая литература, антинигилистический роман, народность, "русский вестник", "московские ведомости"
Короткий адрес: https://sciup.org/140294168
IDR: 140294168 | DOI: 10.24411/2541-9587-2018-10009
Текст научной статьи Катков. Жизнь, труды, мировоззрение
человек на Руси» (из письма И. С. Тургенева А. А. Фету, 1874 г.); «лейб-гоф-обер-журналист» (А. В. Никитенко); «полицейский содержатель публичного листа в Москве» и «публичный мужчина всея Руси» (А. И. Герцен). Историк-западник Б. Н. Чичерин оценивал деятельность Каткова как «грязный союз наглого журналиста с беззастенчивой властью». Другой представитель либерального лагеря историк П. В. Долгоруков так характеризовал ненавистного публициста: «Вечно беснующийся Катков, которому непременно нужно вечно лаять и всегда кого-нибудь кусать, который в своих наездах всегда идет далее самого даже правительства и всякого, кто не разделяет его мнения, объявляет государственным преступником и даже изменником отечеству»3. Противники московского публициста не могли поверить в искренность его патриотических воззрений. Так, Герцен иронически писал о Каткове: «Либеральный публицист… бросил за борт либерализм, конституционализм, поклонение Европе и пр. и внезапно почувствовал себя неистовым патриотом, неистовым самодержистом»4.
Представители консервативного и национального направления в большинстве своем, напротив, стремились отдать должное талантам и образованности знаменитого просветителя: «телохранитель единства России» (Ф. И. Тютчев); «дивный мастер слова, великий Антей, знавший тайну прикосновения к матери-земле», «истинный царь слова» (В. В. Розанов); «апостол национальной русской политики» (А. С. Суворин); «создатель русской политической печати» (Н. А. Любимов); «первый и величайший русский публицист» (К. Н. Леонтьев); «человек глубокого и разностороннего образования, владеющий словом почти с пушкинской свободой», принесший «себя в жертву ежедневной публицистике» (П. К. Петров); «голос России» (В. А. Грингмут). К. П. Победоносцев видел в Каткове «единственного умного и чуткого к истинно русским интересам и к твердым охранительным началам» журналиста, «борца за русскую правду».
Нельзя не отметить, что многие современники (В. Г. Белинский, А. В. Никитенко, К. Н. Леонтьев, Н. П. Гиляров-Платонов и др.), в том числе и единомысленные, порой неодобрительно отзывались о личных качествах редактора «Московских ведомостей». Философ и издатель Н. П. Гиляров-Платонов писал К. П. Победоносцеву: «При своем несомненном таланте, при уме и образовании, Катков движим только личным самолюбием, безграничным самолюби-ем»5. Цензор и мемуарист А. В. Никитенко негодовал: «Катков решительно присвоил себе монополию патриотизма и думает, что кто не по его началу и не по его способу выражает свои патриотические чувства, тот не только не патриот, а даже чуть не предатель отечества»6. Но даже видевшие в Михаиле Никифоровиче «гениального оппортуниста» не могли не признать его «практическим гением» (К. Н. Леонтьев), незаменимым для России: «Этот железный столп русского охранения, этот щит и меч царства и церкви, этот человек, подобно Цицерону вполне заслуживающий имени отца отечества за неустанную борьбу против наших хамов-Катилин»7. В письме отцу Иосифу Фуделю в 1891 г. Леонтьев отмечал: «Катков лично производил на меня впечатление самого не прямого, самого фальшивого и неприятного человека; но, как я уже говорил, фальшивость характера ничуть не исключает глубокой искренности общих убеждений. Я не сомневаюсь ни на минуту, что Катков положил бы героем на плаху голову свою за Россию; если бы оказалось это нужным»8.
В то же время близко знавшие М. Н. Каткова люди свидетельствовали о нем иначе: «Одинаково чуждый приемов оппортунизма, который так в ходу теперь, и всякого доктринерства — славянофильского или раболепствующего пред Европой» (Кн. Н. П. Мещерский)9; «В деятельности М. Н. Каткова было особенно дорого то, что он служил делу, а не людям»10 (Л. Воронов, сотрудник «Московских ведомостей»). Сравнивая московского публициста с митрополитом Филаретом (Дроздовым) и А. С. Пушкиным, анонимный современник замечал: «Благочестие в духе и жизни было неизменным, для всех открытым их свойством»; «Они много любили, потому и много создали»11.
Уже этот краткий обзор показывает тот глубокий раскол, который происходил в русском обществе в 1860–1880-е гг., и сформировавшиеся в нем антагонизм и непримиримость подходов, а также указывает на очень важное, если не центральное положение М. Н. Каткова в общественной жизни России.
На фоне приведенных противоречивых оценок российских современников Каткова интересны отзывы зарубежных журналистов и писателей. Английская газета «Pall Mall Gazette» в статье по поводу кончины Михаила Никифоровича отмечала: «Национальное чувство сделало его творцом направления, получившего название русской национальной политики. По отношению к общественному мнению, от роли выразителя его он быстро перешел к роли его вождя. Не он следовал за общественным мнением, а общественному мнению приходилось следовать за ним»12. Особенно замечателен отклик лично знавшего Каткова французского историка профессора Анатоля Леруа-Болье (1842– 1912), автора фундаментального труда «Империя царей и русские» (Париж, 1882–1889. Т. 1–3)13, написанного по итогам четырех путешествий автора по Российской империи: «В этом москвиче, страстно любившем все свое национальное, не было ничего восточного и еще менее варварского. Он никогда не принадлежал к слепым ненавистникам „гнилого Запада“. Своим воспитанием, своими вкусами, всею своею личностью этот ярый защитник славянства был западником, настоящим европейцем»14.
Либеральный публицист польского происхождения, написавший одну из первых биографий Каткова в популярной серии Павленкова «Жизнь замечательных людей, Р. И. Сементковский утверждал, что мыслитель никогда не имел самостоятельной позиции и «не указывал новых путей», «пел только с чужого голоса», а его учение «вытекало из соображений личной выгоды» и вскоре будет забыто. Вопреки вышеприведенным оценкам современников, он считал, что, публицистическая деятельность Каткова «не имеет для потомства никакого значения», т. к. она «не может представлять никакого интереса ни с научной точки зрения, ни в смысле развития и расширения вынесенного нами государственного опыта»15. Такая трактовка личности и учения публициста распространялась еще при его жизни и оказала заметное воздействие на дореволюционную, советскую, западную и современную российскую историографию16.
В дореволюционной российской историографии это мнение о непоследовательности, беспринципности и оппортунизме Каткова стремились утвердить своим авторитетом издатели знаменитого Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона: «В отличие от других известных русских публицистов, всю свою жизнь остававшихся верными своим взглядам на общественные и государственные вопросы, М. Н. Катков много раз изменял своим мнениям. В общем, он постепенно, на протяжении с лишком 30-летней публицистической деятельности, из умеренного либерала превратился в крайнего консерватора, но и тут последовательности у него не наблюдается»17.
Ряд авторов размышляли о причинах эволюции взглядов мыслителя. Однако попыткам разобраться в религиозно-философском и общественно-политическом мировоззрении Каткова положила конец негативная, но мало соответствующая реальности характеристика «вождя мирового пролетариата» В. И. Ленина, ставшая в советские годы хрестоматийной: «Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конституции помещик Катков во время первого демократического подъема в России
(начало 60-х гг. XIX в.) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству»18. Уже в 1920-е гг. партийный идеолог и литературный функционер В. Я. Кирпотин, пытаясь заклеймить мировоззрение мыслителя, утверждал: «В философии он поддерживал клерикальное направление». Катков для советского литературоведа — «не просто мракобес, а реакционер с политическим горизонтом и пониманием»19. На протяжении десятилетий в советской историографии Михаил Никифорович воспринимался как «закулисный вдохновитель реакционной политики правительства Александра III», сумевший «объединить вокруг себя все темные силы дворянско-помещичьей реакции»; публицист, снискавший «популярность в среде реакционного дворянства» и ставший «официальным выразителем шовинистической политики великодержавного государства»20. Уже в 1970-е гг. «Советская историческая энциклопедия», давая оценку Каткову, видит в нем представителя дворянской реакции, который «клеветал на демократическое движение и передовую литературу, был закулисным вдохновителем террористического режима правительства Александра III»21.
Взгляд на Каткова как реакционера разделяли и разделяют до сих пор многие крупнейшие западные исследователи русской консервативной мысли — А. Валицкий, Р. Пайпс, Д. Биллингтон и др. Биллингтон характеризует редактора «Московских ведомостей» как главного теоретика «реакционного панславизма», «воинствующего национализма» и «великодержавного шовинизма»22. Р. Пайпс видит в Каткове «разочаровавшегося либерала», который отверг все, чему поклонялся»; для этого американского советолога идейная эволюция мыслителя — постепенный переход к «прямой реакции»23. А. Валицкий с опорой на В. И. Ленина дает следующую характеристику реакционной идеологии, в том числе катковской: «Еще Ленин проводил различие между реакцией „в историко-философском смысле“ (которую он называл „ошибкой теоретиков“, которые берут образцы для своих теорий из отживших форм общества) и реакцией „в обычном смысле этого понятия“ (т. е. в смысле политической поддержки крайне правых движений)»24.
Справедливости ради надо сказать, что не все западные авторы видели в Каткове реакционера. Эдвард Таден, в частности, позитивно оценивал стремление Каткова и других представителей консервативного национализма сформулировать новую философию, основывающуюся на местных устоях, на традиционно сформировавшихся социальных институтах русского общества25.
Мартин Кац в своей фундаментальной реконструкции политической биографии мыслителя отмечает его усилия по созданию в России института независимой прессы26.
Монографии В. А. Китаева и В. А. Твардовской, сохраняя прежние идеологические оценки, впервые в СССР прорывают завесу молчания вокруг имени «реакционного» издателя и закладывают эмпирическую базу для дальнейшего научного исследования его консервативного наследия. Твардовская, например, пишет об искренней ненависти Каткова к революции, к демократическим и социалистическим идеям «разночинской интеллигенции», но его жизненный путь считает поучительным образцом «того, как служение исторически несправедливому и обреченному делу накладывает неизгладимую и необратимую печать оскудения на личность». Подчеркивая несомненную одаренность и образованность публициста, исследовательница, однако, утверждает, что к концу карьеры он не избежал умственной и нравственной деградации27.
В работе Твардовской проводится ряд важных тезисов, раскрывающих консервативный характер мировоззрения Каткова. В частности, она определяет его и К. П. Победоносцева носителями «объединяющего начала, состоявшего в самодовлеющей идее активного, наступательного самодержавия». Исследовательница верно констатирует, что «искренней была у Каткова его ненависть к революции, к демократическим и социалистическим идеям, к их носительнице — разночинской интеллигенции»28.
Китаев в своей книге, посвященной русской либеральной мысли середины XIX в., характеризуя идейную позицию Каткова в начале 1860-х гг., вводит термин «охранительный либерализм»29.
Широкое изучение огромного литературного наследия мыслителя и публициста начинается только в 1990–2000-е гг. на волне разочарования в социалистических и либеральных ценностях и появления интереса к философии консерватизма. Одной из ключевых фигур в этом процессе возвращения забытых имен становится постоянный сотрудник Каткова по журналу «Русский вестник» К. Н. Леонтьев30. Между тем нельзя не согласиться с Д. М. Володихиным, констатировавшим, что в 1990-е гг. «колоссальный общественный интерес» был проявлен по отношению к таким консервативным мыслителям, как Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев и Л. А. Тихомиров, «в ущерб… более значимым с точки зрения участия в реальной политике и общественной жизни фигурам С. С. Уварова, М. Н. Каткова или К. П. Победоносцева»31.
Г. Н. Лебедева в диссертации 1996 г. впервые отходит от советских идеологических штампов, определяя ранний этап мировоззрения Каткова как «мнимый либерализм» или «либеральный уклон» и показывая, что на протяжении всей своей писательской деятельности он оставался консерватором, проделав сложную эволюцию в рамках этого направления русской мысли32. По ее мнению, убеждения Каткова были «вполне позитивным консерватизмом, сочетающим стабильность и реформы, причем с уклоном в сторону реформ»33.
Значительный вклад в исследование консервативного мировоззрения московского издателя внесли такие ученые, как Е. В. Деревягина, Г. П. Изместьева, С. М. Санькова, О. С. Кругликова, С. Н. Шипилов, Е. В. Перевалова и др.34 Е. В. Перевалова исследовала, в частности, концепцию издательских проектов Каткова. В своей диссертации ей удалось установить основные принципы отбора беллетристики, поэзии и литературно-критических статей для «Русского вестника» (1856–1859/60 гг.), показать, как происходило формирование литературной позиции журнала, какими идейными принципами руководствовался редактор, оценивая литературные явления35.
Философское мировоззрение Каткова рассматривают в своих работах также И. А. Едошина, Э. А. Попов и И. В. Велигонова. При объяснении общественного влияния публициста два последних автора обращают внимание на его личность, для которой «было характерно идеалистически-романти-ческое восприятие действительности (наличие четкого идеала должного) в сочетании с рационализмом и практичностью». Ядром мировоззренческой позиции Каткова они определяют идею самодержавной власти36. Едошина раскрывает содержательные и методологические особенности научных взглядов мыслителя и рассматривает данные современниками оценки его идейных воззрений37.
* * *
Михаил Никифорович Катков родился 1 ноября 1818 г. в Москве, и вся его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с древней первопрестольной столицей Православной Руси, что, безусловно, наложило отпечаток на его мировоззрение. Детство мыслителя прошло в обстановке крайней бедности и нужды. Потеряв в пять лет отца, титулярного советника Никифора Васильевича Каткова (ум. 1823), он вынес множество лишений. Мать — Варвара Акимовна, урожденная Тулаева (1778–1850, из обедневшего грузинского дворянского рода) — вынуждена была работать кастеляншей (надзирательницей) в Бутырской пересыльной тюрьме, где будущий публицист и провел детские годы. Но, будучи глубоко верующим православным человеком, Варвара Акимовна сделала все возможное, чтобы дать сыну не только твердое нравственное воспитание, но и самое лучшее классическое образование. Известная мемуаристка Т. П. Пассек свидетельствовала: «Варвара Екимовна была женщина умная, добрая, самостоятельного характера и образованная. Она сама дельно воспитывала своего сына и давала ему первые уроки из русского, французского языка и арифметики. Ребенок учился хорошо. В умных чертах маленького мальчика меня поражали глаза его — бледно-голубые, до крайности прозрачные, временами точно с изумрудным отливом и со взором, до того как бы погруженным внутрь самого себя, что не знаешь, что в нем таится»38.
Катков с отличием закончил словесное отделение Императорского Московского университета (1834–1838), где слушал лекции Н. И. Надеждина, М. Т. Ка-ченовского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева и др., получив степень кандидата. Преподаватели часто восхищались его блестящими ответами на экзаменах и ставили их в пример прочим студентам.
В годы учебы мыслитель входил в знаменитый философский кружок Н. В. Станкевича, в котором также состояли К. С. Аксаков, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, М. А. Бакунин и др. Участники кружка видели в Каткове «замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям»39. Как отмечает М. О. Меньшиков, «если Катков впоследствии разошелся, и подобно Достоевскому — с большою резкостью, с членами станкеви-ческого кружка, зато он мог сказать, что всех их хорошо знал еще в их зачатии, всех изучил в натуре. По таланту и образованию Катков был не в хвосте кружка, а по характеру превосходил многих товарищей. Он не довольствовался, как Белинский, „схватыванием“ философских тезисов из устной передачи более просвещенных приятелей. Он сам был „более просвещенным“, углубляясь в первоисточники тогдашней философии»40.
В эти годы Катков увлекался философией Гегеля и познакомил с ней других участников кружка. В 1838 г. он опубликовал в журнале «Московский наблюдатель», идейно возглавляемом В. Г. Белинским, перевод статьи Г. Ретшера «О философской критике художественного произведения», в которой открыл русскому читателю эстетику Гегеля. Белинский, переживавший в то время увлечение гегельянством, рассматривал эту статью как эталон философской критики.
Поддержка «всесильного» в литературном мире Белинского оказала решающее влияние на направление литературной деятельности Каткова в студенческие годы. Он начинает активно сотрудничать с западническими журналами «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки». Великолепно владея несколькими иностранными языками, Михаил Никифорович переводит «Историю средних веков» О. Демишеля, трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», произведения Гете, Гейне, Ф. Купера и др. В «Отечественных Записках» он ведет раздел библиографии41. Однако и по объему, и по характеру его статьи и рецензии значительно возвышаются над общим уровнем. Среди программных материалов Каткова в то время выделяются «Песни русского народа, изданные И. Сахаровым» (1839) и «Разбор книги М. Максимовича „История древней русской словесности“» (1840).
Почти каждую новую публикацию молодого приятеля Белинский встречал восторженно. «Статья Каткова — прелесть, — писал он Боткину по поводу рецензии на Максимовича, — глубоко, последовательно, энергически и вместе спокойно, все так мужественно, ни одной детской черты». В своих хвалебных строчках знаменитый критик не только предсказывает начинающему коллеге большое будущее в сфере литературы и науки, но и первым отмечает его философский талант: «Я вижу в нем великую надежду науки и русской литературы… Преобладание мысли в определенном и ярком слове есть отличительный характер его статей и высокое их достоинство; а отсутствие сосредоточенной непосредственной теплоты сердечной — недостаток… Общее поглощает его дух и, так сказать, обезличивает его индивидуальность… Я читаю его статьи с особенным уважением — наслаждаюсь ими и учусь мыслить»42.
Кроме того, уже в ранних сочинениях Катков проявил недюжинный журналистский талант, огромное трудолюбие и стремление довести каждую строку до видимого совершенства. Один из лучших биографов публициста Н. А. Любимов писал, что «тщательная отделка статей… свидетельствует о замечательной усидчивости Каткова; энергия и неутомимость в работе были одной из основных черт в характере его». Любимов отмечает и другую черту, «проявленную Катковым на первых шагах его литературного поприща и затем сохраненную им на всю жизнь: это глубокий и искренний патриотизм, вера в силы и великую будущность России»43.
Как и многие молодые русские мыслители того времени, испытывавшие влияние немецкой философии, М. Н. Катков, помимо Гегеля, проникся учением Шеллинга, для углубленного знакомства с которым даже совершил путешествие в Германию. «Искренность его увлечения германской философией и поэзией выразилась в том факте, что он, будучи лишен всяких средств к существованию, предпринял поездку за границу и прожил около двух лет в Германии в самом бедственном положении», — свидетельствует Р. И. Сементков-ский44. Несмотря на материальные трудности, Катков в компании с Павлом Васильевичем Анненковым, начинающим литературным критиком из круга Белинского, впоследствии известным пушкинистом и мемуаристом-западником, 19 октября 1840 г. из Кронштадта на пароходе отправляется в Любек, имея конечным пунктом Берлин.
Процесс становления философских воззрений мыслителя отражен в его дневниковых записях и письмах Берлинского периода: «Изучение логики не есть, стало быть, просто изучение: это сообщение с Творцом, высшее священнодействие; влияние его объемлет всего человека, и на каждом шагу он должен становиться чище и достойнее»45. А в письме матери и брату после первого семестра, в течение которого Михаил Никифорович прослушал курс логики, он замечает: «Живое и серьезное занятие философией, не так, как прежде — пошлое, брошюрочное, благотворно и глубоко подействовали на меня. Но надобно еще много и много поработать мне: в течение каких-нибудь трех месяцев никакая сила не может овладеть таким предметом, — лекции же летели так быстро, так ярко, так ослепительно — ни на минуту нельзя остановиться и укрепиться»46.
После смерти в 1831 г. Гегеля к Шеллингу было устремлено внимание всей интеллектуальной Европы. Слушателями берлинского властителя умов были Ал. Ф. Гумбольдт, С. Кьеркегор, А. Тренбеленбург, Ф. Энгельс, Л. ф. Ранке и др. Огромный интерес к немецкой философии проявляли и многочисленные гости из России. В начале 1840-х гг. в Берлине успели побывать М. Бакунин, Т. Грановский, Н. Огарев, В. Одоевский, И. Тургенев, Н. Станкевич и др. Однако, в отличие от многих современников, близкое знакомство с религиозной философией Шеллинга не только не отвратило молодого философа М. Н. Каткова от России, но наоборот, еще более сблизило его с родиной. «О России я думаю и мечтаю очень часто, — писал он, — и всякий раз более чувствую крепость связей, соединяющих меня с моим народом; знаю, знаю, но все же убежден — самою лучшею наградой за все мои труды, разумеется, в будущем, была бы хоть какая-нибудь польза, принесенная с моей стороны»47.
За полтора года пребывания заграницей Катков, кроме усердного посещения лекций в Берлинском университете, успевает побывать в Бельгии и во Франции, а также написать две большие философские статьи для журнала «Отечественные записки» — «Германская литература» (1841, № 3, 5, 6) и «Первая лекция Шеллинга в Берлине» (1842, № 2).
По точному замечанию современной исследовательницы, «в лекциях Шеллинга по философии Откровения, соединявших идеализм и Священное Писание, он нашел созвучие своим собственным взглядам на мир, еще недостаточно сформированным, но в основе своей консервативным»48.
По возвращении в Москву мыслитель резко и окончательно расходится с Белинским, который увидел в бывшем приятеле, как он выразился в письме к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 г., «Хлестакова в немецком вкусе»49. В том же письме Белинский дает Каткову уничижительную и весьма вульгарную характеристику: «Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это — куча философского г…; бойся наступить на нее — и замарает, и завоняет»50.
Разрыв Каткова и Белинского имел глубокий духовный корень — различное отношение к вере и Церкви. Белинский в то время страстно увлекается революционно-демократическими идеями и приходит к атеизму. В 1845 г. он пишет Герцену: «Истину я взял себе — и в словах „Бог“ и „религия“ вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова как следующие за ними четыре»51. А в своем знаменитом письме Н. В. Гоголю (1847 г.) «неистовый Виссарион» утверждал, что России «нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением Церкви, а со здравым смыслом и справедливостью»52. Катков же даже в своих юношеских исканиях сохранил взращенную матерью глубокую религиозность53.
1840-е гг. вошли в историю русской мысли не только как эпоха философского пробуждения, по выражению отца Георгия Флоровского, но и как время окончательного размежевания двух непримиримых «партий» — западников и славянофилов. Философия, бывшая ранее в России одной из многих наук, ограниченных узким кругом учителей и учеников, превращается в основной интерес поколения, вовлекает в свой круговорот все силы общества, а главное — происходит поиск «существа русского и нерусского в мировоззрении, в жизнепонимании, в духе»54. Как отмечает протоиерей Г. Флоровский, вопрос национального призвания, «вопрос о месте России» в плане всемирной истории становится главной темой пробудившейся русской философии55.
Выйдя из литературного круга Белинского, Михаил Никифорович начинает посещать славянофильский салон Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы В. А. Жуковского и матери братьев Киреевских. Однако подлинного духовного сближения с представителями этого направления не происходит. Он не мог закрепиться в рядах какой-либо «партии», т. к. с самого начала ощущал себя независимым мыслителем. О своем идейном одиночестве и об отношении к славянофильским кружкам Катков ярко свидетельствует в письме к А. Н. Попову: «С интересами, которые теперь… господствуют в Петербурге и Москве, я нахожу в себе мало сочувствия. <…> Здесь теперь я совсем бесприютен, не к кому прислониться, не с кем быть откровенным; но я, впрочем, не больно и горюю об этом. Хорошо иметь кружок единомысленный, с одною одинаково понимаемой целью; но хорош также и уединенный труд и более искренняя беседа с самим собою. Я здесь молчу и только слушаю. Там слышишь, что Россия гниет; здесь — что Запад околевает, как собака на живодерне; там — что философия цветет теперь в России и надо бы держать ее как можно далее от жизни, заключить ее в формулы, чтобы толпа не смела в нее вмешиваться; здесь — что философия… есть не более как выражение немецкого филистерства»56.
Защитив в 1845 г. магистерскую диссертацию «Об элементарных формах русского языка», М. Н. Катков был принят адъюнктом по кафедре философии и читал лекции по истории философии, логике и психологии на словесном отделении57. Сохранились противоречивые мнения о его преподавании. Будущий известный правовед и философ-гегельянец и западник Б. Н. Чичерин, в те годы студент университета, вспоминал, что «никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор». Н. А. Любимов, П. М. Леонтьев, Е. М. Феоктистов, напротив, считали эти лекции выдающимся явлением в жизни университета. Сам Катков в беседе с С. М. Соловьевым выразил специфику исторической ситуации, в которой он читал свой первый курс, так: «Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я Бога»58.
Под влиянием концепции позднего Шеллинга мыслитель выбирает основной темой для научной работы философию досократиков. Итогом его историко-философских занятий стали «Очерки древнейшего периода греческой истории» (М., 1853). Ценность труда заключалась, прежде всего, в опоре на первоисточники, самостоятельно переведенные Катковым. По словам автора, он был одушевляем «тем общим воззрением, которое дает жизнь… мысли и вынесено… из Положительной Философии Шеллинга, старался сблизиться с предметом и изучать его в самой действительности»59. Давая общую характеристику исследуемого периода греческой мысли, он отмечает: «Все направления, все роды мышления находятся здесь в первом непосредственном синтезе, в этой первой философии, где собственно философское еще не пришло к своему самосознанию и не успело отличить себя от всего не-философского»60. Для понимания общей атмосферы эпохи написания этой книги и философского метода молодого исследователя характерно и другое его признание во вступлении: «История философии стала в наше время решительною потребностью, однако же ни задача, ни способы ее не приведены в достаточную ясность»61.
В 1847 г. в Московском университете Катков познакомился с молодым ученым, филологом-классиком Павлом Михайловичем Леонтьевым (1822– 1874), ставшим на многие годы его ближайшим другом и верным единомышленником. Последний только что вернулся из Германии, где среди прочих слушал и лекции Шеллинга, что отразилось в его магистерском сочинении «О поклонении Зевсу» (М., 1850), написанном под влиянием шеллинговой «философии мифологии».
Представление об отношениях двух друзей можно составить из некролога П. М. Леонтьеву, написанного Катковым в 1875 г. «В продолжение всей зрелой поры нашей жизни мы были неразлучны с ним до последних тайников мысли и сердечных движений. <…> Симпатические отношения установились между нами сразу и до конца ни на мгновение не поколебались. В течение почти двадцати лет нас соединяла совокупная деятельность, и семнадцать лет мы жили, почти не расставаясь, под одним кровом. Между нами не было никакой розни. Мысль, возникавшая в одном, непосредственно продолжала действовать и зреть в другом»62.
Успешная университетская карьера талантливого философа была прервана волной революций в Западной Европе. Опасаясь распространения революционных идей в России, император Николай I в 1850 г. издает Высочайшее повеление, согласно которому вводились значительные ограничения на преподавание политической философии в российских университетах. В частности, запрещалось читать лекции по философии преподавателям, не имеющим духовного сана, и Катков был вынужден покинуть кафедру. По-видимому, стремясь сохранить талантливого и образованного сотрудника, руководство университета в 1851 г. вверяет ему редакторство газеты «Московские ведомости». Одновременно он по протекции графа С. Г. Строганова становится чиновником особых поручений при Министерстве народного просвещения.
Получив, наконец, постоянное казенное жалованье и выйдя из нужды, Катков женится в 1852 г. на княжне Софье Петровне Шаликовой (1832–1913), младшей дочери известного русского писателя-сентименталиста, журналиста и издателя Петра Ивановича Шаликова (1768–1852)63, который в течение 25-ти лет был редактором «Московских Ведомостей» (1813–1838), и обретает прочное семейное положение и личное счастье, став впоследствии отцом большого многодетного семейства64. По свидетельству П. Н. Мещерского, «у Михаила Никифоровича… лучшие стороны его души являлись достоянием семьи и близких»65; «Он был, если можно так сказать, страстный семьянин, с сердцем отзывчивым на дружбу и на все доброе»66.
* * *
Настоящим водоразделом в истории русского самосознания стала Крымская война 1853–1856 гг., поражение в которой вынудило российскую элиту обратиться в поисках технического и идейного обновления к политическому и экономическому опыту передовых либеральных держав Запада — Англии и Франции67.
Новый период в истории Российской империи многими современниками характеризовался как «оттепель» (Ф. И. Тютчев и др.)68, что проявилось в даровании Высочайшим манифестом по случаю коронации императора Александра II амнистии декабристам, петрашевцам, участникам Польского восстания
1830–1831 гг.; в свободной выдаче заграничных паспортов, ликвидации военных поселений и т. п.
Как вспоминал Н. Н. Страхов, «неопределенный, общий либерализм был у нас тогда в большом ходу. Им пробавлялись все журналы, им больше и больше проникалось общество и даже правящие сферы. <…> Самые реформы прошлого царствования имели преимущественно освободительный характер, снимали юридические и административные стеснения, связывавшие народ и общество. Понятно, что либеральный дух овладел всеми, и так как сперва в этом движении не замечалось ничего дурного, то оно росло все больше и больше»69. Однако, как отмечает Страхов, «либеральные начала оказались недостаточными для управления нашим обществом <…>. Наступило быстрое и ужасное разочарование. Чем кончилась либеральная эпоха, так называемая „заря возрождения“? Вдруг стали являться прокламации, взывавшие к бунту и разрушению; за прокламациями следовали пожары; за пожарами — польское восстание, а через три года — первое покушение на жизнь государя»70.
Реформы, начатые Александром II, по своему грандиозному масштабу часто сравнивали с реформами Петра I, однако большинство из них не были доведены до конца. Главным преобразованием стала отмена крепостного права, послужившая импульсом для проведения последующих реформ: военной (1862, 1874), финансовой (1863), образовательной (1863), земской (1864), судебной (1864), печати (1865), городской (1870) и др. После опубликования Царского манифеста об освобождении крестьян 19 февраля 1861 г. император Александр признавался в письме к прусскому королю Вильгельму I: «У меня сознание, что я выполнил великий долг».
Некоторые мемуаристы и исследователи, характеризуя идейную эволюцию Каткова во второй половине 1850-х гг., отмечают его «англоманию»: «В Англии он находил симпатичную ему преданность монархии, соединенную с широкой свободой, находил общественный строй, выработанный и проверенный вековым опытом»71. По этому поводу Е. М. Феоктистов, журналист, а впоследствии главный цензор России и сенатор, в мемуарной книге «За кулисами политики и литературы» писал: «Катков задался мыслью, что для России необходима система самоуправления в широких размерах. <…> Самоуправление дало пышный цвет на английской почве — отсюда преклонение Михаила Никифоровича перед Англией»72.
Оригинальную интерпретацию «англофильства» редактора «Русского вестника» дает М. О. Меньшиков: «Поклонник Англии, Катков именно в ней видел живое воплощение обоих начал — разных, но нераздельных, одинаково законных, одинаково необходимых, как внешняя и внутренняя сторона того же предмета. Все вечно истинное должно быть осуществлено — вот основание либерализма. Все вечно истинное должно быть сохранено — вот основание консерватизма. Катков застал Россию в глубоком извращении обоих начал. Свобода, основное условие органического роста, была раздавлена чиновничеством, захватившим власть. Охранялись же рабские, то есть искаженные, формы жизни. Катков не только был англофилом, но он первый и начал действовать как англичанин в области своего призвания. Он вступил в серьезную, упорную, систематическую борьбу с обоими неправдами русской жизни: с отсутствием свободы и с излишествами свободы»73.
Воспользовавшись в 1855 г. поддержкой товарища министра народного просвещения, князя П. А. Вяземского и статс-секретаря графа Д. Н. Блудова, Катков получает разрешение выпускать журнал «Русский Вестник» по предложенной им программе, но с одним ограничением — чтобы летопись политических событий представляла собой «без всяких рассуждений со стороны редакции, лишь связный выбор известий сего рода из периодических изданий, в России выходящих»74. Обращаясь в 1855 г. к министру народного просвещения A. C. Норову с докладной запиской о возможности издания нового журнала, Михаил Никифорович указывает на потребность современного российского общества, в котором пробудилось национальное самосознание, иметь печатный орган, благодаря деятельности которого прояснялся бы «русский взгляд на вещи, чтобы русский ум так же сверг с себя иго чуждой мысли, как уже сверг с себя иго чуждого слова. Чтобы наша литература, созревая и обогащаясь, могла доставлять удовлетворение всем умственным потребностям русского человека. Особенно важное значение могут иметь в этом отношении живые органы литературы, повременные издания»75.
Представляя издание, редактор так формулирует его патриотическую программу: «В настоящих обстоятельствах, напоминающих великую эпоху двенадцатого года, мы не имеем ни одного издания в роде „Вестника Европы“ и „Сына Отечества“, с которыми связано столько патриотических воспоминаний. Умы всех заняты теперь великой борьбой, из которой Бог поможет нашему Отечеству выйти с такой же славой, как и в ту вечно памятную эпоху. Было бы желательно, чтобы благородное одушевление, ныне господствующее в нашем обществе, нашло особый орган и в литературе. Вследствие сего издание, предполагаемое в Москве, состояло бы из двух существенных отделов, политического и литературного»76.
Биографы отмечали, что новый журнал сосредоточил в себе все лучшие силы русской интеллигенции, причем «взгляды редакции отличались необычайной широтой», соединяя вместе «корифеев славянофильства и западничества»77. Среди ведущих авторов «Русского вестника» во второй половине 1850-х гг. выделяются имена писателей С. Т. Аксакова, Д. В. Григоровича, И. А. Гончарова, И. И. Лажечникова, А. Н. Майкова, Д. Л. Мордовце-ва, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Е. Салтыкова-Щедрина; ученых И. К. Бабста, О. М. Бодянского, Ф. И. Буслаева, И. Е. Забелина, К. Д. Кавелина, К. П. Победоносцева, С. М. Соловьева, Б. Н. Чичерина; критиков и публицистов К. С. и И. С. Аксаковых, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина и др.
В мемуарной и исследовательской литературе широко распространено мнение, что в первое время существования журнала, т. е. в 1855–1862-м гг., Катков придерживался либеральных взглядов. Такое представление ярко выразил в своих воспоминаниях Н. Н. Страхов: «„Русский вестник“, начавшийся с 1856 г., был, можно сказать, школою либерализма; по его книжкам вся Россия училась глядеть на вещи с этой точки зрения, подвергать критике те следствия, какие проистекали от принудительных мер и порядков»78. Однако в последние годы предпочтительнее становится иная трактовка, согласно которой союз Каткова с либеральными западниками был чисто тактическим79. Это подтверждает и тот факт, что уже в 1858 г. временные либеральные союзники (Е. Ф. Корш, П. Н. Кудрявцев, А. В. Станкевич) покинули редакцию и Михаил Никифорович полностью сосредоточил руководство изданием в своих руках.
С первых же номеров журнал занял твердую патриотическую позицию. Программное значение имела статья «Пушкин». В ней не только ярко раскрывается талант Каткова как литературного критика, защищающего главного русского поэта от нападок доморощенных утилитаристов из «Современника», но и сама поэзия оказывается понимаемой как знание, ибо «первая цель искусства есть истина». Затрагиваются автором и вопросы народности. Поэт превращается в знамя русской народности и государственности, собирателя всех народов в единую империю: «Множество разнообразных племен, населяющих наше отечество, должны вполне, умственно и нравственно, подчиниться русской народности, как подчинены они Российскому государству»80.
Но еще отчетливее идейные основания «Русского вестника» и его главного редактора проявились в полемике с революционно-демократическими журналами, прежде всего — со знаменитым «Современником». Журнал был основан еще в 1836 г. А. С. Пушкиным, однако с 1858 г., когда «Современник» возглавлял «триумвират» в составе поэта-народника Н. А. Некрасова и двух бывших семинаристов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, из литературного издания он превратился в политическую трибуну радикальных революционно-демократических материалистических идей и «утилитаризма» в эстетике. По этой причине оттуда ушли Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и другие авторитетные литераторы. Тургенев называл Чернышевского и Добролюбова «литературными Робеспьерами», которые «хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы»81.
Чернышевский и Добролюбов стали идейными вождями целого поколения «новых людей шестидесятых годов», отпрысков мелких чиновников, священников, социальных меньшинств, носителей зачастую сектантской религиозности, своего рода иконоборцев, по выражению Д. Биллингтона, проповедовавших материализм Фейербаха и утилитаризм Бентама, равенство полов, свободную любовь и святость естественных наук; решительно отмежевавшихся от прошлого — как от идеализма дворянской культуры, так и от православной церковной традиции82. А. Валицкий считает, что появление этой новой социальной группы разночинцев в сфере публичной жизни вызвало настоящую интеллектуальную революцию в России83.
Известный ученый-физик и публицист, основной помощник Каткова по изданию «Русского вестника» Н. А. Любимов так оценивал труды Каткова-просветителя по разоблачению лжепророков российской интеллигенции: «Деятели „Современника“, претендовавшие быть общественными учителями и вождями, изобличались в невежестве, сводились с пьедесталов; великаны обращались в размер ничтожеств»84.
На страницах «Русского вестника» были опубликованы главные шедевры русской классической литературы второй половины XIX века — художественная проза И. С. Тургенева («Накануне, 1860; «Отцы и дети», 1862; «Дым», 1867), Ф. М. Достоевского («Преступление и наказание», 1866; «Идиот», 1868; «Братья Карамазовы», 1879–1880), Л. Н. Толстого («Казаки», 1863; первые главы «Войны и мира», 1865–1869; «Анна Каренина», 1875–1877), А. К. Толстого («Князь Серебряный», 1863), П. И. Мельникова-Печерского («В лесах», 1871–1874; «На горах», 1875–1881), Н. С. Лескова («На ножах», 1870–1871; «Соборяне», 1872; «Запечатленный ангел», 1873; «Захудалый род», 1874).
Политика редактора была направлена на широкое освещение религиозной жизни русского народа, пробуждение в российском обществе интереса к церковной и духовно-нравственной проблематике. Это осуществлялось благодаря публикации произведений с положительными образами священников, монахов, старцев и в целом русского Православия (роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и роман-хроника Н. С. Лескова «Соборяне» с живыми и глубокими изображениями православных священнослужителей — старца Зосимы, протопопа Савелия Туберозова, священника Захарии Бенефактова и диакона Ахиллы Десницына85).
Если отношения Каткова с Тургеневым, Л. Толстым и Лесковым были достаточно сложными, а пути их в конце жизни серьезно разошлись, то эволюция взаимодействия московского публициста с Ф. М. Достоевским являет противоположный пример. В начале 1860-х гг. Достоевский, будучи редактором журнала «Время», выступал оппонентом Каткова, но позднее — уже в середине 1860-х гг. — он стал ведущим сотрудником «Русского вестника» и оставался им до конца своей жизни. Автора «Преступления и наказания» все более привлекала бесстрашная борьба издателя с нигилизмом и защита национальных интересов России и русского народа, так что в итоге он выступал одним из ближайших единомышленников Каткова в консервативном движении.
Важное место в содержании и идейной концепции журнала отводилось произведениям антинигилистической направленности — т. н. антинигили-стический роман: «Взбаламученное море» (1863) А. Ф. Писемского (1820– 1881); «Марево» (1864) В. П. Клюшникова (1841–1892); «На ножах» (1870–1871) Н. С. Лескова (1831–1895); «Панургово стадо» (1870) и «Две силы» (1874) В. В. Крестовского (1840–1895), «Скрежет зубовный» (1878) и «Злой дух» (1881) В. Г. Авсеенко (1842–1913) и др.
Среди постоянных авторов и доверенных сотрудников Каткова особо следует выделить талантливого, но в наши дни совершенно забытого петербургского прозаика, публициста и литературного критика Болеслава Михайловича Маркевича (1822–1884), практически все важнейшие произведения которого были опубликованы в «Русском вестнике». Начиная с 60-х гг. он принимает активное участие в катковских изданиях как романист, театральный и литературный критик (циклы статей «Из Петербурга», 1863–1873; «С берегов Невы», 1878–1883). Большой популярностью пользовались его романы «Типы прошлого» (1867, № 8–12), «Забытый вопрос» (1872, № 1–4), «Марина из Алого Рога» (1873, № 1–3); повести «Две маски» (1874, № 12), «Княжна Тата» (1879, № 7) и, наконец, наиболее значительное произведение писателя — трилогия: «Четверть века назад» (1878, № 4, 6–8, 10–12), «Перелом» (1880, № 2–10; 1881, № 1–12), «Бездна» (1883, № 1–11; 1884, № 5–11).
Как отмечал С. В. Флеров, «никто в такой полноте и последовательности не раскрывал» развития «новейшей смуты», как Маркевич. «„Четверть века назад“ художественно отражает в себе „дореформенной строй“ и подготовку его крушения. „Перелом“ дает картину погрома, а „Бездна“ представляет уже одни развалины, в которых гудит ликующий вой: vae victis 86»87.
Несмотря на польские корни88, Маркевич глубоко ощущал свою духовную принадлежность к русскому народу, и это более всего сближало его с издателем «Русского вестника». В одном из писем графу А. К. Толстому Болеслав Михайлович замечал: «Я счастлив сознанием, что я русский в душе, т. е. принадлежу сердцем к единственной нации, с негодованием протестующей против отвратительного образа действий просвещенной Европы относительно греков и славян на востоке»89.
Благодаря Каткову жанр антинигилистического романа обрел широкую популярность в обществе и схожим темам стали обращаться и другие издания. «Вестник Европы» опубликовал романы И. А. Гончарова «Обрыв» (1869) и И. С. Тургенева «Новь» (1876); «Отечественные записки» — роман Н. С. Лескова «Обойденные» (1865). Князь В. П. Мещерский в своем журнале-газете «Гражданин» напечатал романы «Тайны современного Петербурга» (1875– 1876), «Курсистка» (1886–1887) и др.
Но, безусловно, вершиной этого жанра стал роман-пророчество Ф. М. Достоевского «Бесы» («Русский вестник», 1871–1872), по поводу которого автор признавался: «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь»90. В другом письме Достоевский замечал: «Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-то и есть тема моего романа»91.
В своем новом произведении Федор Михайлович стремился представить Петра Верховенского и его кружок идейными наследниками и прямыми последователями, с одной стороны, западников 1840-х гг. (Белинского, Грановского, Петрашевского), а с другой, — Добролюбова, Чернышевского и прочих «властителей дум» молодежи.
Редактор «Русского вестника» полностью поддерживал замыслы писателя. Достаточно указать на то огромное внимание, с которым и Катков, и Достоевский следили за громким и длительным судебным процессом по обвинению тайного общества «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым в Санкт-Петербурге в убийстве слушателя Петровской земельной академии И. П. Иванова.
Сергей Геннадьевич Нечаев (1847–1882) — автор радикального «Катехизиса революционера», устава революционной организации «Народная расправа», в котором впервые в России формулировалась программа тотального террора ради «светлого будущего всего человечества». Уже в названии была заложена полная антитеза христианскому катехизису, своего рода выражение принципов псевдорелигии. В первых же пунктах этого документа Нечаев провозглашает: «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить»92. Отношение своего революционного товарищества к народу (четвертый раздел) автор видел в том, чтобы для его «освобождения» подтолкнуть народ к «поголовному восстанию», сблизившись с элементами, наиболее подготовленными к бунту:
«Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России».
Катков неоднократно обращался к делу нечаевцев на страницах «Московских ведомостей». В передовице от 24 июля 1871 г. он писал, что публично зачитанный на суде « Катехизис революционера» «правдив и точен до конца»: «Зачем спорить? Послушаем, как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей. Что обыкновенно не досказывается, расплываясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдно точному выражению; что другими не доделывается, то деятелями вроде Нечаева совершается с виртуозной отчетливостью»93.
«С кем в родстве эта революционная партия, руководимая людьми без правил и чести… имеющая целью разрушение и только разрушение? Кто в русском народе ей пособники и союзники? — вопрошает московский публицист и сам же отвечает: Разбойничий люд, то есть грабители и жулики, говоря собственным наречием этих досточтимых деятелей. Вот, говорит катехизис, истинные русские революционеры.
Итак, вот куда по прямой линии вливается этот прогресс, у истока которого стоят наши цивилизованные либералы! Вот фазы этого прогресса: расслабленная жалким полуобразованием и внутренне варварская часть нашего общества с чиновничьим либерализмом; затем — отъявленный нигилизм с его практическим и теоретическим развратом, который, в сущности, то же, что и программа Нечаева; затем — формальная революционная организация, созидаемая людьми, свободными от предрассудков всякой нравственности и чести; наконец, — лихой разбойничий люд, который обходится без всяких теорий»94.
Желание любыми средствами «разбудить Россию», пробудить в ней «социальную революцию» стало навязчивой идеей Нечаева и многих его последователей. В частности, «титаном революции» называл Нечаева В. И. Ульянов (Ленин), приложивший много усилий для воплощения в жизнь его катехизиса. Но если большинство либеральных и социалистических изданий воспринимали Нечаева и нечаевцев как нелепое исключение в ряду благородных «пламенных революционеров» и «борцов за свободу народа», то Катков и Достоевский в этом судебном деле и особенно в фигуре автора катехизиса видели ключ к пониманию революционных процессов в России. «Нечаевское дело» послужило мощным толчком для создания романа «Бесы», задуманного Федором Михайловичем в конце 1869 г. как произведение о Нечаеве и не-чаевцах. В начальных черновиках главный герой романа указан как Студент или Нечаев, а его основная идея: «У него одно: устроить истребление».
Серьезное критическое восприятие русскими консерваторами идей нигилизма было связано с огромной их популярностью в 1860-е гг.
По выражению одного из вождей нигилизма, приятеля Чернышевского, ученого-лесовода, революционно-демократического публициста Н. В. Шелгунова (1824–1891), 60-е гг. явились моментом «небывалого еще развития критической мысли»: «Умственная революция, которую мы пережили в 60-х гг., была не меньше умственной революции, которую переживала Франция с середины ХVIII в.»95. Ясное представление об этой революции дает и прокламация «К молодому поколению», написанная Шелгуновым вместе с М. Михайловым: «Если для осуществления наших стремлений, для раздела земли между народом пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы этого»96.
Но главным проводником идей нигилизма в 1860-е гг., после ранней смерти Добролюбова и ареста Чернышевского, становится Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868), энтузиаст естественных наук, проповедовавший веру в утилитарную этику «разумного эгоизма». В отличие от большинства его подельников-разночинцев, он происходил из богатой дворянской семьи. В своих статьях, написанных начиная с 1860 г. для петербургского журнала «Русское слово» (1859–1866), он восхищается образом тургеневского Базарова, представляя его примером для молодого поколения. Нигилизм Писарева доходит до самых крайних пределов в отрицании исторической России. В нелегальной прокламации 1862 г. в защиту Герцена «О брошюре Шедо-Ферроти» он прямо призывает к уничтожению монархии: «Низвержение… династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляют единственную цель и надежду всех честных граждан. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла… На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать. Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти. То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; и нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы»97.
M. H. Катков еще в 1869 г. писал о нигилистических настроениях в кругах российской студенческой молодежи, связывая ее политическую, интеллектуальную и духовную незрелость с несовершенством отечественной системы образования. В 1870-е гг. в его публицистике эта тема становится центральной: «Вред нигилизма заключается главным образом в миазмах его существования, а не в способности к самостоятельно организованному политическому действию. Искренними нигилистами могут быть только совершенно незрелые молодые люди, которых, к сожалению, благодаря фальшивой педагогической системе… в таком обилии выбрасывали на свет наши учебные заведения»98.
В научной литературе неоднократно отмечалось, что именно Михаил Никифорович и ввел термин «нигилизм» в современном его значении в русскую мысль99. Проблема этого явления в литературе и в жизни чрезвычайно занимала мыслителя. Так, «Отцам и детям» он посвящает две программные рецензии — «Роман Тургенева и его критики» (1862) и «О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева» (1862). В последней Катков определяет нигилизм как «отрицательный догматизм», «религию отрицания» со своими авторитетами, культами и догмами: «Отрицательное направление есть своего рода религия, — религия опрокинутая, исполненная внутреннего противоречия и бессмыслицы, но, тем не менее, религия, которая может иметь своих учеников и фанатиков»100. Уже в этой ранней антинигилистической полемике публицист намечает свою антиреволюционную программу просвещения — «философию жизни»: «Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений — усиление всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, политических, экономических, — тем менее будет оставаться места для отрицательных сил в общественной жизни»101.
В 1866 г., размышляя об источниках и причинах распространения нигилизма, Катков в очередной раз корректно, но твердо указывает на духовную атмосферу Николаевской эпохи с ее засильем цензуры и отсутствием возможностей для развития свободной мысли: «Все эти лжеучения, все эти дурные направления родились и приобрели силу посреди общества, не знавшего ни науки, свободной, уважаемой и сильной; ни публичности в делах, касающихся самых дорогих для него интересов, — посреди общества, находившегося под цензурой и полицейским надзором во всех сферах своей жизни. Все эти лжеучения и дурные направления, на которые слышатся теперь жалобы, суть плод мысли подавленной, неразвитой, рабской во всех своих инстинктах, одичавшей в своих темных трущобах»102.
Интересно, что крупный консервативный философ, Н. Я. Данилевский, не принял предложенной Катковым трактовки нигилизма как плода, взращенного на русской почве, в условиях политической несвободы. Для автора «России и Европы», нигилизм — болезнь «европейничанья»: «Каким образом газета, подобная „Московским ведомостям“ (обыкновенно столь здраво смотрящая на вещи), под влиянием, справедливого впрочем, недовольства нашею системою общественного образования — обращает нигилизм в произведение русской почвы? Это решительно непонятно. Нигилизм — ни более ни менее, как одна из форм нашего европейничанья»103. Мысль Данилевского перекликается со словами его друга, «почвенника» Н. Н. Страхова, называвшего нигилизм «крайним западничеством»104.
Безусловно, и сам Михаил Никифорович хорошо понимал западноевропейские корни новейших лжеучений. Так, еще в ранней статье 1858 г. «Русская сельская община» в «Русском вестнике» он пророчески предупреждает читателей о мировой опасности радикальной революционной утопии: «В коммунизме исчезает все человеческое, всякая возможность человеческого существования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в действительность, то совершилось бы нечто совершенно противоположное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состояние, из которого таким медленным, таким тягостным трудом вырабатывалось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не вполне замиренное присутствие в современном обществе составляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь, который при благоприятных условиях через целый ряд веков мог бы привести опять только к тому же состоянию недуга, с тем, может быть, чтобы снова подобным же самоубийством избавляться от болезненного чувства и снова совершать тот путь возрождения, как по учению Будды, а также и по учению друидов, совершается переселение душ. Что же касается до уничтожения всякой собственности, как равно всякой личности, в теориях коммунизма, — то из этой бездны отрицания невозможен никакой исход, кроме разве волшебных представлений à la Fourrier105»106. Катков был прекрасно осведомлен о тех планах в отношении России, которые активно формировались в Западной Европе в середине XIX в.: «Наши заграничные refugies107 (мы хорошо знаем, что это за люди) находят, что Европа отжила свое время, что революции не удаются в ней, что в ней есть много всякого хлама, препятствующего прогрессу, как, например: наука, цивилизация, свобода нрава, собственности и личности, — и вот они возымели благую мысль избрать театром для своих экспериментов Россию, где, по их мнению, этих препятствий нет или где они недостаточно сильны, чтобы оказать успешный отпор. Они пишут и доказывают, что Россия есть обетованная страна коммунизма, что она позволит делать с собою что угодно, что она стерпит все, что оказалось нестерпимым для всех человеческих цивилизаций. Они уверены, что на нее можно излить полный фиал всех безумств и всех глупостей, всей мертвечины и всех отседов, которые скоплялись в разных местах и отовсюду выброшены, что для такой операции время теперь благоприятно и что не надобно только затрудняться в выборе средств. Все эти прелести с разными гримасами появлялись в русских заграничных листках, — все они воспроизводятся и развиваются в подметных прокламациях, которые появляются в самой России и которые были бы невозможны нигде, кроме России»108.
Противники, в свою очередь, зачастую видели в фигуре московского публициста более опасного врага, чем в безвольном и играющем в либерализм правительстве. Неслучайно в 1860-е и 1870-е гг. Каткова считали первым врагом К. Маркса в России. Во многом именно благодаря публицистике Михаила Никифоровича теоретик коммунистической революции воспринимался в российском обществе как главный идеолог нигилизма. Так смотрел на него и автор «Бесов»109.
В передовой статье 1871 г. Катков писал: «Что за человек этот Карл Маркс? Нам это тем интереснее знать, что, по последним известиям, которые мы нашли в сегодняшних английских газетах, Карл Маркс избран заведовать вместе и Германией, и Россией. Это, значит, наш благодетель»110. Интересен комментарий советского партийного идеолога В. Шульгина: «С тревогой следит за жизнью „Интернационала“ Катков — этот бешеный черносотенец, по определению Ленина. Каткова интересует не только деятельность „Интер-национала“, но и подготовленные рядом правительств меры по его удушению. В каждом революционном акте, совершаемом в России: в студенческом движении, в стачках рабочих и даже в Нечаевском процессе — Катков склонен был видеть руку интернационала»111.
К сожалению, большинство современников Каткова, и в особенности органы государственной власти, не осознавали той опасности, которую несли идеи Маркса для России. Как свидетельствует советский исследователь, «царские власти, и это было характерно для цензурных органов в течение многих лет, не понимали революционного существа экономической теории Маркса и считали, что его научные труды не могут оказать сколько-нибудь вредного воздействия на умы»112.
Нельзя не согласиться с А. Николюкиным в том, что Катков глубже многих современников смог осознать антихристианскую суть и опасность грядущего коммунизма113. Но высшей кульминацией его борьбы с революционным духом стало разоблачение кумира российских интеллигентов А. И. Герцена, издававшего в Лондоне журнал «Колокол».
Один из богатейших людей России Александр Иванович Герцен (1812– 1870) еще в юности наряду с гегельянством усвоил идеи утопического социализма Сен-Симона и Фурье, а в 1840-е гг. стал вождем западников. В 1847 г. он эмигрировал в Западную Европу, где под влиянием кровавой революции 1848 г. и общения с Прудоном из республиканца превратился в убежденного социалиста, а в 1857 г. обосновался в Лондоне и начал издавать еженедельную газету «Колокол». В первые пять лет, несмотря на ее официальное запрещение в России, Герцен добился большой популярности. Газета рассылалась всем крупным чиновникам Российской империи, включая даже императора Александра II. «Скажите Герцену, чтобы он не бранил меня, иначе я не буду абонироваться на его газету», — мрачно шутил государь.
Катков был убежден, что готовивший отечеству «кровавые реформы» Герцен и прочие революционеры — это лишь марионетки «в руках европейски организованной против нас революции», жалкое орудие внешних врагов России114. В напряженные месяцы польского восстания, когда российское революционное движение выступило с поддержкой повстанцев, издатель оценивал их деятельность так: «Может ли быть что-нибудь позорнее, что-нибудь презреннее той роли, которую играли эти наши преобразователи человечества с их „Колоколом“, с их революционными прокламациями, в которых добродушно предлагалось вырезать до 100000 помещиков и провозглашалась демократическая и социальная республика, с их малороссиянизмом , с их планами раздробить Россию и покрыть ее фаланстериями?..»115.
Н. П. Мещерский в своих воспоминаниях доходит до библейской патетики, описывая торжество Каткова над Герценом как победу ветхозаветного героя Давида над великаном Голиафом: «И вот в это время, в эпоху безграничного владычества Герцена, вдруг грянул гром. Среди раболепного безмолвия послышалась речь Каткова, твердая, мудрая, властная… Камень, брошенный мощной рукой, попал прямо в цель. Скудельный божок дал трещину с самой макушки до подножия. Вскоре новый удар — и божок рухнул в прах. Остались одни черепки. Как ни старались потом ему близкие склеить черепки, божка уже не удалось воскресить: черепки остались черепками. Появление нового Давида вызвало в России неописуемое изумление… Редко в жизни приходилось быть свидетелем такого разительного и быстрого торжества правды над неправдою, света над тьмою. Лондонский кошмар исчез. Оставался тот же Герцен, печатался тот же „Колокол“, но значение его было утрачено — его не читали. Паломники исчезли»116.
Православный священник Иосиф Фудель так описывал впоследствии впечатление, которое произвели на российское образованное общество статьи Каткова против Герцена: «В „Заметке для издателя ‘Колокола’“ русские читатели увидели в обнаженном виде не только Герцена, но и самих себя, потому что заметка наносила удар и тому „хамскому настроению русского общества, которое делало возможным и питало эту пропаганду“» 117 .
Известный философ и издатель Н. П. Гиляров-Платонов рассматривает поход Каткова против Герцена как рубеж, «за которым в бывшем теоретике, доктринере, преклонявшемся перед английскими идеалами, проснулся русский человек, узревший опасности для Русской Земли, надвигавшиеся от тех самых доктрин, которые, отвлеченно взятые, казались неоспоримыми положениями. Но которые в применении к Русской стране грозили сгубить ее»118.
* * *
1863 г. стал главным рубежом не только в общественной и издательской деятельности М. Н. Каткова, но и в эволюции его консервативного мировоззрения, окончательно освободившегося от пут либеральных идей, как это подчеркивается большинством исследователей.
В 1863 г. Катков берет в аренду «Московские ведомости», быстро превратив скромное университетское издание в самую влиятельную политическую газету Российской империи. Его трудами она становится предметом внимательного чтения двух российских императоров — Александра II, а затем и Александра III (считавших газету «своей»), чиновничьей элиты, видных общественных деятелей и литераторов, крупнейших журналистов, дипломатов и политиков Западной Европы. Ф. М. Достоевский в одном из писем 1866 г. к Каткову признавался: «Вы не поверите, с каким восторгом читаю я теперь „Московские ведомости“. Все увидели и узнали теперь, что они всегда были независимым органом…»119. Е. Феоктистов вспоминал, что «под влиянием громовых статей „Московских ведомостей“ рассеивался мало-помалу хаос в понятиях общества»; Катков, по его словам, «создал здоровое общественное мнение…, имя его гремело по всей России, едва ли кто после Пушкина пользовался такой славой»120.
Князь В. П. Мещерский, первое произведение которого «Россия под пером замечательного человека» появилось в «Русском вестнике» в конце 1860-х гг., полагал, что сначала Катков был искренним либералом, но ход общественно-политического развития России сделал его консерватором: «Что удивительного, если, молодой, он своим чутким и восприимчивым умом принимался обожать какого-нибудь философа или какой-нибудь политический строй как политический идеал; но в день, когда он зашел в свою келью редактора „Московских ведомостей“, Катков всем своим умом до такой степени почувствовал себя и осознал себя не только в Москве, но и в России, что сразу воспринял все политические идеалы ее жизни. Его к тому пришпорило, так сказать, сумбурное в своем глупом поклонении пошлому либерализму время, и, с жаждою борьбы за порядок в мыслях, он всего себя отдал на борьбу за порядок в жизни»121.
Возглавив издание накануне своего 45-летия, «трибун Страстного бульвара» оставался у его руля на протяжении почти четверти века — до конца жизни. Все это время он ежедневно писал в свежий номер одну-две, иногда три статьи, так что за год их собиралось до 600–700. После его смерти вдова опубликовала 25 томов этих передовиц, распределив их по годам и снабдив книги ценным тематическим указателем.
Близкий сподвижник Каткова профессор Н. А. Любимов отмечал: «Обозреть деятельность Михаила Никифоровича с эпохи 63-го года — значит проследить, как из публициста с великим запасом ума, знания, характера национальное чувство, проникнувшее все существо его, образовало государственного деятеля без государственной должности, властного одним орудием — пером122.
«Катков никогда ничего не делал для угождения публики, — говорил другой постоянный автор «Русского вестника», романист и критик В. Г. Авсеенко, — для внешнего успеха своих изданий. Раз в чем-нибудь убеждался, он высказывал свою мысль до конца, резко и ярко, хотя бы и знал заранее, что в данную минуту общественная масса будет против него. Впрочем, он редко говорил к массе. Его лучшие, самые обдуманные и обработанные статьи всегда были обращены к властным правительственным сферам; это был публицист не столько газетный, сколько государственный»123.
Острые бескомпромиссные передовицы Каткова производили резонанс в обществе и создавали публицисту множество опасных и влиятельных врагов, среди которых были не только либеральные журналисты, но и их высокопоставленные и могущественные покровители (младший брат императора Великий князь Константин Николаевич, министры П. А. Валуев, Н. Х. Бунге, А. В. Головин, М. Т. Лорис-Меликов и др.). Однако среди представителей государственной элиты имелись и его союзники. Одним из главных был обер-прокурор Священного Синода К. П. Победоносцев, который очень высоко оценивал публицистику Михаила Никифоровича, — по словам Феоктистова, «зачитывался». Особенно активным их сотрудничество стало в период общественно-политического кризиса рубежа 1870–1880-х гг. Победоносцев писал тогда Каткову: «Читаю с отрадой Ваши прекрасные статьи, которые бьют молотом в больное место. Дай Боже Вам подвизаться крепко на защиту правды русского чувства и русских интересов»124.
Характерно, что Константин Петрович ставил знаменитого издателя много выше другого видного публициста, князя В. П. Мещерского. Он называл его
«борцом за русскую правду» и, будучи наставником и особо приближенным лицом к наследнику Великому князю Александру Александровичу, впоследствии императору Александру III, неоднократно поддерживал при императорском дворе. Как отмечает А. Ю. Полунов, именно Победоносцев служил своего рода связующим звеном между Катковым и наследником престола, рекомендуя последнему для чтения катковские передовицы, а также выступал защитником московского публициста от монаршего гнева из-за вмешательства того в дела внешней политики, которую русский император считал только своей прерогативой125.
Современники часто сравнивали «Московские ведомости» с неофициальным департаментом, обладавшим собственным ни на кого не похожим независимым голосом. Н. П. Гиляров-Платонов писал: «„Московские Ведомости“ образовали своего рода департамент, в котором обсуждались и подготовлялись к решению важнейшие вопросы по внутренней и внешней политике, — департамент неофициальный, с голосом независимым и невластным, но к звукам которого нельзя было оставаться глухим, и которого сила удваивалась настойчивым повторением раз поставленных положений и беспощадною полемикой с противниками, кто бы они ни были и где бы ни стояли, — в рядах ли публицистики, на верхних ли ступенях государственной иерархии»126.
В Польском восстании 1863 г. и открывшихся в свете его слабости столичной бюрократии и предательстве российской интеллигенции М. Н. Катков первым увидел большую угрозу «тысячелетнему делу» русского народа: «Какое русское сердце не сожмется болезненно при одной мысли, не говорим — о разрушении, а только о серьезной опасности, которая стала бы грозить делу тысячелетней исполненной тяжких трудов, лишений и испытаний исторической жизни русского народа? Пока почти все, чем только может дорожить наш народ, было принесено в жертву одному великому делу — делу собирания Русской земли в одно целое, делу созидания этого громадного государственного тела: проливались для этой цели потоки крови, гибли целые поколения; для укрепления единой государственной власти народ отказывался от всех своих прав и вольностей, одушевляемый инстинктивною верой, что за собиранием земли Русской не замедлит последовать созидание ее внутреннего благосостояния путем разумного развития свободы, столь свойственной нашему народному быту. И вдруг все это великое многотрудное дело должно поколебаться, должно подвергнуться опасности»127.
Не менее серьезной проблемой Катков считал активное распространение столичными журналистами ложных, по его мнению, понятий о России, по которым иностранные наблюдатели заключали, что «Россия есть призрак и должна исчезнуть как призрак»128. Публицист не жалел жестких слов для обличения как петербургских, так и эмигрантских журналистов — «предателей русского народа» из лондонского «Колокола»: «Эти выродки перешли открыто в лагерь врагов России, мало того, что они всячески стараются пособлять польскому восстанию и осыпают циническими ругательствами русских, выразивших за границей робкое сочувствие русскому делу подпиской в пользу раненых русских воинов, — они ругаются над русским народом вообще и объявляют Россию не чем иным, как „глупой выдумкой“, которая должна бесследно исчезнуть с лица земли»129. Редактор «Московских ведомостей» верил, что этим «предателям» и их «глупым выдумкам» может противостоять свободная сила общественного мнения: «Общественное мнение есть великая сила нашего времени», — писал он в своей знаменитой статье «Что нам делать с Польшей»130.
М. О. Меньшиков сравнивал прозвучавший в тот момент на всю Россию «мощный голос» Каткова со словом патриарха Гермогена в Смутное время: «Именно громовые статьи Каткова… спасли тогда Россию, разбудили власть, ободрили ее, вызвали огромный патриотический подъем, который заставил отступить слагавшуюся было на Западе коалицию. В своем роде это был голос патриарха Гермогена, как бы воскресший через два с половиной века в сходственных обстоятельствах польской смуты. На призыв Каткова отозвалось дворянство, старообрядчество и все наши политические классы, кроме заведомых предателей, — и Россия была спасена»131.
Предложенная Михаилом Никифоровичем в газете программа действий в отношении Польши получила одобрение на официальном государственном уровне. 12 марта 1867 г. Царство польское было преобразовано в Привислен-ские губернии с упразднением существовавших элементов политической автономии.
-
Н. А. Любимов определил «исторический подвиг Каткова в эпоху польского восстания» центральным событием его жизни: «Пройдут века, и в отдалении прошлого эпоха, среди которой действовал Катков, представится как новое смутное время, когда историческое течение могло взять то или другое направление, и решение поставленной историей задачи зависело от сил, присутствующих в государственном организме и способных выйти на зов событий. Катков был такой силой, и русская земля обязана ему вечною благодарностью. Он имеет право на государственный памятник наравне с людьми, наиболее послужившими России»132.
В. А. Грингмут также был убежден, что «если бы его могучий голос не раздавался, постоянно будя совесть России и призывая ее к исполнению ее нравственно-исторического долга, история России приняла бы совершенно иной оборот на радость внешним и внутренним врагам ее славы, могущества и единства»133.
* * *
«Особо важное значение в объединении государства и единении нации» М. Н. Катков придавал Церкви, видя ее ведущую роль в нравственном влиянии на общество в силу приоритета «нравственных законов над всеми государственными и общественными институтами»134. Он сам неоднократно писал статьи на церковные темы и привлекал к сотрудничеству известных церковных авторов. Нельзя не согласиться с Е. В. Переваловой, что материалы «Московских ведомостей» и «Русского вестника» по церковной тематике отличались «подлинно православным пониманием вопросов и неподдельной озабоченностью судьбами Православной Церкви в России и в мире»135.
Воззрения Михаила Никифоровича на Православную Церковь и ее роль в обществе формировались под влиянием многих выдающихся церковных деятелей: митрополита Филарета (Дроздова), архиепископа Николая (Касаткина), епископа Игнатия (Рождественского), сербского митрополита Михаила (Йовановича), архиепископа Леонида (Краснопевкова), ректора Московской духовной академии (1878–1886) протоиерея С. К. Смирнова и др.136.
М. Н. Катков с самого начала был одним из главных идеологов т. н. «великих реформ» императора Александра II, стремясь соединить социальное реформаторство с верностью традиционным началам русской жизни — Православию и самодержавию. Издатель старался направлять движение государственных преобразований во многих областях — судебной, крестьянской, военной и т. д. Но, пожалуй, главным его достижением стала грандиозная реформа системы российского образования — от начального и гимназического до университетского. Именно в образовании этот бывший университетский профессор видел основу для борьбы с нигилизмом и усиления положительных элементов в общественной жизни.
Катков отстаивал систему классического образования не только на словах, но старался утвердить ее в российском обществе и практически. Для этого 13 июля 1868 г. вместе с П. М. Леонтьевым он создает Лицей Цесаревича Николая. Свою задачу основатели заведения сформулировали в «Московских ведомостях» так: «Провести детей, которые будут вверены заведению, через крепкую и здоровую школу и выпустить их зрелыми, готовыми к жизни юношами, которые в своем звании русского были бы в полной силе детьми Европы — вот заявленная цель нашего предприятия, для достижения которой мы не пожалеем усилий»137.
Помимо теснейшей связи с Православной Церковью и опоры на классические языки, в Лицее велась работа с одаренными детьми. Назовем лишь некоторые известные имена его выпускников: Ю. А. Кулаковский (1855–1919, выдающийся византолог), И. Ф. Романов-Рцы (1859–1913, публицист и литературный критик), А. Н. Волжин (1860–1933, предпоследний обер-прокурор Святейшего синода), князь А. Н. Лобанов-Ростовский (1862–1921, председатель Совета «Русского Собрания»), А. Я. Головин (1863–1930, известный художник), И. Э. Грабарь (1871–1960, живописец и искусствовед), С. В. Симанский (1877– 1970, будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий I), Н. С. Арсеньев (1888–1977, религиозный философ-эмигрант), С. В. Бахрушин (1888–1950, российский историк, член-корреспондент АН СССР).
* * *
Последнее десятилетие правления Александра II М. Н. Катков оценивал критически. В статье 1883 г., посвященной памяти Тургенева, он писал, что уже в начале 1870-х гг. наступило «печальное время антирусской реакции; дух в обществе упал, и к началу нового десятилетия снова овладело им растление. 70-е годы были периодом возраставшего ослабления правительства, упадка государственного духа, революционной пропаганды, которая охватила своей сетью всю страну и стала властью, с которой спорить было нелегко»138. В письме императору Александру III от 3 февраля 1884 г. Катков признавался: «В последние годы минувшего царствования тяжело было оставаться в положении праздного наблюдателя, который явно видит зло и пути его, но не может ничего сделать, и только печально убеждается в верности своих бесполезных предвидений и предостережений»139.
Ответственность за убийство государя 1 марта 1881 г. публицист возложил не столько на «ничтожную кучку ошалелых мальчишек», сколько на общество в целом, которое, «гоняясь за разными видами либерализма, не понимая сущности свободы, попало в рабство, и притом в самый худший из видов его — в духовное рабство»140. Давая нелицеприятную оценку ситуации в российском обществе накануне 1 марта, Михаил Никифорович констатировал: «По мере того, как ослабляется действие законной власти, нарождаются дикие власти»141, имеющие вполне понятную цель.
Взрыв 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге положил начало новому историческому периоду, получившему название эпохи контрреформ. О взошедшем на престол Александре III Великий князь Александр Михайлович писал, что «ни один из Романовых не подходил так близко к народным представлениям о царе, как этот богатырь с русой бородой»142.
В письме к брату Великому князю Владимиру Александровичу новый монарх так изложил свое политическое кредо: «Я никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной для России»143.
Царский Манифест 29 апреля 1881 г. о незыблемости самодержавия Катков приветствовал восторженно — как торжество проводимых им идей: «Как манны небесной народное чувство ждало этого царственного слова. В нем наше спасение: оно возвращает русскому народу русского Царя Самодержавного, от Бога приявшего власть свою и лишь пред Богом ответственного. Посрамлены ковы наших врагов и поползновения малодушных в нашей среде умалить и унизить священную власть и отнять у нашего народа его драгоценнейшее достояние, наследие его многовековой страды и крови, силу его жизни, залог его будущего»144.
В передовице «Московских ведомостей» от 16 июля 1881 г. «По поводу приезда Императора Александра III в Москву» Катков определяет единую власть самодержавного монарха как «великое благо русского народа, завещанное ему предками и добытое их трудом и кровью»: «С самодержавной властью русского Государя неразрывно соединено самое существование России. Незыблемая и свободная Верховная власть, какая Богом дарована Русскому Государю, всего вернее обеспечивает народное благо и всего лучше может способствовать ему. Зато все, что есть в России русского, и здравомыслящего, и честного, — все должно стоять на страже этого великого начала. Вот правильное и истинно русское отношение между Царем и народом: Царь — за весь народ, весь народ — за Царя»145.
Грингмут так комментирует переход власти от Александра II к Александру III и переломные первые годы правления нового императора: «В 1881 г. Россия обогнула тот опасный мыс, о который она могла разбиться и потерпеть крушение, а в 1884 г. перед ней уже расстилался широкий „царский“ путь, по которому ее совершенно безопасно вел гений Александра III»146.
Последний период (1881–1887) в деятельности московского публициста был ознаменован распространением его влияния на все сферы русской жизни. Один из биографов Каткова, Семен Григорьевич Щегловитов (псевдоним С. Неведенский), затрудняется дать точную характеристику его философским взглядам, отказываясь признать его основателем какого-либо нового направления, но отмечает, что он «иногда называл взгляды последнего периода своей деятельности русскими… Назвавши свое направление русским, Катков, пожалуй, правильно охарактеризовал его»147.
Профессор Колумбийского Университета Р. С. Уортман в авторитетном труде, посвященном истории идей и символов императорской России, одним из главных источников «национального мифа» царствования Александра III объявляет «государственный национализм» Каткова148.
Наряду с К. П. Победоносцевым и князем В. П. Мещерским Михаила Никифоровича называли одним из главных идеологов нового курса «контрреформ». Государь высоко оценил заслуги знаменитого издателя перед Отечеством, пожаловав ему чин тайного советника (1882) и ордена Св. Анны 1-й степени (1883) и Св. Владимира 2-й степени (1886).
В 1880-е гг. в петербургских интеллигентских кругах сформировался образ Каткова-реакционера, будто бы почти единовластно правившего Россией, что, безусловно, не соответствовало действительности. В частности, окончательно перешедший в 1880-е гг. в либеральный лагерь философ В. С. Соловьев в письме к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу от 12 октября 1886 г. называл сложившуюся в России систему «псевдотеократией», в которой властвует «зловредный триумвират из лжецерковника Победоносцева, лжегосударственного человека Д. А. Толстого и лжепророка Каткова»149.
В то же время один из современников Каткова отмечает: «Катков… в сущности был самым ярким представителем оппозиции и не было почти случая, когда он был вполне доволен Петербургом, как еще реже, мы думаем, были случаи, когда Катковым были довольны в Петербурге»150. Выступавший при жизни оппонентом знаменитого издателя Н. П. Гиляров-Платонов в некрологе ему напишет: «Если кому казался Катков силой, задерживающею движение вперед, то не покатимся ли мы назад с неудержимою быстротой по кончине того, кому всякая общественная свобода многим обязана, а свобода печати, как она ни умеренна, обязана даже всем?»151.
В феврале 1884 г. в письме императору Александру III Михаил Никифорович как бы подводит итоги своей многолетней деятельности на посту редактора «Московских ведомостей»: «Моя газета была не просто газетой, а случайным органом государственной деятельности. В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались. Она участвовала в событиях, и пред историей она будет свидетельствовать не только о том, что сделано, но и о том, что следовало делать и чего делать не следовало»152.
В марте 1887 г., незадолго до смерти публициста, Победоносцев писал государю: «Катков — высокоталантливый журналист, умный, чуткий к истинно русским интересам и к твердым охранительным началам. <…> Он стал предметом фанатической ненависти у всех врагов порядка и предметом поклонения, авторитетом у многих русских людей, стремящихся к водворению порядка. <…> Вся сила Каткова — в нерве журнальной его деятельности как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное — мелочь или дрянь, или торговая лавочка»153.
Выдающийся просветитель завершил жизненный путь 20 июля 1887 г. в своей подмосковной усадьбе Знаменское Подольского уезда Московской губернии. Кончина его была истинно христианской: во все время предсмертной болезни (рак желудка) он неоднократно приобщался Святых Таин и был напутствован елеосвящением. Коренной москвич, Катков упокоился в любимой им первопрестольной столице на кладбище Алексеевского монастыря. В слове на отпевании митрополит Московский и Коломенский Иоанникий (Руднев) отметил уникальность его роли в российской и мировой истории: «Человек, не занимавший никакого видного высокого поста, не имевший никакой правительственной власти, делается руководителем общественного мнения многомиллионного народа; к голосу его прислушиваются иностранные народы и принимают его в соображение при своих мероприятиях»154.
Узнав о смерти Михаила Никифоровича, император Александр III послал его вдове телеграмму, которая была напечатана в «Московских ведомостях»: «Вместе со всеми истинно русскими людьми глубоко скорблю о вашей и Нашей утрате. Сильное слово покойного мужа вашего, одушевленное горячею любовью к Отечеству, возбуждало русское чувство и укрепляло здравую мысль в смутные времена. Россия не забудет его заслуги, и все соединяются с Нами в единодушной молитве об упокоении души его»155.
Процитируем еще несколько откликов церковной и светской прессы. «Московские церковные ведомости» писали, что публицист «обнаружил всю глубину зол, в которую впал наш учащийся мир, то праздношатательство, тунеядничество, постыдное презрение честного труда… в руководителях этого мира… Во дни ложного либерализма возвышал могучий голос против разрушения священных уз семьи, против безначалия»156. Автор церковной газеты свидетельствует, что Катков беспощадно громил «злокозненно переданные нам извне затеи „правового порядка“ и как бы грудью целого русского народа отстаивал драгоценное наследие его истории — Православную веру и самодержавную власть <…>. Раскрывал всю глубину обуявшего нас зла и заглушал собою бесстыдное рукоплескание убийцам и разрушителям веками сплотившейся жизни Русского царства». Причем он «смотрел на русского человека не только как на гражданина, но и как на христианина, которого высшие идеалы есть Бог и вечность»157.
Историк и филолог-славист П. А. Кулаковский на страницах «Варшавского дневника» отмечал: «Катков был не только великий сын Русской земли — это был деятель европейский, мировой. Его слово было взвешиваемо, ценимо как в старом, так и в новом свете… Удивительная сила логики, замечательная сила выражения, глубина знания поражали всякого в статьях Михаила Никифоровича Каткова»158.
Действительно, на смерть Каткова откликнулись не только отечественные, но практически все ведущие европейские издания. Французский историк А. Леруа-Болье, в частности, очень точно разглядел самостоятельность, самобытность московского мыслителя и публициста, его независимость от партийной борьбы: «Катков весьма отличался от славянофилов, с которыми его часто смешивают на Западе»; он «не принадлежал ни к какой партии и ни к какой школе: для этого он был слишком своеобразен, слишком независим, слишком исключителен. <…> Он был скорее трибуном, могучий голос которого вдохновлялся национальными чувствами, а не политическими формулами или отвлеченными теориями. Это был ум положительный, не заботящийся о доктринах, пользовавшийся ими вместо того, чтобы служить им»159.
Итак, для многих современников Катков был «образцом христианина и гражданина», «охранявшим духовно историческую личность русского народа», «представителем и выразителем» народных мыслей160. В нем видели «явление небывалое, беспримерное, положение исключительное… Постоянное соединение государственного деятеля и публициста в одном лице, самое понимание обязанностей публициста как стража государственных интересов»161.
* * *
Личность и труды М. Н. Каткова оказали существенное влияние на его современников и рассматривались ими как пример деятельности по укреплению традиционных начал русской жизни, а сам Михаил Никифорович занимал центральное место как в политической жизни Российской империи 1860–1880-х гг., так и в развитии идей русского консерватизма, являясь по точному выражению К. Н. Леонтьева «стражем Церкви и Царства».
Но драматические события нашей истории почти на столетие вырвали из отечественной культуры многие достойнейшие имена, в том числе и имя Каткова. В результате возможность осмысления трудов мыслителя и публициста — уникального опыта его полемики с нигилистическими и антигосударственными силами, защиты Православной Церкви и русской культуры и проч. — отсутствовала. Хочется надеяться, что дальнейшее серьезное научное исследование религиозно-философского наследия и литературно-издательской деятельности Михаила Никифоровича Каткова позволит отказаться от сложившихся стереотипов и поверхностных взглядов и по достоинству оценить его вклад в развитие отечественной религиозно-философской мысли и русской культуры.
6 июня. № 23. URL: http://dugward.ru/library/katkov/katkov_nashi_zagranichnye_ regugies.html (дата обращения: 31.07.2018).
Igor Gavrilov . M. N. Katkov. Life, Work, Worldview.