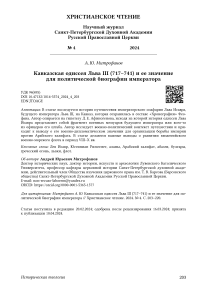Кавказская Одиссея Льва III (717-741) и ее значение для политической биографии императора
Автор: Митрофанов А.Ю.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется история путешествия императорского спафария Льва Исавра, будущего императора Льва III, на Кавказ, которая сохранилась в составе «Хронографии» Феофана. Автор опирается на гипотезу Д. Е. Афиногенова, исходя из которой история одиссеи Льва Исавра представляет собой фрагмент военных мемуаров будущего императора или кого-то из офицеров его штаба. Автор исследует военно-политический контекст путешествия и приходит к выводу о его военно-дипломатическом значении для организации борьбы империи против Арабского халифата. В статье делаются важные выводы о развитии византийского военно-морского флота в период VIII-X вв.
Лев исавр, юстиниан ринотмет, аланы, арабский халифат, абазги, булгары, греческий огонь, лыжи, флот
Короткий адрес: https://sciup.org/140308464
IDR: 140308464 | УДК: 94(495) | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_203
Текст научной статьи Кавказская Одиссея Льва III (717-741) и ее значение для политической биографии императора
Верховный Правитель России адмирал Александр Васильевич Колчак (1874–1920) в краткой заметке, написанной в период Первой мировой войны (1914-1918) и посвященной целям участников этого глобального конфликта, подчеркивал ключевое стратегическое значение Малоазийского полуострова. «Одной из секретных и формально необъявленных целей последней Европейской войны с точки зрения главного и общего противника союзников — Германии, — писал адмирал, — является обладание Малой Азией — стратегическим ключом Старого Света. Обладание Малой Азией определяет огромное влияние на соприкасающиеся с ней водные бассейны и территориальные пространства трех материков. С морской точки зрения Малая Азия господствует над водными районами восточной части Средиземного моря с путями к Суэцкому каналу, Черного моря с проливами и выходами к Персидскому заливу и Малой Азии, определяет господствующее влияние на весь Юг России, Кавказ, Персию, Аравию…» [Koltchak, 2019, 18].
Вопреки расхожему представлению о том, что Средневековье не знало стратегии и геополитики, будто бы изобретенных в XVIII-XIX вв. военными и политическими деятелями Нового времени, история арабо-византийского военного противостояния VII–VIII вв. в полной мере подтверждает справедливость слов, высказанных адмиралом Колчаком в начале XX столетия. Конница Арабского халифата начиная со 2-й четв. VII в. регулярно опустошала византийскую Армению, являвшуюся ключом к провинциям Малой Азии [Kaegi, 1992, 180–204; Шагинян, 2011, 131–141], в то время как арабский флот, созданный в свое время при активном участии персидских флотоводцев [Дмитриев, 2017, 34–44], дважды непосредственно угрожал Константинополю: в 674–678 и 715–718 гг. [Pryor, Jeffreys, 2006, 26–27, 31–32; Банников, Морозов, 2014, 396– 399]. В начале осады 715–718 гг. арабская полевая армия под командованием Масламы ибн Абдул-Малика (685–738) захватила Никею, а арабский флот вошел в акваторию Мраморного моря и высадил десант на фракийском берегу для блокады Константинополя с суши. Эти драматические события были отражены не только в византийских, но и в арабских источниках [Beihammer, 2003, 373–383, 385–390].
Непосредственной целью Омейядов был захват Константинополя и покорение ослабевшей Византийской империи, наиболее развитая в культурном и экономическом отношении часть которой располагалась на территории Малой Азии. Это позволяло халифам в перспективе исламизировать густонаселенные области восточных фем Византийской империи, начать экспансию на территории Балканского полуострова (за 600 лет до османов), используя экономические ресурсы малоазийских городов, прорваться на кораблях через Босфор в Северное Причерноморье и изгнать из портовых городов Крыма и Приазовья тудунов Хазарского каганата, остававшегося на протяжении нескольких столетий главным военно-политическим противником сначала Омейядского, а затем Аббасидского халифата на Северном Кавказе. Но амбициозные планы арабских халифов были сорваны благодаря стратегическому таланту стратига фемы Анатолик Конона, будущего императора Флавиана Льва III (717–718) [Lilie, Ludwig, Zielke, Pratsch, 2013]. Искусно затягивая переговоры с победоносными арабскими военачальниками, Лев сверг Феодосия III (715-717), захватил престол, разгромил арабский флот в нескольких морских сражениях в Мраморном море; при этом Лев также заключил договор с булгарским ханом Тервелом (700–721) и с его помощью разбил арабский экспедиционный корпус (численность которого достигала 180 000 воинов), осаждавший византийскую столицу, во Фракии. Морские победы Льва III в значительной степени были обеспечены как наличием на вооружении византийского флота «греческого огня» — возгорающейся смеси, с помощью которой ромеи поджигали корабли противника, так и экипажами коптских моряков-христиан, мобилизованных арабскими халифами и переходивших со своими кораблями на византийскую сторону [Pryor, Jeffreys, 2006, 31–32; Банников, Морозов, 2014, 398–399]. Однако решающую роль в достижении этих побед, конечно же, играла личность самого императора. В данной публикации мы рассмотрим один из наиболее ранних известных эпизодов политической биографии Льва Исавра, который описывает Кавказскую одиссею будущего императора и предваряет историю его яркого и противоречивого царствования.
Георгий Синкелл (f после 810 г.), секретарь Константинопольского патриарха Та-расия (784–806) и выдающийся интеллектуал времен императрицы Ирины (780–802), на протяжении многих лет собирал исторические книги и документы по истории правящей императорской (исаврийской) династии, формировал «досье», которое впоследствии легло в основу наиболее оригинальных разделов знаменитой «Хронографии» Феофана. Несмотря на то что традиция приписала авторство этой «Хронографии» Феофану Исповеднику (758/760–817/818), в действительности, как показал Пауль Шпек, это историческое сочинение представляет собой компиляцию, подготовленную Синкеллом и переписанную в сер. IX в. монахом Феофаном — родственником императрицы Зои Карбонопсины [Speck, 1994, 431-483]. Исследование политической биографии императора Льва III (717-741), основателя исаврийской династии и основоположника византийского иконоборчества [Lilie, Ludwig, Zielke, Pratsch, 2013], осложняется фрагментарным состоянием и тенденциозным характером источников VIII в., использованных и пересказанных Синкеллом/Феофаном. Реконструкция этих источников представляет собой, в сущности, самостоятельную исследовательскую задачу, которую современные специалисты решают совершенно различным образом. Например, Джон Ховард-Джонтсон полагает, что события царствования Юстиниана II Ринотмета (685–695 и 705–711), его ближайших преемников и ранние эпизоды из жизни Льва Исавра до его восшествия на престол могли быть изложены Синкеллом/Феофаном по материалам утраченной «Хронографии» некоего Траяна Патрикия, упомянутого автором Суды (византийской энциклопедии X в.) [Howard-Johnston, 2010, 307]. Пауль Шпек аргументированно возражал сторонникам подобной точки зрения и утверждал, что в основу «Хронографии», приписываемой Феофану, было положено вышеупомянутое «досье» Георгия Синкелла, в составе которого находились греческие и сирийские книги, привезенные Синкеллом из Палестины [Speck, 2003, 514].
Д. Е. Афиногенов высказал достаточно убедительное предположение о том, что труд Траяна Патрикия в действительности представлял собой краткую хронику, в которой среди прочего описывались события времен римских императоров IV в.: в частности, Юлиана Отступника (361–363), Иовиана (363–364) и Валента (364–378) [Афиногенов, 2011, 15–21; Афиногенов, 2012, 34–41; Афиногенов, 2014, 13–21]. В то же время история правления Юстиниана II, его ближайших преемников и Льва III изложена в «Хронографии» Синкелла/Феофана по двум источникам VIII в.: по * Vita Leonis (* S718) — военным мемуарам самого Льва Исавра или же кого-то из офицеров его окружения, доведенным до 717 г., а также по * Historia Leonis et Constantini — тенденциозному полемическому сочинению, написанному в правление императрицы Ирины неким иконопочитателем, резко враждебным по отношению к героям своего повествования и одновременно отстаивающим права императора Константина VI (780–797) на престол в его борьбе с матерью [Afinogenov, 2002, 1–17; Афиногенов, 2007, 11–14; Афиногенов, 2018, 60–67]. Что же касается «Краткой истории» патр. Никифора (806–815), имеющей чрезвычайно важное значение для изучения эпохи императора Ираклия (610-641) и его ближайших преемников, то, к сожалению, сведения патр. Никифора о царствовании Льва III по сравнению с информацией Синкелла/Феофана в целом носят вторичный характер.
Среди различных эпизодов ранней биографии Льва Исавра особое место принадлежит т. н. «Кавказскому экскурсу» Феофана (= Синкелла), в котором описывается экспедиция Льва на Кавказ к аланам, произошедшая в период второго правления Юстиниана II (между 705 и 711гг.) (^eoph. 391.15-395.2). И.С. Чичуров в своих комментариях к «Хронографии» Феофана утверждал, что источник повествования о Кавказской одиссее Льва не выявлен и параллели к этому повествованию в сирийских, арабских или иных негреческих текстах не установлены [Чичуров, 1980, 135]. Пауль Шпек рассматривал весь «Кавказский экскурс» наряду с более поздним «Аморейским экскурсом» в качестве фрагмента художественного «романа» о Льве [Speck, 2002,
115–180]; впрочем, этот исследователь аналогичным образом характеризовал историю обручения дочери императора Ираклия, августы Епифании (Евдокии), с тюркским ханом (каганом) в 627 г., изложенную патр. Никифором, и высказывал предположение о существовании некоего византийского «романа» об Ираклии. Гипотеза Пауля Шпека стала поводом для полемики и вполне убедительной критики со стороны французского византиниста Константина Цукермана [Zuckerman, 1995, 113–126; Speck, 1997, 457–465; Zuckerman, 1997, 473–478]. Д. Е. Афиногенов признавал историческую достоверность «Кавказского экскурса» и делал на этом основании выводы как о возможности последующего участия Льва в Крымской морской экспедиции 711 г., так и об участии Льва в перевороте, возведшем на престол монофелита Филиппика (Вардана). В данной работе мы хотели бы подробнее остановиться на «Кавказском экскурсе», ибо исследование этого эпизода политической биографии Льва Исавра, с нашей точки зрения, является важным условием как для понимания предпосылок переворота 711 г., так и для воссоздания военно-политической обстановки, сложившейся в византийско-арабском и византийско-хазарском пограничье в нач. VIII в.
Как свидетельствует Синкелл/Феофан, пересказывая несохранившийся (возможно, еще записанный на папирусе) источник VIII в., Конон, будущий император Лев III, происходил из Исаврии, т. е., возможно, был то ли исаврийцем, то ли сирийцем, уроженцем Германикеи — города у подножия восточного Тавра. В период первого правления Юстиниана II (685–695) семья Льва была переселена во Фракию, в город Месемврию (Несебыр). (Τούτῳ τῷ ἔτει Λέων ἐβασίλευσεν ἐκ τῆς Γερμανικέων καταγόμενος, τῇ ἀληθείᾳ δὲ ἐκ τῆς Ἰσαυρίας. ὑπὸ δὲ Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως σὺν τοῖς γονεῦσι μετοικίζεται ἐν Μεσημβρίᾳ τῆς Θρᾴκης ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ βασιλείᾳ· (Theoph. 391.5–8)). Звезда Льва взошла в 705 г., когда через территорию Фракии проходили войска Юстиниана II, шедшего вместе с булгарским ханом Тервелом (ок. 700–721) форсированным маршем на Константинополь (Niceph. 42.37–44; Leo. Diac. VI. 9) [Head, 1972, 128–129]. По-видимому, в окрестностях Месемврии в 705 г. молодой Лев и повстречал Юстиниана II. Лев подарил императору 500 овец, за что после победы Юстиниана II над неудачливым флотоводцем и узурпатором Тиберием III Апси-маром (698–705) был приближен ко двору, получил чин спафария и стал «другом» императора (ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ βασιλείᾳ ἐρχομένου αὐτοῦ μετὰ τῶν Βουλγάρων, ὑπήντησεν αὐτῷ μετὰ δώρων προβάτων φʹ. θεραπευθεὶς δὲ ὁ Ἰουστινιανὸς σπαθάριον αὐτὸν εὐθέως πεποίηκεν καὶ ἔσχεν αὐτὸν ὡς γνήσιον φίλον… (Theoph. 391.8–11)). Пауль Шпек признавал рассказ о дарении овец Юстиниану II Львом позднейшей интерполяцией, которая была сделана под влиянием поэтических сочинений Георгия Писиды и придворной пропаганды времен императора Ираклия (610–641). Подобно тому как Ираклий провозгласил себя после 628 г. «новым Давидом», победителем «Голиафа» — персидского шаха Хосрова II Парвиза (591-628), что, в частности, нашло свое выражение в памятниках прикладного искусства — серебряных блюдах из Кара-васа, — точно таким же образом неизвестные придворные льстецы, прославлявшие Льва, объявили «новым Давидом» своего покровителя, спасителя Константинополя от арабского нашествия в 715–718 гг., и придали его встрече с Юстинианом II черты библейского рассказа о встрече Давида с Саулом (1 Цар 16:17–21), что и повлияло на появление истории дарения овец. В 1-й книге Царств Давид дарит Саулу осла с хлебом, мех с вином и одного козленка (1 Цар 16:20), а затем становится «оруженосцем» царя (1 Цар 16:21); в изложении Синкелла/Феофана Лев дарит Юстиниану II 500 овец и становится «спафарием» императора.
И. С. Чичуров доверяет рассказу Синкелла/Феофана и утверждает, что Лев был ответствен за снабжение булгарской дружины Тервела, т. е. исполнял при Юстиниане II функции генерала-квартирмейстера [Чичуров, 1980, 136]. С нашей точки зрения, данное предположение не противоречит гипотезе Пауля Шпека о библейских истоках рассказа о встрече Льва и Юстиниана II, ибо этот рассказ, вероятно, родился на основе реальных воспоминаний самого Льва и позднее приобрел характер литературной новеллы под влиянием библейской истории о Давиде и Сауле.
Поход Юстиниана II на Константинополь вместе с булгарской дружиной в 705 г. упоминается патр. Никифором и кратко описывается в сочинении византийского историка 2-й пол. X в. Льва Диакона (Niceph. 42.37–44; Leo. Diac. VI. 9). С точки зрения историка времен Македонской династии, Юстиниан II даровал булгарам право расселиться в Македонии до Истра в награду за их помощь при возвращении престола. Лев Диакон, как поздний автор, мог заимствовать рассказ о походе Юстиниана II из утраченного текста неизвестного составителя * Истории рода Фок, по всей видимости, описавшего военные кампании Льва Фоки против болгар в нач. X в. и наверняка предварившего это описание экскурсом в древнюю булгарскую историю [Сюзюмов, 1916, 106–166; Каждан, 1961, т. 2, 106–128; Грацианский, 2013, 68–83]. Но нельзя исключать, что Лев Диакон принимал личное участие в дунайской кампании императора Иоанна I Цимисхия (969–976) и пересказал какое-то случайно услышанное старинное болгарское предание. Лев Диакон сообщает читателю о победах императора Константина V Копронима (741–775) над болгарами в период войны 755–768 гг., но об участии его отца, императора Льва III, в походе 705 г. нигде не упоминает.
Итак, вскоре после возвращения на императорский престол в 705 г. Юстиниана II Ринотмета (685–695 и 705–711) спафарий Лев, названный «другом» императора, был обвинен в заговоре против своего государя. И хотя Льву удалось оправдаться, Юстиниан II затаил против своего приближенного лютую ненависть. Тем не менее император вскоре поручил спафарию ответственную миссию. Лев должен был сесть на корабль, по-видимому, военный корабль — дромон1, добраться морским путем из Константинополя до города Фасис (Поти) на побережье Лазики, сойти там на берег, а затем преодолеть Кавказский хребет, возможно, через Дарьяльское ущелье, и добраться до аланских вождей — предводителей восточно-иранских племенных группировок, кочевавших в степях Прикубанья. Лев должен был подкупить аланских вождей и спровоцировать нападение аланов на абасгов (абхазов), которые склонялись в это время на сторону Омейядского халифата, ибо, по свидетельству Синкелла/Феофана, в это время Абасгия, Лазика и Иверия уже находились под властью Омейядов. Пауль Шпек, ссылаясь на исследования Ильзы Рохов, высказал сомнения в том, что после 705 г. военное присутствие Омейядов распространялось в Закавказье столь далеко, и предполагал, что противостояние между Византийской империей и абасгами, в которое Юстиниан II при помощи Льва намеревался вовлечь аланов, носило характер локального конфликта, непосредственным образом не связанного с византийско-арабскими войнами. Однако подобные предположения исследователя противоречат сведениям армянского историка кон. VIII в. Гевонда (Левонда) (ок. 730 — ок. 790), который сообщает о том, что вскоре после воцарения халифа Валида I (аль-Валид ибн Абд аль-Малик) в 705 г. куропалат Смбат Багратуни просил Юстиниана II о помощи в борьбе против арабов. Юстиниан II прислал в Армению экспедиционный корпус, который столкнулся с арабскими войсками около Драшпета (область Вананд, провинция Арарат). В кровопролитной битве ромеи потерпели сокрушительное поражение, потеряв более 50 000 человек убитыми и ранеными (возможно, цифры были сильно завышены в арабских источниках Гевонда), и вследствие этого оставили Армянское нагорье (Гевонд, 1862, 21–22) [Шагинян, 2011, 227–230]. Эта победа арабов, овладевших Двином, открывала прямой путь в Лазику и Абасгию, и было бы весьма странно, если бы арабские военачальники им не воспользовались. В свете сообщения Гевонда путешествие Льва на Кавказ к аланам приобретает характер экстренной дипломатической миссии, целью которой была организация быстрого отпора арабам, хлынувшим в Закавказье после победы при Драшпете. Потеря Карфагена в 698 г. под ударами Омейядов лишила Византию главной военно-морской базы в Северной Африке [Pryor,
Jeffreys, 2006, 27-28]. Операции арабского флота против византийских владений в Западном Средиземноморье: Сицилии, Сардинии и Балеарских островов, начавшиеся после 703 г., парализовали византийское судоходство в этом районе и предопределили приоритетный характер Понтийского и Кавказского побережья в борьбе Восточной Римской империи за собственное выживание.
Путешествие Льва, по всей видимости, протекало быстро, по древнему морскому пути, известному еще в античности: после выхода из Босфора корабль повернул на Восток и взял курс на Трапезунд, в прошлом колонию синопейцев, а затем поймал южный ветер (Нот), направляющий суда, по словам Ксенофонта, во внутренние районы Понта (Xen. Anab. V. 7. 7), и дошел от Трапезунда до Фасиса по маршруту, описанному во II в. Флавием Аррианом (Arr. Perip. 10-12) и известному также Псевдо-Арриану — компилятору VI в. [Казанский, 2016, 58–83; Подосинов, 2015, 637–649]. Лев благополучно добрался по морю до Фасиса и оставил в этом городе, где, по всей видимости, еще оставался ромейский гарнизон, предназначавшиеся аланским вождям деньги. Подобная предосторожность была более чем уместна, ибо Льву предстояло опасное путешествие через захваченную арабами Абасгию и Кавказские горы к верховьям Кубани (примерно на территорию Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска), где в эту эпоху кочевали аланы. Кроме того, обещание крупных денежных выплат должно было подогревать аппетиты и рвение аланских вождей, которые со времен Юстиниана I (527–565) являлись федератами Восточной Римской империи и, как известно, в лице Саросия принимали участие в знаменитых переговорах между Юстинианом I и аварами в 558 г. [Гумилев, 1967, 36-39]. И хотя во 2-й пол. VII в. аланы попали в зависимость от Хазарского каганата, но прежних связей с Константинополем они не теряли и по древней сарматской традиции любили украшать гривны, ожерелья и диадемы своих жен и наложниц римскими и византийскими золотыми солидами.
Высадившись в Фасисе, Лев отправился затем в Апсилию (Цебельда), перешел через Кавказский хребет (где точно, неизвестно) и прибыл к аланам. Переговоры о совместных действиях против абасгов прошли успешно, и аланы под влиянием красноречия Льва и его щедрых обещаний совершили опустошительный набег на абасгские владения. Но, как отмечает автор утраченного источника, пересказанного Синкеллом/Феофаном, тем временем Юстиниан II Ринотмет решил погубить Льва и забрал из Фасиса деньги, предназначенные для выплат аланским вождям за их военные услуги. После аланского нападения царь Абасгии узнал об этом (не исключено, что от агентов самого Юстиниана) и обратился к аланским вождям с предложением всего лишь за три тысячи номисм выдать Льва, который оказался лжецом и теперь не в состоянии заплатить аланам за службу. Сперва аланы отказались от подобной сделки, сообщив, что они поступили на службу Восточной Римской империи не из-за денег, а вследствие любви к императору. Тогда царь абасгов посулил аланам за предательство и выдачу Льва уже шесть тысяч номисм. Аланы рассказали обо всем Льву и будто бы предложили ему следующую коварную интригу: поскольку дорога, ведущая на территорию, подконтрольную Византийской империи, была уже перекрыта абасгами и их арабскими союзниками, то аланские лазутчики отправятся в Абасгию под видом послов для переговоров о выдаче Льва, дабы произвести тщательную разведку местности и затем подвергнуть земли абасгов новому опустошению. Очевидно, Лев не возражал, хотя его положение было далеко не из легких. Аланы приняли новое посольство абасгов с богатыми дарами и произвели выдачу связанного Льва неприятелю, но когда абасгский караван с пленным Львом пересекал Кавказский хребет, аланские воины под предводительством своего вождя Итаксия напали на него с тыла: абасги были перебиты, а Лев освобожден. Затем аланы совершили новый разорительный набег на Абасгию. Юстиниан II, узнав о выполнении его приказа Львом и аланами даже без выплаты денег аланским вождям, обратился к абасгам с предложением организовать беспрепятственную переправку Льва в империю через их земли, обещая за это простить им прежнюю вину перед ним (переход на сторону Омейядов). Такую картину рисует нам в общих чертах повествование Синкелла/Феофана.
В действительности логика развития сюжета подсказывает, что Юстиниан II выдвинул абасгам — врагам империи — ультиматум, пытаясь обеспечить эвакуацию Льва обратно на византийскую территорию. Но подобный шаг императора противоречил пропагандистской тенденции автора * Vita Leonis, которая заключалась в сознательном очернении императора Юстиниана II и в превозношении Льва. Поэтому в повествовании неизвестного историка VIII в., которое легло в основу рассказа Синкелла/Феофана, Юстиниан, оставивший Льва на Кавказе без денег на произвол судьбы, теперь по какому-то странному стечению обстоятельств вдруг меняет свое решение и стремится вызволить храброго спафария. Подобную цепь событий трудно признать логичной. Пауль Шпек считал весь эпизод, связанный с похищением «аланских» денег Юстинианом в Фасисе, частью вымышленной апологетической традиции, связанной с прославлением Льва после его воцарения. По мнению исследователя, в действительности Лев просто-напросто спрятал деньги до того момента, пока аланы не выполнили всех своих обязательств перед империей, не доверяя Итаксию и другим аланским вождям. В то же время правитель абасгов спекулировал на предпринятых Львом мерах предосторожности и пытался убедить аланов в том, что Лев не собирается расплачиваться с ними за их услуги. Имя же Юстиниана в этой истории появилось позже, под влиянием панегиристов, клеветавших на Юстиниана и прославлявших Льва. По нашему мнению, подобное предположение выглядит вполне оправданным.
После освобождения Льва аланами абасги попросили у аланских вождей вновь выдать им Льва, на сей раз для его спасения, и обещали за это предоставить в качестве заложников своих детей. Но Лев отказался от такого плана «эвакуации» и заявил: «Бог может растворить мне врата для выхода, так как через Абасгию я не пойду (SvvaTai о Qeog avowal poi Qvpav той e^eXOeiv ёпе1 5i’ Apaoyiag ойк E^Epxopai)». Очевидно, что, по * Vita Leonis, Лев не доверял ни Юстиниану II, ни врагам-абасгам, ибо первый мог отдать тайный приказ убить своего спафария, а вторые вполне могли расправиться с ним, мстя за жертв аланских набегов, или же выдать его арабам. В это время ромейский экспедиционный корпус и его армянские союзники потерпели новое поражение от арабов в битве под Археополем (Нокалакеви). Остатки ромейских войск и армянских дружин отступили к Фасису, но оставался еще небольшой конный отряд численностью в 200 солдат (примерно лишь одна тагма), который несколько ранее был отправлен византийским командованием на север с целью разорения Апсилии. Теперь же этот отряд поднялся в горные районы Кавказа и не собирался сдаваться арабским войскам, контролировавшим равнинную часть Абасгии. Аланские вожди прознали об этом отряде и решили, что речь идет о крупномасштабном ромейском вторжении на Кавказ. Они предложили Льву присоединиться к этому византийскому отряду, на что спафарий незамедлительно согласился. В мае следующего (706?) года Лев в сопровождении 50 аланских воинов пересек заснеженные перевалы Кавказского хребта на специальных небольших лыжах-снегоступах (кикХоп6§Ед) и встретился с командирами скрывавшегося в горах ромейского отряда. На совещании с командирами спафарий принял решение любой ценой пробиваться к черноморскому побережью. Вскоре Лев во главе отряда хитростью захватил и разрушил абхазскую крепость Сидерон, которая господствовала над ущельем между Цебельдой и Сухумом, перед этим заставив местного правителя Фарасмания выдать заложника (собственного сына) и принести присягу на верность византийскому императору. После этой успешной операции Лев со своими солдатами вышел через Апсилию к черноморскому побережью и был эвакуирован на военном корабле сперва в Трапезунд, а затем в Константинополь, причем Юстиниан II был в это время еще жив и по-прежнему правил империей (т.е. возвращение Льва произошло ранее ноября 711 г., по-видимо-му, между 706 и 711 гг.) (Theoph. 391.15–395.2). Однако, как полагал Ю. А. Кулаковский, в действительности Лев возвратился в Константинополь уже после свержения и убийства Юстиниана II и его сына, маленького августа Тиберия, причем возвращение Льва с Кавказа было в итоге реализовано благодаря его знакомству со старым маршрутом
Зимарха, посла императора Юстина II (565–578) к тюркскому кагану (Theoph. 391, 5–395, 1; Menand. Fragm. 22) [Кулаковский, 1996, 303–304].
Содержание рассказа об одиссее Льва на Кавказе неоднократно становилось предметом пристального внимания исследователей. Как отмечали Ю. А. Кулаковский и позднее И. С. Чичуров, «Кавказский экскурс» Синкелла/Феофана является первым подробным известием об аланах со времен Менандра Протектора (VI в.) и остается единственным упоминанием о них в византийских источниках VIII в.
Как отмечает Евагрий Схоластик со ссылкой на Прокопия, позднее Юстиниан I отправил миссию из христианских священников к абасгам (абхазам) и приказал воздвигнуть в земле абасгов храм Пресвятой Богородицы (Euagr. Schol. HE IV. 22). Прокопий добавляет, что во главе миссии находился крещеный евнух-абасг по имени Евфрат (Procop. BG IV. 3), и в другом месте пишет, что абасги и аланы в его время были христианами и издревле являлись союзниками римлян, т. е., возможно, начало христианской миссии среди предкавказских аланов и абасгов имело место в царствование Юстина I или же в самом начале царствования Юстиниана I и было каким-то образом связано с миссией еп. Кардоста (Procop. BP II. 29). Прокопий сообщает также, что в 548 г. готы-тетракситы, жившие на нижнем Танаисе (Дону), обратились к Юстиниану с просьбой прислать им православного епископа и ссылались на пример успеха абасгской миссии (Procop. BG IV. 4; Euagr. Schol. HE IV. 23).
По всей видимости, аланы и абасги оставались христианами и после арабского нашествия на Южный Кавказ в нач. VIII в., когда их области посетил спафарий
Юстиниана II Ринотмета (685–695; 705–711) Лев, будущий император и основатель Исаврийской династии [Speck, 2002, 115-137]. Это обстоятельство делало аланов врагами Омейядского халифата и побуждало Юстиниана II, женившегося на сестре хазарского кагана Ибузира Глявана Феодоре [Слядзь, 2022, 29–62; Mitrofanov, 2023, 127-146], всерьез рассчитывать на возобновление старинных связей с аланами, которые были бы весьма полезны как в целях совместной борьбы с арабской экспансией, так и в целях привлечения к этой борьбе Хазарского каганата.
Присутствие аланских кочевых племен в степях Северного Предкавказья имело длительную историю. Еще в кон. 330-х гг. Евсевий, описывая победы Константина Великого (306-337) над готами («скифами») и сарматами («савроматами»), одержанные в 1-й пол. 320-х гг., приводит важные сведения о внутренней социальной истории дунайских сарматов этого периода. Как отмечает историк, Константин разбил готов, сделал определенную часть готов федератами Римской империи на Дунайском лимесе и, возможно, даже обратил их в христианство (Euseb. VC IV. 5). При этом ранее готы восстали против сарматов. Следовательно, согласно Евсевию, готы находились до этого момента у сарматов в подчинении. Для борьбы с повстанцами сарматы вооружили своих рабов. После победы над готами сарматы-рабы (лимиганты) обратили оружие против своих господ (свободных сарматов). Тогда Константин предоставил свободным сарматам территорию для расселения в Паннонии на территории империи и сделал их федератами (Euseb. VC IV. 6). Сведения Евсевия представляют собой драгоценный источник информации об этно-социальной обстановке, сложившейся внутри сарматских племен к началу 2-й четв. IV в. Как показал на основании исследования археологических памятников А. В. Симоненко, с 250 г. и до нач. IV в. происходила активная экспансия аланов-танаитов на Запад из района Нижнего Дона. Аланы-танаиты дошли до Прута и Днестра и предопределили характер культуры европейских аланов, существовавшей на этих территориях до 2-й пол. IV в. [Симоненко, 2011, 155–157]. Очевидно, под сарматами-лимигантами (рабами) следует понимать западные сарматские племена, остатки языгов или роксоланов, которые на рубеже III–IV вв. либо были подчинены кочевыми группировками европейских аланов, либо были оттеснены европейскими аланами к Дунаю. Евсевий характеризует свободных сарматов (европейских аланов) как «непривыкших к рабству» (Σαυροματῶν γένη μὴ npoTEpov SouXeveiv ЦЕЦаЭпкота (Euseb. VC IV. 5)), обладавших «хвастливостью варварского высокомерия» (Σαυρομάτας… τοὺς ἄνδρας βαρβαρικῷ φρονήματι γαυρουμένους (Euseb. VC IV. 6)). Подобная характеристика вполне соответствует описанию аланов в сочинении Аммиана Марцеллина: «Они не имели никакого понятия о рабстве, будучи все одинаково благородного происхождения^» (servitus quid sit ignorabant, omnes generoso semine procreati... (Amm. Marc. XXXI. 2. 25)). Впоследствии Констанций II (337-361) подчинил царя свободных сарматов (сарматов-господ) Зизаиса и подвластных ему сарматских князьков Румона, Зинафра и Фрагиледа, после чего начал войну против сарматов-лимигантов [Туаллагов, 2009, 72-98]. Е.В. Вдовченков связывает наступление аланов-танаитов на Запад в этот период с экспансией аланов Предкавказья в нижнее Подонье и утверждением в этом регионе новой культуры, связанной с Предкавказской Аланией [Вдовченков, 2017, 116–119]. Таким образом, Предкавказье на протяжении длительного времени, как минимум с IV в., являлось своего рода степной базой аланских племен, где наиболее активно развивались их социальнополитические структуры и культурные институты и откуда они осуществляли свою экспансию в Восточную Европу вплоть до нашествия гуннов.
Как уже было отмечено, в царствование Юстиниана I аланы превратились в федератов Восточной Римской империи. Прокопий Кесарийский и Агафий Миринейский часто упоминают аланов как участников т. н. Лазской войны, масштабного военного противостояния между Восточной Римской империей и Сасанидским Ираном за обладание Западным Закавказьем в 550-е и в нач. 560-х гг. Менандр Протектор сообщает о том, что вождь аланов Предкавказья Саросий выступал посредником на переговорах Юстиниана I и аварских послов в 558 г. В нач. VIII в. проект союза с Хазарским каганатом, который реализовывал Юстиниан II для совместной борьбы против Омейядов, неизбежно вовлекал в этот союз и аланов. К сожалению, письменные источники не позволяют нам ничего сказать о характере зависимости аланских племен от хазарских каганов. Исследования археологических памятников т. н. Салтово-Маяцкой культуры (сер. VIII — нач. X вв.) и, в частности, работы по изучению хазарского оружия [Комар, Сухобоков, 2000] свидетельствуют о военно-политическом доминировании Хазарского каганата в степях Предкавказья в несколько более позднюю эпоху, что, впрочем, не исключает того, что подобное доминирование могло сложиться значительно раньше, как минимум уже в начале VIII столетия. При этом очевидно, что крупномасштабное вторжение Омейядов в Лазику и Абасгию в нач. VIII в. и выход арабских войск к черноморскому побережью Южного Кавказа, в сущности, отсекали византийские войска, действовавшие в Армении, от потенциальной помощи со стороны хазарского кагана Ибузира Глявана — тестя императора.
План Юстиниана II, заключавшийся в повторении военно-политической комбинации его предка императора Ираклия в период войны с персами и в организации совместного похода против арабов вместе с хазарами, был теперь обречен. С этой точки зрения миссия Льва представляется важной именно в контексте внешней политики безносого императора. Лев, ежеминутно рискуя жизнью, проехал неузнанным через захваченную арабами территорию Абасгии, пересек Кавказский хребет и добрался до аланских кочевий. Весь этот «Кавказский экскурс», рассматривавшийся Паулем Шпеком как фрагмент большого приключенческого романа о Льве Исавре, написанного кем-то из офицеров византийской армии в духе Прокопия Кесарийского, представляет собой несомненно тенденциозное художественное произведение, которое нуждается в тщательной критике [Speck, 2002, 115–137]. Как уже отмечалось, вызывает вопросы эпизод с исчезновением денег, обещанных аланским вождям, из Фасиса. Если Юстиниан II действительно отправил Льва к аланам на Северный Кавказ с целью организовать нападение на абасгов, трудно предположить, что тот же император из личной неприязни ко Льву вдруг похитил предназначавшиеся аланам деньги, ибо подобный маневр мог только разрушить хрупкое доверие аланских вождей к империи, побудить оскорбленных аланов перейти на сторону арабов или же, во всяком случае, сильно испортить репутацию константинопольского двора в степях и юртах Хазарии. Вряд ли личная неприязнь Юстиниана II ко Льву могла быть столь сильна, что ради нее император мог поставить под удар интересы империи как непосредственно на Кавказе, так и в зоне влияния Хазарского каганата. Юстиниан II был жестоким тираном, но он вовсе не был трусливым глупцом, о чем свидетельствует его блистательное возвращение на престол с помощью булгарского хана Тервела. Очевидно, что автор «Кавказского экскурса» преследует цель сознательной диффамации Юстиниана II, а заодно выгораживает Льва, который теоретически мог просто присвоить деньги, предназначавшиеся аланским вождям, или же истратить их на военные нужды императорских войск, а затем, уже после переворота 711 г., обвинить в пропаже денег свергнутого и убитого императора. Косвенным подтверждением этому служит другой фрагмент из * Vita Leonis, пересказанный Синкеллом/Феофаном, в котором описывается Крымская морская экспедиция военачальников Юстиниана II в 711г. и последующий мятеж против императора, приведший на престол монофе-лита Филиппика (Вардана) (711–713) (Theoph. 377.22–380.8; Niceph. 45.1–45. 86) [Head, 1972, 142–150]. По мнению Д. Е. Афиногенова, анонимный автор рассказа о Крымской экспедиции и мятеже 711 г., демонстрируя прекрасную информированность в области географии Северного Причерноморья и тесное знакомство с военной терминологией, нигде не упоминает Льва, из чего можно сделать вывод о том, что этот автор и есть сам Лев, после поездки на Кавказ принимавший деятельное участие как в Крымской экспедиции, так и в мятеже против Юстиниана II.
Предположение о том, что Лев действительно готовил государственный переворот в Константинополе после 705 г., из-за этого был отослан на Кавказ подальше от двора, а затем присвоил в Фасисе деньги, предназначавшиеся аланским вождям, поставив тем самым под угрозу дальнейшее существование военного союза между империей и аланами, позволяет объяснить негативное отношение к нему Юстиниана II, которое, впрочем, не привело к репрессиям против Льва. Причины этого обстоятельства, с нашей точки зрения, следует искать в том несомненном политическом влиянии, которым обладал Лев на Кавказе благодаря своему происхождению. Как доказал Пауль Шпек, Лев прекрасно владел арабским языком, мог вести сложные переговоры с арабскими военачальниками непосредственно, от первого лица, к чему прибегал позднее в бытность стратигом фемы Анатолик в период гражданской войны против Феодосия III (715-717) (т. н «Аморийский эпизод») [Speck, 2002, 81-104; 139-180; Афиногенов, 2007, 11-14]. Успех, которым пользовался Лев у аланских вождей, снабдивших хитроумного спафария лыжами, а точнее, круглыми снегоступами (κυκλοπόδες) [Чичуров, 1980, 139] для перехода через Кавказский хребет, позволяет говорить о том, что Лев вел с ними переговоры на их родном сарматском наречии. Такой человек был крайне полезен империи в качестве дипломата, и Юстиниан II, как умный политик, вряд ли имел намерение обезглавить свою дипломатическую службу в угоду личным амбициям.
Если наша гипотеза верна, в таком случае возникает неизбежный вопрос: чем же была вызвана ненависть Льва к своему благодетелю Юстиниану II, толкнувшая его уже в первые годы после возвращения Юстиниана на престол на путь подготовки переворота, который завершился полным успехом в 711 г.?
Ответ на этот вопрос можно легко обнаружить в том случае, если мы примем гипотезу об армянском аристократическом происхождении Льва, в последующие годы замаскированную легендой о предприимчивом исаврийском или же сирийском пастухе или ремесленнике, который в 705 г. подарил наступавшему на столицу Юстиниану 500 овец. Как уж отмечалось, Пауль Шпек выявил влияние на происхождение этого рассказа библейского предания (параллель с историей встречи Давида и Саула, 1 Цар 16:17–21), вероятно, заимствованного самим Львом или же его приближенными из памятников пропаганды времен императора Ираклия, в которых этот император после победы над персами 628 г. открыто сравнивался с царем Давидом [Speck, 1984, 175–210; Ludwig, 1991, 73–128]. Главным союзником Льва в период его борьбы против императора Феодосия III (715–717) и арабской экспансии был стратиг фемы Армениак по имени Артавазд, ставший зятем Льва. Артавазд, очевидно, происходил из армянской военной аристократии, о чем свидетельствует его имя и его cursus honorum [Speck, 1981b, 153–154]. Быстрота и легкость, с которой Артавазд пошел на союз со Львом, скрепленный браком с его дочерью Марией, может служить свидетельством в пользу армянского происхождения самого Льва, ибо, по свидетельству источников, военную элиту Византийской империи со времен императора Ираклия (610–641) составляли не сирийцы, предпочитавшие духовную карьеру или коммерцию, и тем более не древние исаврийцы, а именно армянские князья/нахарары.
Нам могут, конечно, возразить: репрессии Юстиниана II, направленные против аристократии, обезглавили военную знать и расчистили дорогу простолюдинам, среди которых могли оказаться и сирийцы, в частности Лев. С кем же мог в такой обстановке договариваться о союзе Артавазд, как не с талантливым выходцем из низов, пусть даже и сирийцем, ставшем стратигом важнейшей фемы (Анатолик)? Подобное возражение имеет право на существование, но репрессии Юстиниана II затронули преимущественно столичную знать и куриалов Равенны. Лев же был провинциалом, нашедшим себе союзника и родственника также в лице провинциала — Артавазда. Но быть провинциалом слишком мало для того, чтобы сделать блистательную карьеру и стать стратигом фемы. Факт союза Льва и Артавазда логичнее интерпретировать как свидетельство в пользу существования других факторов, которые могли способствовать сближению обоих стратигов. Одним из таких факторов могли быть общие этническое происхождение и культурный облик обоих союзников.
Если наше предположение верно, то в таком случае вполне возможно, что знатный ромейский военачальник армянского происхождения Конон, впоследствии император
Лев III, после возвращения Юстиниана II на трон в 705 г. не пожелал примириться с реализацией антиармянских постановлений Трулльского Собора, которые после 692 г. уже привели к отпадению от империи армянской политической элиты и, как следствие, к серии поражений империи от арабов. Этим и объясняется появление фронды, направленной против Юстиниана II, активным участником которой, по-видимому, стал Лев на протяжении второго правления безносого императора. 82-е правило Трулльского Собора 691-692 гг., созванного Юстинианом, упразднило иконографию Агнца Божия, изображавшегося в медальоне вместе с Иоанном Предтечей, и установило иконописный канон изображения Христа Пантократора, которое впоследствии чеканилось на монетах Юстиниана II как средство репрезентации верховной власти в Византийской империи. По всей видимости, первоначально 82-е правило Трулльского Собора рассматривалось Львом как всего лишь одно из многочисленных антиармянских постановлений имперской Церкви, направленное на борьбу с жертвоприношениями агнца, но со временем, возможно, уже после прихода к власти, оно было переосмыслено им как богословское нововведение, позволяющее поставить вопрос о допустимости использования иконографии Христа Пантократора как нового средства репрезентации императорской власти [Ohme, 2013; Митрофанов, Клингхардт, 2023, 247–260].
По мнению Пауля Шпека, если образ Христа Пантократора становится подобным средством репрезентации императорской власти при Юстиниане II, что откровенно проявляется как в 82-м правиле Трулльского Собора, так и на примере монетного чекана Юстиниана, то Лев в 726 г. предпринимает попытку возвратиться к традиционному позднеримскому мировоззрению, основанному на богословской интерпретации обращения Константина. Символом этого обращения со времен Евсевия считался Животворящий Крест, явленный Константину перед битвой с Максенцием (306–312) у Мульвийского моста (312), затем чудесно обретенный его матерью августой Флавией Еленой в Иерусалиме и, наконец, освобожденный Ираклием из персидского пленения в 629/630гг. [Speck, 1981, 237-241; Speck, 1984, 175-210]. С нашей точки зрения, гипотеза Пауля Шпека вполне обоснованна, тем более что попытка Льва возродить Восточную Римскую империю и старую имперскую идеологию на уровне официальной репрезентации не имела ничего общего ни с физическими гонениями на иконопочитателей, ни с уничтожением икон, которые приписывала Льву III и особенно его наследнику Константину V пропаганда IX в. (причем как иконоборческая, так и иконодульская).
Характеризуя содержание «Кавказского экскурса», следует подчеркнуть, что Кавказская одиссея будущего императора Льва III Исавра, тесно связанная с новым этапом византийско-арабского противостояния на Южном Кавказе, который начался вскоре после возвращения на престол Юстиниана II, может служить ключевым эпизодом для понимания происхождения т. н. первого периода иконоборчества, особенно в свете гипотезы об армянском и аристократическом происхождении Льва и исав-рийской династии. Очевидно, что Лев — точно так же, как и до него, в период своего первого царствования, Юстиниан II — стремился к укреплению византийского военнополитического присутствия в Закавказье [Цукерман, 2001, 312-333]. Еще в период первого правления безносого императора блистательная кампания Леонтия на Кавказе, приведшая к кратковременному завоеванию ромеями Армении, Иберии и Кавказской Албании, завершилась неудачей после позорного поражения императорской армии в 692 г. в битве при Себастополисе. Юстиниану II изменили тогда набранные на Балканах славянские отряды. Последующие неудачи, которые преследовали Юстиниана II в борьбе с арабами в период его второго правления, в частности поражение армии Феодора Картеруки и Феофилакта Салибана, посланной императором в 707 г. на помощь осажденной Тиане (Кемерхисар), а затем и сдача самой Тианы, заставили военачальников халифа Аль-Валида I ибн Абд аль-Малика (705-715) — Масальму (брата халифа) и Аббаса (сына халифа) — поверить в слабость империи и в возможность ее быстрого завоевания [Кулаковский, 1996, 274-286]. В 709 г. конные отряды Масальмы уже достигали Никомедии. Примерно в это же время арабы начали завоевание Хорасана и Бухарского оазиса, а после 706 г. приступили к покорению Магриба и вестготской Испании, параллельно совершив разорительный морской набег на Сиракузы. Империя так же, как и при Ираклии (610–641), нуждалась теперь в сильных союзниках среди «северных» степных кочевников для противостояния халифату.
С этой точки зрения путешествие Льва к аланам — данникам Хазарского каганата — могло стать важным этапом в развитии византийско-хазарских отношений, достигших своей кульминации позднее, в 732 г., и проявившихся в бракосочетании сына и соправителя Льва III императора Константина V (741–775) с дочерью хазарского кагана Вирхора княжной Чичак (Ириной).
Но путешествие Льва имело значение не только с точки зрения соображений византийской дипломатии. Удержание юго-восточного побережья Черного моря было важнейшей задачей византийской армии и военно-морского флота в период активной экспансии Омейядов на Кавказе. Как сообщают Прокопий Кесарийский и Агафий Миринейский, еще император Юстиниан I вел тяжелую борьбу за Лазику против персов, пытаясь не допустить захвата персидскими войсками гаваней Фасиса, в то время как Хосров I Ануширван стремился утвердиться в Лазике, пробиться к морю, построить флот и создать угрозу Константинополю со стороны Понта. В нач. VIII в. успешное наступление Омейядов могло привести к реализации мечты сасанидского шаха, и тогда положение Константинополя в 717-718 гг. стало бы несравненно более сложным, если не угрожающим. Кавказская одиссея Льва имела целью обеспечить надежный союз с аланами против абасгов ради надежного удержания Византийской империей юго-восточного побережья Черного моря в период, когда византийские войска в Армении и Анатолии терпели одно поражение за другим. И Лев с этой задачей блестящим образом справился.
Дипломатическая миссия Льва, реализованная с помощью византийского флота, корабли которого успешно доставили храброго спафария в Фасис, а затем не менее счастливым образом эвакуировали его обратно в Константинополь, в определенной степени напоминает другую аналогичную миссию флота, известную из источников более позднего времени. В знаменитом трактате императора Константина VII Багрянородного (945–959) «О церемониях византийского двора», известном также под именем «Придворного устава» Константина Багрянородного, сохранились подлинные штабные документы — т.н. «инвентарные описи» или, точнее, боевые расписания сил византийского военно-морского флота, принимавшего участие в походах на Крит в 911 и в 949 гг. (Const. De cer. 651–660; 664–679). Эти документы неоднократно привлекали внимание исследователей, изучающих историю византийского флота и эволюцию византийских воинских подразделений, укомплектованных росами (киевскими викингами и, вероятно, славянами) [Литаврин, 1991, 60–82; Литаврин, 1993, 81–92]. В документах, имеющих отношение к походу 949 г., среди прочего содержится также краткое упоминание о том, что параллельно с подготовкой военно-морской экспедиции против Крита, командовать которой было поручено Константину Гонги-лу, император распорядился направить византийский морской отряд в составе трех усий (вероятно, это примерно два или три дромона [Makrypoulias, 1995, 152-171]) под командованием остиария Стефана к берегам Испании: «μετὰ τοῦ οστιαρίου Στεφάνου καί νιψιστιαρίου εις τὴν ‘Ισπανίαν δουλία οὐσίαι γ΄» (Const. De cer. 664). По мнению А. В. Банникова и М. А. Морозова, испанский поход флотилии Стефана был связан с какими-то дипломатическими поручениями, которые дал остиарию Константин Багрянородный накануне критской экспедиции [Банников, Морозов, 2014, 146–149]. Подобный вывод в целом разделяется и зарубежной историографией, в частности Джоном Прайором и Элизабет Джеффрейс [Pryor, Jeffreys, 2006, 71], основные тезисы которых кратко резюмированы в работе А. В. Банникова и М. А. Морозова.
На первый взгляд не исключено, что остиарий Стефан должен был продемонстрировать Омейядскому халифу Кордовы Абд ар-Рахману III (с 912 г. эмир, с 929 по 961 гг. халиф) мощь империи, подтвердить предыдущие соглашения 946 г. и заручиться нейтралитетом Кордовы в период критской экспедиции Гонгила 949 г. Однако подобное предположение носит слишком гипотетический характер. В 944–945 гг. византийская эскадра, базировавшаяся на Родосе, совершила нападение на побережье Египта (Liudpr., Antapod., V, 9, 14-16; Zon., XVI, 19), что могло способствовать заключению союза Константинополя с Кордовой в 946 г. В этом году действительно имело место византийское посольство в Кордову, принятое халифом с роскошным гостеприимством и заключившее договор между Византийской империей и Кордовским халифатом [Васильев, 1902, т.П, 272-280; Pryor, Jeffreys, 2006, 71; Банников, Морозов, 2014, 417]. Испанские Омейяды с 927 г. противостояли североафриканским Фатимидам в борьбе за сферы влияния в Магрибе, поэтому Абд ар-Рахман III был искренне заинтересован в союзе с Византийской империей. Какие же цели могло в таком случае преследовать новое византийское посольство, отправленное в 949 г. одновременно с началом критской экспедиции?
В самом деле, если бы халиф Кордовы задумал вдруг нарушить договор 946 г. и предпринять враждебные действия против империи, у Стефана не оставалось времени для того, чтобы переубедить его. Стоило ли отвлекать значительную часть сил (как минимум два дромона) от направления главного удара только ради каких-то новых и не вполне ясных дипломатических переговоров в Кордове, в то время как удаленность Испании от Крита исключала быстрое возвращение отряда Стефана на основной театр военных действий в случае неудачи главных сил, что в итоге и произошло? Византийский флот уже продемонстрировал свою растущую мощь в 941 г., когда эскадра под командованием патрикия Феофана разгромила направлявшуюся к Босфору варяжскую флотилию киевского князя Игоря (912–945) (ПВЛ, 1950, л. 6449; Ueoph. Cont. VI. BR. 39) [Pryor, Jeffreys, 2006, 72; Банников, Морозов, 2014, 417]. Но в 941 г. ромеи победили благодаря концентрации своих военно-морских сил возле фракийского побережья Черного моря, в том числе дромонов с греческим огнем («въ лядехъ со огнемъ»), а не вследствие распыления этих сил. При императоре-флотоводце Романе I Лакапине (919–944) ромеи нашли в себе также силы перейти в контрнаступление против арабов на суше и нанесли ряд крупных поражений сирийским Хамданидам [Васильев, 1902, т. II, 238–258], и при этом же императоре были заложены основы византийской «талассократии» в Средиземноморье.
Возможно, поход Стефана к берегам Испании был первой серьезной военноморской операцией византийского флота в западном Средиземноморье со времен Юстиниана I (527–565), если, конечно, не считать успешный поход византийской эскадры хеландиев в Тирренское море, предпринятый в 942 г. по приказу императора Романа I Лакапина (919–944), в прошлом флотоводца и друнгария, для совместных действий с франками против арабских пиратов Фраксинета. Политическим итогом этого похода, как известно, стало обручение и последующий брак внука Романа I Лакапина, будущего императора Романа II (959–963), с франкской принцессой Бертой Провансальской, дочерью короля Италии (926–945) и Нижней Бургундии (928–933) Гуго Арльского. Но испанский поход морского отряда остиария Стефана не привел к подобным политическим последствиям. Во всяком случае, о каких-либо брачных контрактах между представителями византийской аристократии и испанскими омейядскими княжнами исторические источники не сообщают, что, впрочем, было бы затруднительно вследствие известного религиозного антагонизма. В чем же тогда заключалась истинная цель испанской экспедиции византийского военно-морского отряда под командованием Стефана?
Цель эта, несомненно, заключалась не столько в осуществлении некоей дипломатической миссии или вооруженной демонстрации, сколько в реализации военного замысла. Отряд Стефана должен был вести патрулирование Гибралтара и юго-восточного побережья Испании и перехватывать корабли арабских пиратов, которые могли прорываться (и, вероятно, прорывались) на помощь Критскому эмирату из портов Магриба, и одновременно оказывать содействие военно-морским силам Абд арРахмана III (союзника империи) в том случае, если бы им угрожали корабли Фатими-дов. Вместе с тем, как отмечал А. А. Васильев, византийский двор не доверял Абд арРахману, опасаясь, что тот может тайно помогать своим критским единоверцам точно так же, как помогал до этого арабам Фраксинета. С этой точки зрения поход флотилии Стефана нужно рассматривать как средство давления на Кордовского халифа [Васильев, 1902, т. II, 280].
Таким образом, у нас есть все основания считать испанскую экспедицию военноморского отряда под командованием Стефана не дипломатическим, а военно-морским эпизодом критской кампании 949 г., который свидетельствует о существенном расширении оперативных возможностей византийского военно-морского флота в середине X столетия. Добавим, что в этом случае испанский поход флотилии остиария Стефана, предпринятый в 949 г., становится не изолированным событием, но повторением морского путешествия будущего императора Льва III к побережью Кавказа в 705–706 гг. Следствием путешествия Льва стало разорение Абасгии аланами, вероятно, воспрепятствовавшее вторжению в регион омейядских войск; результатом похода флотилии Стефана к берегам Испании два века спустя была нейтрализация фатимидских пиратов в Западном Средиземноморье и ликвидация потенциальной угрозы империи со стороны столь ненадежного союзника, каким оставался кордовский правитель.
Список литературы Кавказская Одиссея Льва III (717-741) и ее значение для политической биографии императора
- Гевонд (1862) — История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века / Пер. К. П. Патканьяна. СПб., 1862.
- ПВЛ (1950) — Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод / Подгот. текста Д. С. Лихачева, пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
- Agath. — Agathiae Myrinaei Historiarum Libri Quinque / Hrsg. von Rudolf Keydell. (CFHB 2). Berlin: De Gryuter, 1967.
- Amm. Marc. — Ammiani Marcellini Res Gestae / Hrsg. von Victor Gardthausen. Leipzig, 1874. Vol. I–II.
- Theoph. Cont. — Chronographiae Quae Theophanis Continuati Nomine Fertur Libri I–IV: recensuerunt anglice verterunt indicibus instruxerunt Michael Featherstone et Juan Signes-Codoñer, nuper repertis schedis Caroli de Boor adiuvantibus. (CFHB 53). Berlin, 2015.
- Ioan. Mal. — Ioannis Malalae Chronographia / Hrsg. von Iohann Thurn. (CFHB 35). Berlin; New York: De Gryuter, 2000.
- Leonis diaconi Caloënsis Historia, scriptoresque alii ad res byzantinas pertinentes / Ed. Par C. B. Hase. Paris, 1819.
- Koltchak (2019) — Manuscrits d’Alexandre Koltchak. Paris: Tessier Sarrou, 2019.
- Niceph. — Nicephori Patriarchae Constantinopolitani Breviarum Historicum / Ed. by Cyril Magno (CFHB XIII). Washington: Dumbarton Oaks, 1990.
- Ohme (2013) — Ohme H. Concilium Constantinopolitanum in A. 691/2 in Trullo habitum (Concilium Quinisextum). Berlin; Boston: De Gruyter, 2013.
- Procop. — Procopii Caesariensis Opera Omnia / Hrsg. von Jacob Haury. Leipzig: Teubner, 1905–1913. Vol. I–IV.
- Theoph. — Theophanis Chronographia / Hrsg. von Karl De Boor. Leipzig, 1883. Vol. I.
- Афиногенов (2007) — Афиногенов Д. Е. Император Феодосий III и мифологизация византийского иконоборчества // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2007. № 11. С. 11–14.
- Афиногенов (2011) — Афиногенов Д. Е. Загадочная смерть императора Иовиана. Текстологический этюд // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2011. № 15. С. 15–21.
- Афиногенов (2012) — Афиногенов Д. Е. Гибель императора Валента в греческой историографической традиции // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2012. № 16. С. 34–41.
- Афиногенов (2014) — Афиногенов Д. Е. Новые следы Патрикия Траяна? // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2014. № 18. С. 13–21.
- Афиногенов (2018) — Афиногенов Д. Е. Рассказ об осаде Константинополя в 717–718 годах в хронике Феофана Исповедника: следы редакторской работы // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2018. № 22–1. С. 60–67.
- Банников, Морозов (2014) — Банников А. В., Морозов М. А. История военного флота Рима и Византии от Юлия Цезаря до завоевания крестоносцами Константинополя. СПб.: Евразия, 2014.
- Васильев (1902) — Васильев А. А. Византия и арабы. Т. II. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии: Императоры Василий I, Лев VI Философ и Константин VII Багрянородный (867–959 г.). СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1902.
- Вдовченков (2017) — Вдовченков Е. В. Социальная история сарматов Нижнего Подонья. М.: Аквилон, 2017.
- Грацианский (2013) — Грацианский М. В. Еще раз об источниках «истории» Льва Диакона // Византийский Временник. 2013. Т. 72 (97). С. 68–83.
- Гумилев (1967) — Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967.
- Дмитриев (2017) — Дмитриев В. А. К истории военно-морского флота в Сасанидском Иране // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 34–44.
- Каждан (1961) — Каждан А. П. Из истории византийской хронографии X в. 2: Источники Льва Диакона и Скилицы для истории третьей четверти X столетия // Византийский Временник. 1961. Т. 20. С. 106–128.
- Казанский (2016) — Казанский М. М. «Понтийский лимес» в эпоху позднеримской империи и северные варвары // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2016. Вып. XXI. С. 58–83.
- Казанский (2020) — Казанский М. М. Древности степных кочевников постгуннского времени (середина V — середина VI вв.) в Восточной Европе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2020. Вып. XXV. С. 90–167.
- Комар, Сухобоков (2000) — Комар А. В., Сухобоков О. В. Вооружение и военное дело Хазарского каганата // Восточноевропейский археологический журнал. 2000. № 2 (3).
- Кулаковский (1996) — Кулаковский А. И. История Византии. 602–717 годы. СПб.: Алетейя, 1996.
- Митрофанов, Клингхардт (2023) — Митрофанов А. Ю., Клингхардт Г. Император Юстиниан II и запрет иконографии Агнца Божия на Трулльском Соборе (691–692 гг.) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2023. № 1 (17). С. 247–260.
- Подосинов (2015) — Подосинов А. В. К вопросу об источниках «Перипла Понта Эвксинского» Псевдо-Арриана // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2015. С. 637–649.
- Симоненко (2011) — Симоненко А. В. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. СПб.: Нестор-История, 2011.
- Слядзь (2022) — Слядзь А. Н. Воля к жизни как воля к власти: обстоятельства изгнания, условия и причины возвращения на престол византийского императора Юстиниана II (695–705) // Proslogion: Studies in Medieval and Early Modern Social History and Culture. 2022. Vol. 6 (2). P. 29–62.
- Сюзюмов (1916) — Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Диакона и Скилицы // Византийское обозрение. 1916. Т. 2. С. 106–166.
- Туаллагов (2009) — Туаллагов А. А. Поздние сарматы на границах Рима // Известия СОИГСИ. 2009. № 3 (42). С. 72–98.
- Чичуров (1980) — Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука, 1980.
- Цукерман (2001) — Цукерман К. Хазары и Византия: первые контакты // МАИЭТ. Симферополь, 2001. С. 312–333.
- Шагинян (2011) — Шагинян А. К. Армения и страны Южного Кавказа в условиях византийско-иранской и арабской власти. СПб.: Алетейя, 2011.
- Afinogenov (2002) — Afinogenov D. A Lost 8th century Pamphlet against Leo III and Constantine V? // Eranos. 2002. Vol. 100. P. 1–17.
- Beihammer (2000) — Beihammer A. D. Nachrichten zum byzantinischen Urkundenwesen in arabischen Quellen (565–811). Ποικίλα Βυζαντίνα 17. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 2000.
- Greatrex, Lieu (2005) — Greatrex G., Lieu N. C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, Part II AD 363–630. A narrative soourcebook. London; New York: Routledge, 2005.
- Howard-Johnston (2010) — Howard-Johnston J. Witness to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Kaegi (1992) — Kaegi W. E. Byzantium and the Early Islamic Conquests. Cambridge: University Press, 1992.
- Lilie, Ludwig, Zielke, Pratsch (2013) — Lilie R.-J., Ludwig C., Zielke B., Pratsch Th. Leon III // Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online. Berlin: De Gruyter, 2013. URL: https://www.degruyter.com/database/PMBZ/entry/PMBZ15400/html (дата обращения: 12.09.2024).
- Ludwig (1991) — Ludwig C. Kaiser Herakleios, Georgios Pisides und die Perserkriege // Varia III. Beiträge von Wolfram Brandes, Sophia Kotzabassi, Claudia Ludwig und Paul Speck. Ποικίλα Βυζαντίνα 11. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1991. S. 73–128.
- Makrypoulias (1995) — Makrypoulias Chr. G. The Navy in the Works of Constantine Porphyrogenitus // Graeco-Arabica. Athena, 1995. Vol. VI. P. 152–171.
- Mitrofanov (2023) — Mitrofanov A. The Lord’s gift transformed into a tiger: A hypothesis regarding the fate of the Empress Theodora of Khazaria (705–711) // Byzantinische Zeitschrift. 2023. Vol. 116 (1). S. 127–146.
- Pryor, Jeffreys (2006) — Pryor J. H., Jeffreys E. M. The Age of the Δρομων. The Byzantine Navy ca. 500–1204 with an Appendix translated from the Arabic of Muhammad ibn Mankali by Ahmad Shboul. Leiden; Boston: Brill, 2006.
- Speck (1981) — Speck P. Versuch einer Charakterisierung der sogenannten Makedonischen Renaissance // Les Pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance): Actes du colloque nordique et international de byzantinologie tenu à Upsal 20–22 avril 1979 / Ed. by R. Zeitler. Uppsala, 1981. S. 237–241.
- Speck (1981b) — Speck P. Artabasdos, der rechtgläubige Vorkämpfer der göttlichen Lehren. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1981.
- Speck (1984) — Speck P. Ikonoklasmus und die Anfänge der Makedonischen Renaissance // Varia I. Beiträge von Ralph-Johannes Lilie und Paul Speck. Ποικίλα Βυζαντίνα 4. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1984. S. 175–210.
- Speck (1994) — Speck P. Der “zweite” Theophanes. Eine These zur Chronographie des Theophanes // Varia V. Beiträge von Thomas Pratsch, Claudia Sode, Paul Speck und Sarolta Takacs. Ποικίλα Βυζαντίνα 13. Bonn: Dr. Rudolf Habelt CMBH, 1994. S. 431–483.
- Speck (1997) — Speck P. Épiphania et Martine sur les monnaies d’Héraclius // Revue Numismatique. 1997. P. 457–465.
- Speck (2002) — Kaiser Leon III., Die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber Pontificalis, T. I: Die Anfänge der Regierung Kaiser Leons III. Ποικίλα Βυζαντίνα 19. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 2002.
- Speck (2003) — Speck P. Kaiser Leon III., Die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber Pontificalis. T. II: Eine Neue Erkenntnis Kaiser Leons III; T. III.; Die Aπόστασις ῾Ρώμης και Ἰταλίας und der Liber Pontificalis. Ποικίλα Βυζαντίνα 20. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 2003, 514.
- Zuckerman (1995) — Zuckerman C. La petite Augusta et le Turc. Epiphania-Eudocie sur les monnaies d’Héraclius // Revue Numismatique. 1995. P. 113–126.
- Zuckerman (1997) — Zuckerman C. Au sujet de la petite Augusta sur les monnaies d’Héraclius // Revue Numismatique. 1997. P. 473–478.