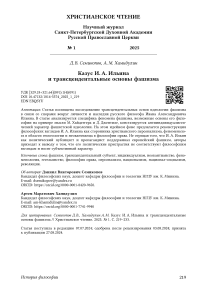Казус И. А. Ильина и трансцендентальные основы фашизма
Автор: Семикопов Д.В., Хамидулин А.М.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию трансцендентальных основ идеологии фашизма в связи со спорами вокруг личности и наследия русского философа Ивана Александровича Ильина. В статье анализируется специфика феномена фашизма, возможные основы его философии на примере мысли М. Хайдеггера и Д. Джентиле, констатируется антииндивидуалистический характер фашистской идеологии. На этом идейном фоне предлагается реконструкция философских взглядов И. А. Ильина как сторонника христианского персонализма, феноменолога в области гносеологии и неокантианца в философии права. Не отрицая того, что И. А. Ильин как политический публицист и пропагандист поддерживал европейский фашизм, авторы приходят к выводу о том, что его политические пристрастия не соответствуют философским взглядам и носят субъективный характер.
Фашизм, трансцендентальный субъект, индивидуализм, неокантианство, феноменология, гегельянство, философия права, персонализм, национализм, национал-социализм, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/140309274
IDR: 140309274 | УДК: [329.18+321.64](091):1(4)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_219
Текст научной статьи Казус И. А. Ильина и трансцендентальные основы фашизма
Artem Maratovich Khamidulin
Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Theology at the Minin
Nizhny Novgorod State Pedagogical University.
27.08.2024.
I
300-летие Канта, которое мы отмечаем в этом году, это дополнительный повод осмыслить тот путь, который совершила европейская интеллектуальная традиция за прошедшие столетия. Как бы ни относиться к Канту, а у него всегда было много оппонентов и врагов, его «коперниковский поворот» ознаменовал глобальные изменения в сознании европейского человека и совпал с одной из главных революционных волн в истории человечества. Кант — один из отцов-основателей нашего интеллектуального мира во всем его многообразии. Примечательно, что во время одного из самых знаменитых процессов над нацистом Адольфом Эйхманом судья был поражен тем, что подсудимый стал ссылаться на Канта и утверждать, что придерживался его категорического императива, до тех пор пока не был привлечен к «окончательному решению» еврейского вопроса, что потребовало у него трансформации категорического императива, который теперь приобрел у него такую форму: «Поступай так, чтобы нормы твоих поступков были такими же, как у тех, кто пишет законы, или у самих законов твоей страны» [Арендт, 2008, 205].
Кант вводит понятие трансцендентального как априорного, изначально данного. Всякий человек есть трансцендентальный субъект, создающий и конструирующий собственный мир на основе априорных форм чувственного созерцания. Тем самым он завершает индивидуалистскую линию, тянущуюся от Декарта через Локка и Лейбница, являя миру человека как самодостаточного автономного рационального индивида, обладающего сознанием, способным конструировать реальность. Так рождается новый, солнечный и рациональный мир модерна, который переживет свой закат в XX в. И главным гробовщиком этого мира модерна выступит мировая война, сыгранная в двух актах, между которыми происходят революционные события, приводящие к власти новые, тоталитарные идеологии, настроенные категорически против индивидуализма и полагающие в основу трансцендентальные реальности коллективного характера. Кризис империализма во многом становится и кризисом индивидуализма, а место человека как трансцендентального субъекта заступают нации и классы.
Фашизм — особое явление в истории европейской интеллектуальной культуры. По восприятию обывателя он есть максимально возможное торжество зла. И все, что попадает в тень фашизма, становится словно бы помеченным, оскверненным. Предшественники фашизма, его спутники и последователи словно бы носят каинову печать. Поэтому слово «фашизм» столь часто используется сейчас как ярлык в идеологических спорах.
Празднование 300-летия Канта в этом году в российском общественном поле было заслонено спором вокруг другого философа, имеющего прямое отношение как к истории европейского фашизма, так и к немецкой классической философии. Имя Ивана Александровича Ильина, именем которого была названа Высшая политическая школа при РГГУ, породило волнения не только в философских кругах и поставило ряд вопросов. Обвинение частью студентов РГГУ русского мыслителя в фашизме, подхваченное сторонниками левой идеологии, вызвало ответную реакцию со стороны сторонников правого консерватизма и русского национализма. Спор продолжается, но вряд ли в рамках столкновения политических идеологий будет обретена хоть какая-то истина. Между тем данный спор интересен и с историко-философской точки зрения. Был ли Ильин философом русского фашизма и фашизма вообще? Что такое вообще философия фашизма? Каково вообще должно быть отношение к наследию мыслителей, так или иначе связанных с фашизмом?
II
Можно ли дать исчерпывающее определение фашизма? Вряд ли. Скорее можно составить очередной обзор предшествующих попыток, понять, что любое определение будет повтором чьих-то уже высказанных мнений, и попытаться предложить свою компиляцию признаков данного исторического феномена. Стоит обратить внимание и на то, что фашизм — это уже давно не просто понятие, но ярлык или клеймо, которое используется в борьбе с политическим оппонентом. Поэтому на мнения ангажированных исследователей данного феномена обращать особого внимания не стоит: их задача не объективное исследование, а поражение оппонента. А фашизм — столь мощное средство для дискредитации политического противника, что грех им не воспользоваться.
Представляется, что фашизм нуждается в более строгом описании со стороны ученых, непосредственно занимающихся этим феноменом. Возьмем несколько научных определений, принадлежащих авторитетным современным исследователям данного вопроса. Первое принадлежит известному британо-американскому социологу Майклу Манну: «Фашизм — это попытка создать трансцендентное национальное государство, при помощи парамилитаризма проведя народ через чистки» [Манн, 2019, 28]. В данном определении не совсем понятно, что автор вкладывает в понятие «трансцендентное», но можно предположить, что он имеет в виду надклассовое корпоративное государство. Во всяком случае, в соответствующем разделе он пишет, что фашистский национал-этатизм должен был репрессивными методами подавить или даже уничтожить все противоборствующие в обществе силы, а уже после этого инкорпорировать их в государственные институты (см.: [Манн, 2019, 30]).
В монографии другого ученого, итальянского философа и политолога Эмилио Джентиле, «Фашизм. История и истолкование» рассматривается обширная историография проблемы и анализируются мнения наиболее авторитетных исследователей, таких как Джордж Мосс, Роджер Гриффин, Роджер Итвелл, Хуан Линц и Стенли Пейн. Особое внимание обращает на себя то, что во всех проанализированных Джентиле определениях присутствует «третий путь», антикоммунизм, культ вождя и мистический ультранационализм. Так, к примеру, Пейн определяет фашизм как форму революционного ультранационализма, стремящегося к национальному возрождению, основанному на философии жизни и воли, откровенном вождизме и мобилизации масс. Фашизм при этом оправдывает насилие как цель и средство и склоняется к тому, чтобы признать нормой войну и военную доблесть (см.: (Джентиле, 2022, 109)).
Фашизм возникает на почве национализма, как попытка в эпоху кризиса консолидировать нацию, опираясь на иррациональную тайну и животную силу национального начала, путем революционного действия, создания передового модерного общества будущего. Данная революционная устремленность цементируется культом вождя и подкрепляется сакрализацией насилия, священностью борьбы с врагами нации внутри и снаружи. Это определенный социологический консенсус, к которому Джентиле применяет свою известную теорию «политической религии», состоящую в том, что современные идеологии формируют общества на основе укоренившихся в коллективном сознании религиозных структур. Показательно для нас то, что И. А. Ильин в своих «Письмах о фашизме» (1925-1926) отмечает в фашистской идеологии практически те же черты: национальную исключительность, страстность, тенденцию к выхождению за границы устоявшихся форм и губительность по отношению ко многому (Ильин, 2001a, 233).
В чем же суть определения фашизма Джентиле? Он анализирует фашизм как политическое движение и режим, в результате выделяя три аспекта: организационный, культурный и институциональный. Организационно фашизм — это массовое движение, в котором преобладает средний класс, причем, как правило, с боевым ветеранским опытом. Это боевой союз, для которого все средства хороши, лишь бы только захватить монополию на власть. Фашистская культура — это трагический активизм, понимаемый как воля к власти и основанный на мифе о возрождении нации на пути сакрального насилия. Идеология фашизма отвергает материализм, индивидуализм, либерализм, марксизм и демократию, оставаясь подчеркнуто антикапиталистиче-ской. Этика фашизма полностью починяет индивида государству, требуя от него слиться воедино и бросить вызов истории. Дисциплина, мужество, героизм, дух боевого товарищества и воинской доблести — вот главные добродетели фашиста.
Институционально фашизм — это корпоративный союз партии и государства во главе с вождем, полицейский аппарат внутри страны и экспансия вовне (см. подр.: (Джентиле, 2022, 141–144)).
В современных исследованиях все чаще обращается внимание на революционность фашизма, на то, что это прежде всего футурологический проект. Еще один известный исследователь фашизма — израильский социолог Зеев Штернхель, обращает внимание на определяющее влияние на фашизм идей социалиста-синдикалиста Жоржа Сореля, изложенных в трактате «Размышления о насилии». Именно Сорель приносит зарождающемуся фашизму идею революции, искореняющей либерально-демократический режим и создающей свои интеллектуальные и нравственные нормы без разрушения всех экономических структур капитализма (см.: [Штернхель, Ашери, 2022, 105]).
О влиянии левых идей и персоналий на формирование фашизма указывают и отечественные исследователи. Так, Д. Моисеев в монографии «Политическая философия итальянского фашизма» отмечает тот факт, что Муссолини начинал свою политическую карьеру как социалист и сам себя называл синдикалистом и последователем Сореля (см.: [Моисеев, 2001, 62–86]). Известный исследователь феномена фашизма Константин Залесский называет четыре главных признака фашизма: национализм, этатизм, парамилитаризм и революционность. Последнюю он при этом считает лакмусовой бумажкой, помогающей отделить фашизм от различных консервативных движений (см.: [Залесский, 2024, 81]). Первым же, кто обратил внимание на революционный характер нацизма, был американский социолог Парсонс, написавший об этом еще в 1975 г.: «Массовые движения, являясь принципиально революционными, и есть то, что в первую очередь отличает фашизм от консерватизма» (цит. по: [Залесский, 2024, 81–82]).
Причем революционное вдохновение было характерно не только для Муссолини, но и для Гитлера, в чем несложно убедиться при обращении к источникам. «Наш национализм — это слепая вера в необходимость создания нового порядка, поскольку старый потонул и растратился», — говорит Гитлер в 1927 г. (цит. по: [Цительманн, 2023, 86]). Для Гитлера ноябрьская революция 1918 г. была «биржевой революцией», которая была предопределена тем, что старый порядок должен был быть разрушен. В этом плане его мысль следовала логике «консервативной революции», но он не был консерватором. Отношение Гитлера к Ноябрьской революции во многом совпадает с позицией одного из главных представителей «консервативно-революционного» течения межвоенного периода Мёллера ван ден Брука. По мнению Гитлера, революция изменила не слишком много, а слишком мало, а из высказываний Мёллера становится ясно, что ему «революция, с которой позднее так боролись, как раз казалась недостаточно революционной» [Цительманн, 2023, 91]. В своем печально известном главном сочинении он, рассуждая о том, что авторитет государства не является самоценным, открыто признает право народа на революцию (см. об этом: [Цительманн, 2023, 92]). Базовым понятием для Гитлера, в отличие от итальянского фашизма, является понятие нации или народа, а не государства. В этом и главное отличие германского нацизма от итальянского фашизма. Тем не менее оба движения позиционируют себя как революционные, национальные и прогрессивные, при этом антилиберальные и антикоммунистические, двигающие историю вперед, к будущему величию избранной ею нации. И Муссолини, и Гитлер создают нового человека и новый мир, альтернативное по отношению к либеральному и советскому проектам будущее. Это видно и из обращения к наследию итальянских и немецких философов, поддерживающих новые режимы.
Интересно, что в «Письмах о фашизме» Ильин отмечает «революционный социализм» деятельности Муссолини, стремившегося решить социальный вопрос с помощью «благородной силы», присущей «новой волевой аристократии, способной на жертвенную борьбу и несущей с собою справедливость и духовный расцвет» (Ильин, 2001a, 233, 243, 254, 259), а в статье «Национал-социализм. Новый дух» (1933), в которой среди всего прочего говорится и о необходимости диктаториально-волевого
«до издания соответствующего закона», но непременно творческого решения социального вопроса, это решение Ильин прямо определяет как революционное (см.: (Ильин, 2001a, 320)). Причем здесь важно не только то, что Ильин усматривает в приходе к власти фашистов революционный признак, но и то, что самому Ильину такое политическое решение кажется оправданным, что весьма показательно на фоне его тотального осуждения событий русской революции.
III
Знаменитый итальянский медиевист Умберто Эко указывает, что у фашизма, собственно, нет философии, ведь итальянский фашизм не был единой идеологией, а был скорее мозаикой из разносортных политических и философских идей (см.: (Эко, 2003, 61–62)). Конечно, можно записать в предтечи фашизма и Платона, и Руссо, и Гегеля, и Ницше, но в случае с итальянским фашизмом нет какой-то определенной философской школы, идеи которой он бы реализовывал. Джованни Джентиле, который считается главным итальянским фашистом-философом, свою систему создавал уже постфактум. Он «придумывал» философию фашизма, при этом опираясь на свою актуалистическую интерпретацию неогегельянства. Примечательно, что его философия была прежде всего философией государства как величайшего проявления Абсолюта. Джентиле был противником либеральной философии индивидуализма, для него человек существует только в коллективе, только благодаря «мы» и тому диалогу, который непрерывно происходит. Трансцендентальный субъект Канта становится в политической онтологии Джентиле трансцендентальным обществом, изначальным по отношению к человеку (см.: [Моисеев, 2021, 186]). При этом государство оказывается первичным и по отношению к нации, вернее, скажем так, нация актуализирует себя только в государстве: «Таким образом, в социальной философии актуального идеализма нация первична как форма, государство является ее конкретным выражением и позволяет существовать национальности в гражданском смысле» [Моисеев, 2021, 188].
Джентиле, как известно, был соавтором Муссолини при написании программной «Доктрины фашизма», утверждающей антииндивидуалистический характер фашизма, признающего только того индивида, который един с государством. Нацию можно определить как множество, объединенное одной идеей, «высшую личность» (personalita superior) (см. подр.: [Моисеев, 2021, 227–228]).
Несколько иной, но очень схожий подход можно найти и в философии национал-социализма как одного из течений консервативной революции Германии. Мы не касаемся крайне сложного вопроса о том, можно ли считать философию тех немецких мыслителей, которые разделяли идеалы «Консервативной революции», фашистскими. Очевидно, что это был более широкий идеологический спектр. В качестве выразителя немецкой идеологии мы возьмем идеи Мартина Хайдеггера, состоявшего в 30-е гг. в НСДАП и официально поддерживавшего внутреннюю и внешнюю политику Гитлера вплоть до 1938 г.
Спор вокруг темы «Хайдеггер и нацизм» длится уже не одно десятилетие. В целом нет сомнений, что Хайдеггер был «попутчиком» (митлоуфером — «бегущим вместе») нацистского режима, каковым он и был признан в 1949 г. Также нет сомнений и в том, что в начале 30-х гг. он испытывал своего рода революционный энтузиазм по поводу того антропологического переворота, который совершался на его глазах. «То, что происходило после прихода национал-социалистов к власти, переживалось Хайдеггером как революция; для него это было чем-то гораздо большим, нежели просто политика, — новым актом истории присутствия, переломом эпох» [Софрански, 2005, 314].
Обратим внимание на нашумевшую книгу французского историка философии Эммануэля Фая [Фай, 2021]. Несмотря на полемику, развернувшуюся после выхода книги и ставшую одной из серий далеко не законченного интеллектуального шоу «Хайдеггер и нацизм», аргументы и тексты, приводимые из обширного наследия
Хайдеггера, весьма убедительны. Мы не беремся решить, кто же сейчас прав: те, кто, как Фай, считают мысль Хайдеггера национал-социалистической по своему существу, или те, кто видит в нем лишь попутчика. Но вполне очевидно, что в 30-е гг. Хайдеггер вступил в партию и пытался стать идеологом нового режима. В силу этого, т. к. об этом говорил и сам Хайдеггер, его работы периода 30-х гг. вполне можно рассматривать как профашистские.
Одним из базовых понятий в этих работах становится термин «народ» как «Volkisch», очень популярный в эпоху Третьего рейха. В 1934 г. Хайдеггер проговаривает следующее: «Государство есть только за счет того, что оно становится тем историческим бытием сущего, которое называется народом» [Фай, 2021, 207], таким образом проводя аналогию между знаменитым соотношением бытия и сущности в «Бытии и времени» и государством и народом. В первоначальной версии доклада «Исток художественного творения» Хайдеггер говорит о вот-бытии, в котором «народ приходит к самому себе, то есть к принудительной власти своего бога» [Фай, 2021, 501]. Этот отрывок довольно интересно выглядит в свете одного места из недавно опубликованных «Черных тетрадей»: «Достоевский в конце первой главы „Бесов“ говорит: „А у кого нет народа, у того нет и Бога!“ — А у кого и как есть народ, а именно свой народ? Только у того и так, у кого есть Бог? Но у кого и как есть Бог?» (Хайдеггер, 2020б, 147). На следующей странице Хайдеггер отвечает на поставленный им вопрос: «Все изначальное возникает из коренного, а значит, идет „снизу“. Но этот „низ“ ничем не является, если не несет в себе возможности своего верха и не ведет к господству. Вот почему ничто важное не проистекает „только“ снизу и никогда „только“ сверху, — но лишь из борьбы за сущностное освобождение и того и другого — из промежутка между ними» (Хайдеггер, 2020, 148). В этом плане Хайдеггер является врагом трансцендентного как того, что застыло в вечности. У Хайдеггера смысл бытия — во времени, в конечности. Все важное случается в событии как становлении.
Как известно, Хайдеггер не любил Декарта и даже предлагал исключить его из программы немецких университетов. Он считал, что учение о человеке как субъекте у Декарта принципиально ошибочно, поскольку такая оптика не позволяет увидеть фундаментальную природу человека (Хайдеггер, 2013, 319). Каково же это бытие человека в нем самом? Это бытие в самости, в изначальном по отношению к «я» вот-бытии. Хайдеггер, в полном созвучии с положениями «Бытия и времени», считает непростительным для Декарта, что тот исходит из человеческого «я» (moi/ Ich), а не «себя» (soi/Selbst). Иными словами, доведение до «я» было лишь видимостью радикальности, избегающей искать в самости, в себе нечто более изначальное, чем «я». То есть Хайдеггер попенял Декарту за то, что тот определяет сущность «я» как сознание, упуская тем самым историческое измерение человека и его связь с совместным бытием.
Следует заметить, что когда мы говорим о трансцендентальном в отношении Хайдеггера, то правильнее говорить о трансценденции и трансцендентном. Трансцендентальное как априорное начало, предшествующее опыту, Хайдеггер не признавал, особенно после разрыва с Гуссерлем и поворотом 1930-х гг. Для Хайдеггера не существовало внеопытного или внеисторического знания. От гносеологии он идет к онтологии. Дело в том, что понятие «трансцендентальное» имеет у Канта значение не только «априорного», но и «божественного», которое как раз и используется Хайдеггером. В своем, как говорят исследователи, втором главном труде, написанном в стол, а именно в трактате «К философии», он указывает: «Когда говорится о Боге и богах, мы по старой привычке представления думаем в той форме, которая отчетливее всего отражена в пусть даже и неоднозначном понятии „трансценденции“. Оно предполагает нечто такое, что превосходит наличное сущее, равно как и человека» (Хайдеггер, 2020a, 147). Далее Хайдеггер рассуждает о том, что раньше такой трасцен-денцией был христианский Бог, сейчас же ею стал народ, причем народ в либеральном смысле, не определенный в своей сущности. Проблема, по Хайдеггеру, в том, что и в христианстве, и в либерализме человек объявляется сущим и известным в своей сущности. На самом же деле человек должен быть сдвинут в «междупро-странствие, где равно теснит хаос, и Бог продолжает пребывать в бегстве. Но это „междупространствие“ — не „трансценденция“ относительно человека, а, напротив, то открытое, которому принадлежит человек как основатель и хранитель». Как тут не вспомнить знаменитое хайдеггеровское «человек — пастух Бытия», а подлинное бытие оказывается у немецкого мыслителя лежащим глубже любых личных местоимений, которые «не дотягиваются» до самости (Хайдеггер, 2020a, 403).
Эта самость человека — самость исторического народа, потому как именно так человек являет себя в истории. При этом для Хайдеггера не народ является целью. Цель — явление подлинного бытия во времени, то есть истории: «Самость человека — историчного человека как народа — это область свершений (Geschehnisbereich), в которой он сам себе о-своен (zu-geeignet) лишь тогда, когда он сам достигает открытого пространства-времени, в котором может происходить это присвоение (Eignung)» (Хайдеггер, 2020a, 78). Это видение Хайдеггера присутствовало в его философии и до нацистского периода, и после него. Итак, по мнению Хайдеггера, человек как индивид реализует себя через народ, в нем он обретает призвание к истории, свою подлинную самость. Хайдеггер думал, что национальный порыв 30-х — то самое явление бытия, что через участие в этом движении реализуется та самая самость немецкого человека. Хайдеггер видел в народе ту самую трансценденцию, через которую являет себя бытие в истории.
Отметим характерные черты философии как Джентиле, так и Хайдеггера. Их философия иррациональна и анти-индивидуалистична. По отношению к человеку онтологически первичны трансценденталии государства (Джентиле) и народа (Хайдеггер), в которых человек и обретает полноту или смысл бытия и истинную свободу. При этом фашистское общество носит тоталитарный характер, пронизывающий все сферы бытия. Главный враг этих систем — индивид, господствующий в философии либерализма. Именно индивид должен быть исторически преодолен, нация должна быть единой. В этом суть фашистской и национал-социалистической революции.
И, наверное, наиболее интересный момент связан с вопросом революционности идеологии фашизма. Можно отметить, что все фашистские деятели той эпохи и их попутчики говорили о положительной роли национальной или националистической революции именно как революции, но революции, направленной против индивидуализма, либерализма, т. е. французской революции 1879 г. и ее наследия и коммунизма и русской революции 1917 г. Эти революции объявлялись ложными, в противоположность истинной национальной революции.
Отметим, что и многие формальные признаки революции ряд фашистских режимов содержит. Возьмем такое определение: «Революция — это насильственное свержение власти, осуществляемое посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания новых политических институтов» [Голдстоун, 2017, 19]. Насилие, массовая мобилизация нации, новые политические институты — всё это наличествовало, но при этом фашизм сохранял буржуазный социально-экономический строй. Но сохранял каким образом? Через революционные механизмы мобилизации нации, для чего и использовался консерватизм, то есть национальная традиция и национальные ценности. Но при этом, однако, декларировалось появление нового человека и новой реальности — что, однако, у фашизма никогда не получалось. Все фашистские лидеры обещали гибель индивидуализма, то есть либерального человека, и капитализма, то есть либерального сообщества, но до реализации подобных проектов фашистские режимы не доживали, хотя подобное будущее предполагало прекращение революции. Фашизм обещал новое Средневековье со свойственной Средневековью стабильностью. Источник же нестабильности, источник перманентной революции фашизм видел именно в индивидуализме.
Карл Маркс как-то сказал, что «философию Канта можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции» (Маркс, 1954, 88). Эту мысль, заимствованную у Гейне, потом развивали многие, в том числе и о. П. Флоренский: «Вы видели великое значение Канта. Он произвел величайшую из революций. Не важно даже, чем он был на самом деле, а важно, как восприняли его ближайшие поколения. А они видели в нем именно вершителя самого величественного из переворотов, который был совершен на земле. Кант, по их мнению, своею критикой обезглавил Бога» (Флоренский, 2007, 33). В чем же суть кантовской революции? По мнению о. Павла, Кант произвел революцию своею верой в автономное и самодостаточное человечество, которое по своей сущности прямо противоположно Церкви (см.: (Флоренский, 2007, 34)). Отцу Павлу Флоренскому вторит Хайдеггер, который в своих лекциях, посвященных Канту, утверждает, что главной его ошибкой был антропологический поворот, приписывание смысла бытию человека. Кант как бы запирает бытие в человека, создавая неправильный взгляд на мир.
Действительно, Кант создает трансцендентального субъекта, конструирующего мир. Этот субъект имеет дело не с реальностью, а только с моделями реальности, при этом модели-то могут быть разными. Не случайно Ленин возмущался тем, что у Канта возможен и идеализм, и материализм (см.: (Ленин, 1968, 207)). Но Кант принципиально адогматичен. При этом у Канта трансцендентальный субъект — это человек или человечество, живущее в природе каждого из нас. Фактически Кант освободил сознание человека, сделав его абсолютно одиноким и способным в своем одиночестве на построение множества миров.
Как фашизм соотносится с Кантом? Сам Кант вряд ли может быть назван среди его предтеч, настолько очевиден универсализм и либеральность его позиции. Но кантовский метод фашизм использует, как, впрочем, и любая модерная политическая идеология. В итальянском фашизме в качестве трансцендентального субъекта мы находим государство, в немецком национал-идеализме — народ, а вернее, германскую нацию, в которой каждый субъект реализует и свою свободу, и категорический нравственный императив. Так буржуазный человек деперсонализируется в буржуазной нации посредством фашистской революции, выступающей против буржуазного индивида. При этом используются революционные механизмы тотальной мобилизации, приводящие нацию к единству через чистки в отношении тех, кто этому единству не соответствует.
IV
Что же Ильин? В наиболее часто сейчас цитируемой его статье «О фашизме» он сводит его как явление к простой реакции на коммунизм, называя его реакцией государственно-охранительных сил направо. Но сами фашисты, равно как и национал-социалисты, себя реакционерами не считали. И менее всего они были охранителями. Будучи этатистами, они стремились к построению нового революционного типа государства, надклассово объединяющего нацию. Фашистской волне не во всех странах предшествовал или составлял конкуренцию коммунизм. В той же Италии коммунизм не был особо популярен, в ряде азиатских стран (Турции или Японии) никакого коммунизма не было вообще. И если о союзе между фашизмом и консерватизмом говорить можно, то отождествлять их было бы ошибкой. Фашизм был против консерватизма как христианского наследия, он был за новую культуру и считал охранителей прошлого лишь временными попутчиками. Но у Ильина выстраивается иная картина, фактически он заявляет, что если бы фашизм не был фашизмом, то он был бы вполне приемлем. Фашизм проиграл из-за своих ошибок. Каковы же они? 1. Безрелигиозность и враждебное отношение к христианству; 2. Тоталитаризм; 3. Вытекающая из тоталитаризма партийная монополия; 4. Радикальный национализм и шовинизм; 5. Нарушение экономических свобод; 6. Языческий по своей сути цезаризм (Ильин, 1993, 87).
Но если убрать из фашизма все эти признаки, то он перестанет быть фашизмом, от него как исторического феномена просто ничего не останется, а то, что останется, будет соответствовать национальному государству буржуазно-консервативного типа. Таким образом, Ильин был сторонником не фашизма, а правого поворота без каких-либо крайностей вроде революции. Фактически он был сторонником либерального консерватизма с сильной государственной централизацией, вплоть до диктатуры, отсюда и его сочувствие правым диктатурам Салазара и Франко.
Ильина часто называют монархистом, но это не совсем так. Он скорее придерживался аристотелевских принципов классификации власти, считая, что для разных стран оптимальными могут быть разные формы правления, которые находятся в прямой зависимости от особенностей национального характера и политической истории. То есть для США оптимальна республиканская монархия, а для России — монархия или диктатура, но обязательно не тоталитарная, сохраняющая частную собственность и права. Для Ильина характерно учение о государстве как учреждении и как корпорации. Государство-учреждение — это патерналистская диктатура или монархия, а государство-корпорация — республика или иная форма народного самоуправления. Так вот для Ильина государство должно совмещать обе эти формы, идеал для него находится в гармонии этих двух начал: «Крайние лозунги — „все сверху“ и „все снизу“, — столь соблазнительные для людей примитивного мышления и страстного темперамента, одинаково несостоятельны и опасны» (Ильин, 1993, 104).
Ильин выступает за принцип свободной ответственности, за личностное развитие гражданина, за творческое сочетание власти и народного самоуправления, которое должно возносить на вершину власти лучших. В общем-то, идеальное государство для Ильина — это иерархическая или ранговая корпорация, в которой каждый занимает подобающее ему место, при этом свободно соглашаясь со своим положением в обществе. Такое государство сочетает сильную диктаторскую власть и демократию на местах. В статье «О сильной власти» Ильин по пунктам перечисляет принципы оптимальной, по его мнению, политической системы для России:
-
1. Сильная власть, но при этом обязательно правовая, то есть опирающаяся на право и ограниченная им;
-
2. Конституция, творчески наполняющая государственную форму учреждения духом братской корпорации;
-
3. Политический строй должен быть по духу федеративным, а по форме унитарным;
-
4. Сильный политический центр, но при этом народный, избавленный от диктатуры бюрократии;
-
5. Дела государственного уровня должны решаться центром, а все остальные — органами народного самоуправления на местах;
-
6. Верховный орган власти желателен в виде единоличной сильной несменяемой личности (но это не обязательно) (см. подр.: (Ильин, 1993, 415–419)).
Как мы видим, на самом деле Ильин предлагает модель республиканской или конституционной монархии, и в этом плане он остался верен себе. Именно таковыми были его взгляды в молодости, он был близок к партии кадетов и приветствовал Февральскую революцию. Эти же взгляды он исповедовал на закате своих дней, уже после Второй мировой войны. Для ультраправого православного монархизма характерно исповедание монархии как единственного легитимного строя, устанавливаемого Богом, с не ограниченной никакой правовой системой властью. У Ильина подобного монархизма нет, равно как и нет каких-либо отсылок к образам «Третьего Рима», катехона, translatio imperii и пр. Его мысль находится в русле идеалистической философии права, которая развивалась Б. Н. Чичериным, его учителем П. И. Новгородцевым, Е. Н. Трубецким, С. И. Гессеном. То есть это русское правовое неокантианство. Так, Новгородцев считал, что самой прочной моральной базой всех общественных отношений является признание уникальности человеческой личности и ее свободы самопроявления, — в чем видится прямое влияние кантианского понимания человека, согласно которому человек, в том числе в политической сфере, не должен быть только средством. При таким способом организованном обществе требуется единое правовое поле и единая власть, выше которых ничего не должно быть. Сравним это с тезисами Ильина: «Сильная власть грядущей России должна быть не внеправовая и не сверхправовая, а оформленная правом и служащая по праву, при помощи права — всенародному правопорядку... Русский народ должен осознать себя как правовое единство, как Субъект Права, состоящий из множества субъектов права, как живую Всероссийскую Личность, которую строит и ведет сильная правовая власть» (Ильин, 1993, 415). Сходство очевидно. Государственный идеал Ильина близок русской школе права, из которой, собственно, Ильин и вышел, а она, в свою очередь, была школой неокантианской, следующей принципам трансцендентального идеализма. И то, что Ильин идеологически примкнул к правым эмигрантским кругам и стал идеологом РОВС, не изменило его политического либерализма. Ильин говорит о свободе личности и правовом государстве в своей политической публицистике гораздо чаще, чем о монархии. Примечательно в этом отношении выглядит данная Ильиным Муссолини характеристика, в которой идея индивидуализма находится в гармоничном сочетании с идей авторитаризма: «Он, как это обычно бывает у сильной личности, — „индивидуалист“; всякое иго, стесняющее его самобытность, противно ему; „голосованиями“ он тяготится и в творческое значение их не верит; членом партии он может быть лишь постольку, поскольку он ведет ее; Фихте, Шопенгауэр, Штирнер, Ницше — постоянно гостят на его столе, но было бы грубым недоразумением и даже клеветой — говорить, что он „безответственный деспот“» (Ильин, 2001a, 320). По всей видимости, самому Ильину импонировала такая позиция сильной личности, сочетающая в себе духовный аристократизм, индивидуалистичность, властность и страстную решимость в следовании собственным идеалам.
Что же относительно национализма? Считал ли Ильин нацию выше индивида, говорил ли он о нации как цели личностного бытия? Для Ильина народы — это проявление созданного Богом многообразия хвалений. Каждый народ по-своему отзывается на Божественный зов. И само по себе это многообразие есть нечто эстетически прекрасное, то, чем недопустимо жертвовать в пользу пошлой химеры тоталитарного единообразия: «…Все равно, стремится ли эта химера воинственно подмять все народы под один народ (химера германского национал-социализма) или растворить все национальные культуры в бесцветности и безвидности всесмешения (химера советского коммунизма)» (Ильин, 1993, 362).
Значимость религиозного осмысления действительности для мировоззрения Ильина несомненна, что закономерно находило воплощение и в политической сфере его мысли, в частности, в позитивном описании религиозного аспекта натуры Муссолини, которому, по словам Ильина, была присуща идеалистическая установка, а ядром его веры была вера в духовный идеал и религиозное отношение к нему (см. подр.: (Ильин, 2001a, 242–243)).
В рамках современных дискуссий Ильина часто называют гегельянцем, но это неверно. То, что его диссертация посвящена Гегелю, не делает его автоматически гегельянцем. Если мы обратимся к его ранним работам, то увидим, что сам Ильин определяет свои взгляды иначе. На молодого Ильина огромное влияние оказали два философа: русский философ права неокантианец Павел Иванович Новгородцев и знаменитый немецкий мыслитель Эдмунд Гуссерль. Первый заразил его интересом к философии, стал его научным руководителем, в том числе и знаменитой диссертации про Гегеля, второй — познакомил его с феноменологическим методом во время университетской командировки Ильина в Германию летом 1911 г., о чем свидетельствовал и он сам: «Этот феноменологический или дескриптивный метод, у сознательного возродителя коего (в логике) я провел теперь все лето (Гуссерль, Husserl), дает и может дать, несомненно, массу нового и удивительно, непредставимо ценного по своему значению» (Ильин, 2014, 20). Именно этот новый метод применит Ильин и в своем исследовании Гегеля. В общем-то, права была двоюродная сестра его жены Е. К. Герцык, когда писала о супружеской чете Ильиных: «Всегда вдвоем — и Кант. Позднее — Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два» (Ильин: pro et contra, 2004, 67).
Последователем феноменологического метода считает Ильина и один из главных его отечественных исследователей и публикаторов его наследия Ю. Т. Лисица, указывающий на то, что целый ряд философских категорий Ильин наследует от Гуссерля (см.: (Ильин, 2014, 37)). Более того, по мнению отечественного исследователя, Ильин оказался более последовательным приверженцем трансцендентальной феноменологии, чем сам ее основатель, который в поздний период своего творчества склонялся к платоновской онтологии. Ильин же оказался верен классической феноменологии, близкой к неокантианству (см.: (Ильин, 2014, 38)). Другой российский исследователь, А. В. Ворохобов, в своей статье, содержащей глубокий критический анализ субъективности в философии Ильина, считает, что в его наследии сочетаются трансцендентальный субъективизм Гуссерля с рациональным объективизмом Гегеля (см.: [Ворохобов, 2020, 235]). Мы бы рискнули дополнить данный вывод тем указанием, что на философские взгляды Ильина сильнейшее влияние оказывало его христианское мировоззрение, причем это влияние в течение жизни русского мыслителя только усиливалось, что отчетливо прослеживается в его позднем труде «Аксиомы религиозного опыта». В нем он прежде всего постулирует субъективность любого религиозного опыта (см. об этом: [Хамидулин, 2019, 214–215]). Внутренний мир человека принадлежит только ему, он ни с кем не делит свое духовно-душевное содержание. Человек человеку — инобытие. Инобытием является и мир, и Бог. При этом людей объединяет предметное содержание их сознания. Таким образом, Ильин уходит от солипсизма, свойственного как Канту, так и Гуссерлю. Мир объектов предметен, и даже Бог — Предмет: «Он остается при всех условиях и во всех религиях — искомым, обретаемым, желанным, созерцаемым, чувствуемым, верою утверждаемым, в неверии отвергаемым, внушающим любовь, или страх, или благоговение — объективно-сущим „инобытием“ или предметом даже и тогда, когда открывается, что самый этот Предмет есть Субъект, „живой Дух“, как у Гегеля, или личный Бог, как в христианском понимании» (Ильин, 2002, 18). Таким образом, есть субъектно-объектный мир и есть две реальности, связью между которыми и служит религия.
Интересно, что при этом Ильин начисто отметает любого рода «коллективные сознания» и общности. Ни народ, ни какие-либо иные социальные универсалии не обладают реальностью. В этом он точно не платоник, а скорее номиналист, поскольку откровенно считает все рассуждения о коллективной душе плодом фантазий (см.: (Ильин, 2002, 22)). Более того, каждый человек предельно одинок в своем внутреннем мире. Не случайно Ильина обзывали то кальвинистом, то лютеранином. У него мы действительно находим протестантский индивидуализм.
Таким образом, философия Ильина, основанная на принципе феноменологической субъективности и предметной объективности, утверждающая теистический рационализм, а в политической области правовую государственность, опирающуюся на концепцию свободной личности, — прямая противоположность тем интенциям, которые присущи философской мысли, оправдывающей фашизм.
Но остается вопрос: «Почему же Ильин сотрудничал с национал-социалистическим режимом и приветствовал приход Гитлера?»
V
Помимо личных факторов, в числе которых тот, что Ильин был наполовину немцем, значительную часть своих произведений написал на немецком и был человеком немецкой культуры, основной причиной этого был антикоммунизм Ильина, который носил совершенно иррациональные черты. Стоит отметить и вспыльчивость Ильина и его довольно сложный характер, определенную непримиримость по отношению к оппонентам. Ильин не умел быть объективным, но он умел ненавидеть. «Ильин сразу показал себя человеком сильного характера, — вспоминает о нем Г. А. Леман-Абрикосов, — резким, крайне нетерпимым, пуритански настроенным и вообще савонароловского склада. Страстно уверенный в себе, непогрешим, как папа, он презирал и ненавидел всех инакомыслящих или тех, поведение кого с моральной точки зрения он не одобрял. Он мне сам говорил, что когда на публичных его выступлениях кто-нибудь ему возражал, оспаривал и т. п., то ему хотелось такого человека… убить!» (Ильин: pro et contra, 2004, 67).
О революции Ильин писал много, но писал как пропагандист, а не философ, и последнее очень важно. Никакого объективного анализа исторических процессов, приведших к революции, равно как и взвешенного анализа советского марксизма как философской системы, у Ильина не найти. Коммунизм он воспринимает в чернобелых тонах, причем для советского строя у него есть только черная краска и никаких полутонов. Его однокурсник евразиец Н. Н. Алексеев оставил свидетельства о радикализме Ильина в студенческие годы, когда он был анархистом и революционером. Не менее радикальным контрреволюционером он стал в результате событий 1917 г. Сравнивая его с другим русским философом — Б. В. Вышеславцевым, Н. Н. Алексеев пишет: «Но в чем сошлись эти две столь различные натуры — это в невероятной ненависти к „большевикам“. Ненависть эта толкнула Вышеславцева на необдуманный шаг сближения с нацистским „Антикоминтерном“, а Ильина превратила в деятельного члена и идеолога Лиги Обера — противосоветской организации…» (Ильин: pro et contra, 2004, 76–77).
Революция для Ильина — это величайшее насилие и величайшая ложь, свирепо воинствующая пошлость, опирающаяся на низшие инстинкты человека, превращающая народ в «быдло». Ильин красочно демонизирует революционную стихию, не обращая внимания на те идеи, которые продвигал марксизм. Для Ильина никакой революционной философии нет, есть только нигилистическое стремление к уничтожению высокой культуры, к уравниванию всех в нищете и построению на руинах анархии тоталитарной диктатуры, которая должна распространиться на весь мир. Сам Ильин говорил, что любой предмет может быть познан не только рационально, но и эмоционально и эстетически. Так вот Ильин познает феномен советского коммунизма именно чувственно, а не рационально: «Этот бред есть сатанинский бред; сатанинскую природу его надо испытать самому и с очевидностью убедиться в его сатанинском качестве» (Ильин, 2001б, 99).
И далее Ильин говорит о воздействии большевизма на неокрепшие умы, буквально чуть не перефразируя Ф. Ницше с его знаменитым афоризмом о том, что если долго всматриваться в бездну, то бездна начнет всматриваться в тебя: «Надо научиться смотреть в глаза сатане, — пишет он. — Это смотрение или суггестивно подчиняет ему смотрящего — отблески его черных лучей начинают отражаться из глаз загипнотизированного; волевой упор его сламывает душу смотрящего, одурманенный начинает сам сатанизироваться и буйствовать (мечты евразийцев Сувчинского и Арапова о терроре против антиевразийской эмиграции и многое другое); или же эти лучи обжигают поверхность души, вызывают в глубине ее накал белых, Божьих лучей и стимулируют в ней образование непроницаемого, неразложимого ядра религиозного видения и характера. Человек, поддавшийся первому процессу, — некомпетентен судить о русской революции и коммунистах. Компетентен только второй» (Ильин, 2001б, 99–100). Очевидно, что Иван Александрович к этим компетентным относит именно себя. Отсюда и идеализация им Белого движения, изображаемого как светлое христианское рыцарство, отсюда и то, что он, вооруженный религиозным видением, проглядел сатанинскую же сущность фашизма — или увидел ее тогда, когда было уже поздно. Подобный вывод мыслителя кажется тем более показательным, что у Ильина встречается отдельный сравнительный анализ Белого движения и фашизма, согласно которому Белое движение понимается мыслителем как более широкое и глубокое явление родового порядка, в то время как фашизм есть для него лишь явление видовое (Ильин, 2008, 260).
В результате мы имеем следующую схему. Как философ Ильин — последователь трансцендентальной феноменологии и неокантианской школы права, персоналист, причем персоналист теистический и христианский. В качестве государственного идеала он заявляет сильное правовое государство, гармонично сочетающее принципы учреждения и корпорации, рациональной диктатуры и творческой демократии. Всё это по всем пунктам противоречит собственно фашистскому мировоззрению. Тем не менее Ильин становится на определенном жизненном этапе (мы бы обозначили десятилетие 1928–1938) соратником европейского фашизма, а после 1938-го — сочувствующим ему как охранительной и консервативной реакции на советский коммунизм.
Наследие Ильина как философа и русского мыслителя представляет ценность, но его пропагандистская позиция, основанная на демонизации всего советского, делает невозможным использование его наследия как некоего ориентира в выстраивании идеологии цивилизационной преемственности российской государственности, которая сейчас декларируется как официальная позиция в сфере образования и просвещения.