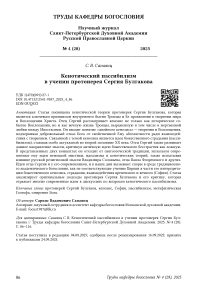Кенотический пассибилизм в учении протоиерея Сергия Булгакова
Автор: Санаянц С.В.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 4 (28), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена кенотической теории протоиерея Сергия Булгакова, которая является ключевым принципом внутреннего бытия Троицы и Ее проявления в творении мира и Воплощении Христа. Отец Сергий рассматривает кенозис не только как историческое событие Воплощения, но и как вечную жизнь Троицы, выраженную в том числе в жертвенной любви между Ипостасями. Он вводит понятие «двой ного кенозиса» — творения и Воплощения, подчеркивая добровольный отказ Бога от свой ственной Ему абсолютности ради взаимодействия с творением. Связанной с темой кенозиса является идея божественного страдания (пассибилизма), ставшая особо актуальной во второй половине XX века. Отец Сергий также развивает данное направление мысли, критикуя античную идею божественного бесстрастия как ложную. В представленных двух концептах он отходит от святоотеческой традиции, используя современные ему идеи немецкой мистики, идеализма и кенотических теорий, также испытывая влияние русской религиозной мысли Владимира Соловьева, отца Павла Флоренского и других. Идеи отца Сергия и у его современников, и в наши дни вызывают споры в среде традиционного академического богословия, как не соответствующие учению Церкви в части его интерпретации божественного кенозиса, страдания, взаимодействия временного и вечного (Софии). Статья анализирует оригинальные подходы протоиерея Сергия Булгакова и его критику, которая отражает многие современные идеи в дискуссиях по вопросам кенотического пассибилизма.
П ротоиерей Сергий Булгаков, кенозис, София, пассибилизм, метафизическая Голгофа, с мирение Бога
Короткий адрес: https://sciup.org/140313009
IDR: 140313009 | УДК: 1(470)(091):27-1 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_4_86
Текст научной статьи Кенотический пассибилизм в учении протоиерея Сергия Булгакова
Вопросы, которые поднимаются в начале и середине XIX в. по отношению к личности Христа, являются катализатором развития кенотических (и пасси-билистических) идей не только в Англии и Германии, но и в России. Данные тенденции связаны со многими факторами, в частности, с феноменом культуры немецкого романтизма, мистического пиетизма, философиями экзистенциализма и персонализма, сменой парадигмы совершенства в отношении понимания Бога (неподвижность бытия в античной Греции и процесс, движение, прогресс как основа жизни в Новое время), а также с появлением психологии как науки, объясняющей внутренний мир человека (и впоследствии Бога)1. Развитие русской кенотической идеи так же, как и на Западе, движется от исторического Иисуса Христа, как истинного человека, претерпевающего страдания, к божественной природе Троицы, в Которой бытие Лиц будет осмыслено как жертвенный кенозис любви.
Является ли акт кенозиса в Воплощении Господа только временным событием в жизни Бога, или же он присущ вечной жизни троичных Лиц? Данный вопрос возникает в философии в тот ее период, когда метафизика субстанции, унаследованная от Древней Греции, сменяется метафизикой субъекта2. Природа (субстанция) характеризуется ограниченностью и несвободой, ей (природе) противостоит абсолютная свобода субъекта (Я). В этом контексте Бог как свободный субъект противопоставлен совершенной статичной субстанции. Метафизика Парменида, которая видела абсолютное бытие неподвижным, повлияла на христианскую метафизику. Ей были противопоставлены мистические интуиции Николая Кузанского, Мейстера Экхарта, Иоанна Скота Эриугены и Якова Беме. После них немецкий идеализм в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля взял на вооружение метафизику движения, которая описывала совершенство как становление, процесс, борьбу, основанную на интуициях Гераклита о вечном движении огня. Особое внимание Гегеля к этому вопросу и построенная им стройная система метафизики оказала затем в XIX и XX вв. определяющее влияние на Анри Бергсона, Тейяра де Шардена, Ницше и Хайдеггера3.
XIX век, и особенно век XX, движутся в русле кенотических идей в хри-стологии и космогенезе: Сын Божий, ограничивающий Себя в Воплощении, Бог, ограничивающий Себя при творении мира. Как замечает Г. У. Бальтазар, христологическая парадигма кенозиса Логоса под влиянием философии Гегеля и идеи космической эволюции, завершающей себя во Христе, переходит на саму природу «воплощающегося» Логоса, при этом Бог добровольно по Своей свободе и любви к человеку отказывается от атрибутов «всесилия, всеведения и всеприсутствия»4. Данные идеи повлияли не только на немецкую и английскую, но и на русскую богословскую мысль5.
П омимо немецкого идеализма и романтизма, на русскую богословскую и философскую мысль повлияло также творчество Франца Баадера. Это особенно заметно в идеях В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева6. Многие его идеи, по сути, повторит и прот. Сергий Булгаков. Бог абсолютно свободен в проявлении Своей силы в творении и в общении с миром. В отличие от немецких идеалистов (Гегеля и Шеллинга), Баадер придерживался более библейских взглядов на независимость Бога от творения и становления мира7. Бог свободен от всего, при этом Он «жертвует» Собой как в акте творения, так и (как завершение жертвенности) в акте воплощения. Бог отказывается от Своего божества, чтобы снова получить Его обратно посредством твари (крайний кенотизм)8. Творение становится для Бога причиной «умаления» не только в воплощении, но и в промыслительной и творческой деятельности. Бог дает возможность творению быть тем, чем является Он Сам, стать равным Ему. На Боге, отмечает Н. Н. Павлюченков, лежит образ человечности не меньший, чем на человеке образ Божий. Бог приостанавливает Свою абсолютность ради нашей относительности9. Таким образом, образ «слабого» Бога, как добровольно (в акте кенозиса) ослабившего («сжатие» Абсолюта) Свою силу, был характерен не только богословию второй половины XX в., но, благодаря влиянию немецкой мистики (М. Экхарт, Я. Беме, Г. Сузо), теософии (Э. Сведенборг, Л. К. де Сен- Мартен)10, второй половине XIX — первой половине XX вв.
Большой вклад в развитие идеи кенотического страдания привнес прот. Сергий Булгаков. Он вносит драму Креста во внутреннее бытие Троицы, которое кенотично в своей сути. Каждая из ипостасей отдает Себя в истоща-нии Другому Лицу, и данное «отдание» есть дело жертвенной любви, в которой невозможно не страдать11. Такой кенозис в Троице проявляет Себя вовне в жизни и смерти Христа. Христос есть теофания, явление божественной сострадательной любви ко всей твари.
Прот. Сергий Булгаков описывает двой ной кенозис Бога как единое воление нисхождения: Бог из «абсолютности Своего бытия» сначала творит мир, а потом Слово нисходит из этой абсолютности в сотворенное бытие. Бог «полагает вне Себя» мир, ограничивая Себя, Свою абсолютность, а после «сходит с небес», и «входит внутрь самого тварного мирового бытия», или «становится» тварью12.
Прот. Сергий понимает проблемность данного отрывка о том, что Бог «стал» тварью, и видит, что в истории богословского осмысления данного вопроса мы часто встречаемся с «докетически- приспособительными истолкованиями», где от становления тварью остается одно название13. Прот. Сергий спорит со свт. Феофаном Затворником (который был на тот момент просто почившим еп. Феофаном), который понимал кенозис, следуя церковной традиции — как умаление божественной славы, происшедшее вследствие воплощения Логоса. Бог сокрыл Свою славу во плоти, будучи до этого совершенным Абсолютом, и кено-зис, «Воплощение» есть «первая степень самоуничижения»14. Небесный кенозис как послушание воле Отца, как свой ство божественной природы, не рассматривался в традиции Церкви (или же ему уделялось слишком мало внимания).
«Снисхождение» Сына о. Сергий понимает не как сокрытие под плотью, а как устранение «образа» (μορφὴ) Бога, и принятие «образа» раба, т. е. человеческой низости. Это принятие было настолько реальным, что Христос имел нужду «молиться Отцу, как Богу», не просто из «видимости» или «для примера», в чем о. Сергий упрекает святоотеческую экзегезу. Таинство показывает нам «глубину кенозиса», в которой «Бог-С лово перестает быть Самим Собой», и становится немощным человеком15. Прот. Сергий упрекает святоотеческую мысль в этом отношении в излишнем заигрывании с докетическими взглядами на человеческую жизнь Христа. При таком «восходящем» взгляде на принятие Логосом плоти (обоживание тела, а не очеловечивание Божества), она расценивается чаще всего лишь как «завеса, закрывающая или открывающая, когда и как нужно, Божество». Такая позиция отвергается о. Булгаковым как ложная, и предлагается другая, которая говорит не о «“восприятии” Божеством человечества или “вселении” Его в человеческую плоть», но о «нисхождении Его до человека, самоумалении Божества»16. Чтобы произошло «чудное смешение» (терминология св. отцов), необходимо Богу «умалиться» до человечества. Дальнейшие рассуждения о. Сергий строит вокруг переосмысления принципа кенозиса, которому не уделяла внимания эпоха святоотеческой письменности, и который был заново переоткрыт в Европе в Новейшее время. Прот. Сергий упоминает представителей т. н. «кенотического богословия» в Германии, начиная от Томазиуса и других, вплоть до начала XX в. В том числе он упоминает англо- американских кенотиков, которые, по его мнению, не отличаются «догматической глубиной», свой ственной немцам17.
Кенозис Бога о. Сергий понимает в расширенном, более теопасхистском смысле, нежели святоотеческая экзегеза, постоянно подчеркивающая независимость божества от человеческих переживаний. С одной стороны, Бог не становится чем-то иным, оставаясь Собой, но Он делает человеческую жизнь «Своей собственной». Что это означает для Бога в глубинах Его Божества? В отличие от свт. Кирилла, для которого эта тайна не меняла ничего в неизменном божестве18, кенозис Бога для о. Булгакова был абсолютно реальным в том смысле, что Он затрагивал само существо Логоса. «…Предвеч-ный Бог делается становящимся Богом в Богочеловеке, обнажается вечного Своего Божества, чтобы низойти до человеческой жизни»19. Отныне божество и человечество во Христе живут единой богочеловеческой жизнью. Если Бог Слово «стал» («ἐγένετο») человеком, оставаясь Богом, то возникает проблема двух аспектов жизни Единого Бога. И тут о. Булгаков вводит разделения Абсолютной жизни Троицы («имманентной») и жизни, ограниченной творением (Троица «икономическая», Бог как Творец и Промыслитель). Другими словами, есть онтологический неизменный аспект божественной реальности Троицы, вечного и неизменного блаженства, сфера Абсолюта и необходимости (сущностное бытие Бога). В то же время Богу свой ственна жизнь свободного ипостасного (личностного) существа, которая может превосходить в свободном волении жизнь необходимую и неизменно блаженную, «обнищать ради нас» (не в сущности, а в существовании, персонально, свободно превосходя сферу необходимости природы): «Бог, пребывая в божественной неизменности, может по воле Своей видоизменять и ограничивать для Себя Самого полноту Своей жизни, отказываясь от ее блаженства»20.
Прот. Сергий Булгаков очерчивает два богословских принципа пассиби-лизма. Во-первых, Бог по Своей свободной воле21 способен выйти из пределов
Своей неизменности ради другого. В Боге не природа определяет пределы Его свободы, но желание любви подвигает неподвижность божественного Я к страданию. Благодаря этой посылке выводится второй принцип пассибилизма: Бог в икономическом бытии (в воплощении) являет нам то, что есть в Его вечном и неизменном имманентном бытии, т. е. страдание за другого есть принцип бытия Троицы, где Ипостаси отдают Себя Другому в полноте22. Свобода Бога при этом не должна быть понята как некий произвол выбора из множественности вариантов, наподобие свободы тварных существ. Божественная свобода имеет свои «ограничения», а именно, она руководима принципом любви, «которая изливается за пределы самого Божества, во вне- Божественное»23. Творение мира — это первый и «необходимый» для Бога кенозис, Бога, Который есть дар бытия. Прот. Сергий объясняет это свободное ограничение Бога как жертвенную любовь к твари. Имманентно Бог пребывает в полноте Своего бытия, но в Своей жизни Он совершает свободный кенозис ради любви к творению24.
Латышский богослов Антанас Мацейна проясняет диполярный теизм прот. Сергия Булгакова. В Боге, согласно православной доктрине (как ее понял о. Булгаков), есть два аспекта бытия: неизменный и изменяемый. Апофатический язык, который критиковал Н. А. Бердяев, описывает бытие божественной сущности, которая неизменна, поскольку Бог всегда остается Богом. Бог неизменяем, ибо Он Бог, Его сущность или природа не становится меньше или больше, хуже или лучше25. Второй (изменяемый) аспект — божественная жизнь. Недостаток, понимаемый как движение изменения (прибавления или умаления), или же становления иным, невозможно приписать совершенному существу, — это общая интуиция всех философских школ античности. Такое движение не может быть приписано и божественной сущности, — Бог стоит на неизменном основании Самого Себя. Движение, которое, по мнению Н. А. Бердяева, превосходит пустую неподвижность самодостаточного существа26, может быть отнесено к божественной жизни, Его взаимодействию с творением.
О кенозисе Логоса Антанас Мацейна пишет, что он «не есть и не может быть опустошением или умалением Божественной природы», потому что «внутренняя жизнь Бога, как взаимоотношения Лиц Святой Троицы, не изменяется и не может изменяться», однако жизнь Бога вовне, во взаимодействии с миром, может и должна реагировать на изменения тварной реальности27. Если Писание называет Бога Живым, Жизнью, то это потому, что Он не пребывает в покое безразличия. «Божественная Природа во всех этих взаимоотношениях остается абсолютно неизменной, но меняются проявления этой природы или жизнь»28. Если мы видим Бога только как неизменного Абсолюта, неподвижного Начала, такой Бог не может носить в Себе личностный элемент. Он «не может быть Богом- Любовью»29. Чтобы исповедовать Бога как любящего, нам необходимо, говорит Антанас, «различать Его абсолютно неизменную сущность и Его изменяющуюся жизнь»30. Жизнь Бога в данном случае есть икономический аспект Его бытия, она соучаствует в жизни мира, реагирует, жертвует, сострадает.
Первый кенозис
Творение мира из «ничего»31 прот. Сергий Булгаков называет «Голгофой Абсолютного». Мир сотворен любовью Божией, приносящей Себя в жертву ради бытия мира. Бог творит ради «безграничной любви к творению», «ради наслаждения бытием “другого”»32 При этом о. Булгаков спорит с философским идеализмом, который, обосновывая творение мира, делает заключение о божественной неполноте, по необходимости ограничив Его в свободе и блаженстве. Бог свободен во всем, говорит о. Булгаков, как в творении, так и в любви и жертве, потому Он свободно принимает «крестную радость миротворения». Бог творит мир через смирение, оставаясь свободным по отношению к динамике мировой жизни, но добровольно принимая в Себя «трагический процесс мировой истории»33.
Прот. Сергий пытается разграничить себя от своих оппонентов, которые приписывали акту миротворения субстанциональный характер. Например, Гартман и Древс как представители «динамического пантеизма» исповедуют гностические идеи появления в божественном «слепой и бессмысленной воли к бытию». Потому в такой системе возникновение мира тождественно появлению по необходимости «страдающего бога». С другой стороны, эманатиру-ющий принцип божественного бытия предполагает страдание именно в удалении от Единого, Εν34. Этот принцип схож с христианской идеей отпадения от божественного. С другой стороны, о. Булгаков спорит с другой крайностью, которую часто утверждают христиане, — Бог сотворил мир как бы случайно, Он мог его и не творить, мог не быть Творцом. В этом смысле, хотя творение мира и не произвол, но и не слепая диалектическая необходимость восполнения Бога или избавления Его от страдания, поскольку Бог есть полнота35. Прот. Сергий находит третий путь: «свободную необходимость любви»36.
Если любовь Бога в Троице «взаиможертвенна», кенотична, поскольку в ней Ипостаси «отрекаются» от Себя ради Другого, «находит Себя, осуществляет Себя в других»37. Любовь внутри Троицы38 есть кенозис Трех, который снимается «в радости совершенной божественного бытия»39. Этот внутри-троичный кенозис любви как бы проявляет себя в творении мира, только это уже не действие Одного или Другого, но Единой Троичной Личности Бога40, Которая отрекается «от обладания Божественным миром для Себя, но предоставляют его собственному бытию»41. Это отпускание Своего мира, или Божественной Софии, вовне, есть рождение мира, или тварной Софии, которая «погружена во временность и становление, в “ничто”»42. Творение — это ке-нозис как Софии (природы) Бога, так и Его Лица43. Жертвенная любовь Бога ограничивает Его абсолютность, делая Бога активным вовлеченным агентом становления и временности, как Творца и Промыслителя.
Если В. С. Соловьев мог сказать о том, что Бог страдает в душе мира, поскольку она есть иной модус божественного бытия, то о. Булгаков подчеркивает, что тварная София (душа мира Соловьева), хотя и является продолжением (образом) Софии Божественной, отпущенной в становление, однако мы все же не можем говорить о пантеистическом невольном страдании Бога в тварной Софии. Прот. Сергий подчеркивает свободный кенотический характер действия Бога над Своей природой в тварной Софии, поскольку «в Боге нет места никакой пассивности, в Нем все творчески- активно»44. Бог проя в-ляет Свою жизнь как в полноте Своего бытия, так и в ограниченности твар-ного, но Он всегда свободен45 по отношению к последнему. Эту «свободную необходимость», антиномию божественного бытия по отношению к нашему миру нам невозможно понять в полной мере, поскольку свобода в нас не совпадает с необходимостью нашей природы, как это происходит в Троице. Бог любит свободно46, но сама Его любовь (София Божественная) понуждает необходимостью творить мир из Себя47. Поэтому, хотя любовь Бога есть полнота, и она абсолютно свободна, по природе она не может не быть жертвой48, чтобы полноты, которая не имела нужды в том, что вышло из ее рук. «Св. Троица в тройственности Своих ипостасей раскрывается и существует в Себе и для Себя, в Своей внутренней природной жизни, абсолютным образом, в исчерпывающей полноте самодовлеемости. Бог для Себя, для полноты Своего бытия, не нуждается ни в каком ином бытии, а потому и не может что-либо принять в Свое бытие извне» (Булгаков С. Н., прот. Невеста Агнца… С. 128). При этом мир все же «необходим» Богу, поскольку «Бог есть любовь», и Он «экстатическим актом творчески самоотверга-ющейся любви» отражает Самого Себя как в природном мире через Софию, так и в ипостасном мире (люди и ангелы) через Свою Троичность «множит ипостаси вне и как бы сверх троичности» (Там же. С. 127).
-
46 В отличие от о. Сергия Булгакова, Н. А. Бердяев утверждает свой ственную Богу внутреннюю нужду, как бы несвободный трагизм изначального божественного бытия. Как говорит последний, «миротворение есть движение в Боге, драматическое событие в божественной жизни» ( Бердяев Н. А. О назначении человека… С. 33.). Бердяев вводит трагизм внутрь Бога, приписывая катафатические свой ства движения и жертвенной любви божественному существу. Внутренняя жизнь Бога исполнена таких качеств, которые позволяют ей любить творение, жертвовать Собой ради другого. Бердяев отстраняется от разделения Бога на сущность и силы, природу и жизнь, поскольку бытие Бога как Творца непременно есть отражение внутреннего божественного бытия (с чем они оба согласны). Это бытие не самодостаточно (в чем они различны), оно движется жертвой и любовью от своей полноты, оно желает другого, поэтому оно трагично. «Теология же эзотерическая (т. е. имеющая отношение к познаваемому, открытая. — С. С. ) должна признать трагедию в Боге», — говорит Бердяев (Там же).
Бердяев в этом отношении приближается к Беме, которого он хвалит за верные интуиции в отношении понимания Божественной жизни ( Бердяев Н. А. Из этюдов о Я. Беме. Этюд I. Учение об Ungrund // Путь. 1930. Февраль. № 20. С. 47–79). Прот. Сергий Булгаков дает характеристику причинности миротворения у Беме, для которого Бог из бездны Своего «Ничто» творит «Нечто»: «…Для Ничто этот переход (Бог-мир) не свободен, но вынуждается некоей божественной необходимостью, потребностью самооткровения, голодом (Hunger), стремлением (sich sehnen), вожделением (Begierde), т. е. аффективными состояниями» ( Булгаков С. Н., прот. Свет Невечерний… С. 165).
Если Бердяев позиционирует «нужду» Бога в другом с позиции сердца, мифа, а не рацио, то Вл. Соловьев, напротив, исходит из позиции диалектики, за что его упрекает о. Сергий Булгаков: «В чрезмерном “дедуцировании” творения и, следовательно, в рационализме повинен и Вл. Соловьев». Абсолютному, чтобы быть абсолютным, необходимо другое относительное бытие, которое утвердило бы его абсолютность в отношении. Такую «несвободу» и ограниченность Абсолюта отвергает о. Сергий Булгаков, подчеркивая свободный характер миротворения: «“Другое” может быть сотворено лишь вполне непринужденно, а не положено по метафизической необходимости» ( Булгаков С. Н., прот. Свет Невечерний… С. 179).
-
47 «Любовь представляет собой живое единство свободы и необходимости и, при всем онтологическом различии по характеру и предмету любви, эта любовь Бога к Себе во Св. Троице и любовь Творца к творению являют собою Любовь как таковую» ( Булгаков С. Н., прот. Свет Невечерний… С. 130).
-
48 Проблема любви и страдающего Бога поставлена в XX в. наиболее остро. Любовь, как пишет Фома Аквинский, есть желание другому блага, которое может вовсе
раскрыть себя. Как в Троице ипостаси жертвуют Собой ради Друг Друга49, так и в творении Бог кенотически жертвует Своей Абсолютностью50, чтобы соотнести Себя с другим в трагедии его бытия.
Прот. Сергий Булгаков подчеркивает абсолютно свободный характер божественной любви51 как причины миротворения, но эта свобода предполагает изначальный, вечно присущий этому миру в его софийности Крест, «Голгофу Абсолютного»52. Основа нашего временного бытия, имеющая вечную основу, не только имеет онтологически положительное содержание, но и самоотверженную, кенотическую любовь Бога, которая включает в себя страдание Бога и Его Крест53. Любовь, как отмечалось выше, по своей природе жертвенна, она выходит за рамки рациональных объяснений, которые задают люди: «Почему Бог сотворил этот мир?» Любовь «не знает рационального почему», и в этом не зависеть от того, на кого оно направлено: «…Любить что-либо есть не что иное, как желать этой [любимой] вещи блага, очевидно, что Бог любит все сущее» (Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. 1: Вопросы 1–43. М.: Элькор- МК, 2002. С. 279). Глубокие прозрения Фомы о природе любви как о пребывании вне себя все же не говорят о том, что в Боге есть затронутость объектом любви. Несмотря на то, что «любящий помещается вне самого себя и побуждается принадлежать объекту своей любви постольку, поскольку желает блага возлюбленному и помышляет об этом благе как о своем собственном», все же Бог не любит вещи во взаимодействии и уязвимости, поскольку в вещи Он любит Самого Себя, дарованное Им бытие: «Бог любит грешников, как и всякую сущую природу, в той мере, в какой они обладают дарованным Им бытием» (Там же. С. 280).
Ю рген Мольтман, следуя за некоторыми идеями Оригена, подчеркивает, что Бог способен страдать из любви. Данная идея не была свой ственна Отцам Церкви, которые разделяли страдательность на «роковое подчинение страданию» как проявление несвободы и зависимости (признак несовершенства, характерная черта тварного), и на совершенную неспособность страдать, что являлось признаком Божества. В отличие от церковной традиции, Мольтман утверждает, что любовь Бога предполагает «активное страдание — добровольное открытие Себя другому и позволение Себе быть тесно затронутым им», другими словами, Он может быть подверженным «страданию страстной любви» ( Mo ltman J. The Trinity and the Kingdom: the Doctrine of God. Minneapolis: Fortress Press, 1993. Р. 23).
смысле творение является свободным актом божественного «безумия»54. Свобода Бога по отношению к творению дает о. Булгакову основание утверждать (в отличие от немецких мистиков и философов), что в Боге как в Абсолюте нет трагедии, присущей мировому процессу. Однако Бог добровольно «отпускает», «вводит» Себя в трагическое становление, в Самом Себе «оставаясь от него свободным»55. Таким образом, о. Булгаков сталкивается с антиномией Божественного бытия как нетрагично- трагического, бесстрастно- страдающего. Диполярный теизм56, который описывает о. Сергий с помощью своей концепции тварной Софии или «становящегося Абсолюта», примиряет трансцендентное бесстрастное и имманентное страдательное бытие. Данная антиномия «сверхрациональна», поскольку не существует «непротиворечивой рациональной метафизики», которая могла бы примирить вечное и временное, страдание и блаженство. Поэтому о. Булгаков предлагает принять сверхразумную антиномию «подвигом смирения разума», которая заключается в рационально несовместимых категориях: «всеблаженный и самодовлеющий Бог — Творец мира»57.
Прот. Сергий Булгаков, как показано, развивает некоторые интенции немецкого идеализма, в частности, что творение мира есть как бы продолжение Самого Бога, Его тварное «Я» (или тварная Софии). Прот. Сергий пытается преодолеть онтологическую пропасть мира и Абсолюта, по сути, приходя к учению о том, что в се содержится в Боге и все есть проявление
Его бесконечной силы в становлении (отсюда намек на паламистскую идею божественных энергий, которую упоминает о. Сергий). Проявление Бога, Который входит в небытие (взаимодействует с Ничто), тем самым создавая мир, есть как бы «снятие» вечности и «одевание» во временность58. Можно сказать, что это первый кенотический божественный акт, направленный вовне Себя. Бог, как живущий в кенотическом бытии, проявляет его вовне Себя, образуя мир становления, который, по сути, есть вечность во временном. Бог ограничивает Себя в знании и силе, давая творению проявить себя как свободу, как новый ипостасный принцип. В этом Бог также проявляет Свой кенозис, который неразрывно связан с предвечным кенозисом Воплощения, «вечной Голгофой» Агнца, «закланного прежде бытия мира»59.
Второй кенозис
Кенозис Бога как Творца продолжается в особом акте Воплощения, в котором Логос, оставаясь по природе Богом, становится немощным человеком, лишаясь «образа» (μορφή) Бога. В этом заключен смысл молитвы Христа, просящего у Отца вновь вернуть Ему ту славу, которую Он оставил при уничижении в образ раба. Можно сказать, утверждает о. Булгаков, что Логос «как бы перестает иметь для Себя Свое Божество, но остается только с природою Божества, но без Его славы»60. Отец Сергий смотрит на кенозис как на реальность, происходящую не только в приобретенной Богом тварной природе (в этом о. Булгаков видит докетический язык святых отцов), но в Самом Боге, отдающем Свою жизнь и славу Отцу, «которую Я (Сын) имел у Тебя (Отца) прежде бытия мира», чтобы вновь, по исполнении кенотического истоща-ния в этот мир, приобретая опыт жизни во времени и смерти, возвратить Себе то, что было оставлено. Природа Бога не исчезает, но меркнет Его слава и как бы исчезает на время Его божественная жизнь, чтобы мог жить и страдать человек Иисус61.
Вопрос о том, от чего именно «опустошается» Бог, о. Булгаков пытается разрешить, сохранив божественную сущность Логоса, но лишив Его божественного существования. Логос «опустошается» не от природы, но от славы, которая подразумевает все блага божественной жизни. При этом о. Булгаков, как говорит Павел Гаврилюк, вводит «квазигегельянское различие», в котором Бог существует на разных уровнях бытия: в- Себе, для-другого, для- Себя. Сам о. Сергий несколько переосмысливает эту парадигму (неоплатонического типа), и предлагает только две стадии: Бог-в- Себе, т. е. Христос остается Богом при воплощении, но при этом лишается Бога-для- Себя, т. е. перестает быть полноценным Богом в Своей славе для творения62. Христос становится Богом в становлении, возвращая Себе Бога-для- Себя по мере домостроительства.
Жертва, которую совершает Христос, прежде всего «метафизически-божественная». Как понять суть этой жертвы в контексте бытия Троичных отношений? Три ипостаси обладают Своим особым личным центром, имеют «Свою собственную жизнь», хотя и находятся в единстве божественной природы. Это можно видеть в том, что кенозис совершает именно вторая ипостась, а не вся Троица. Только Сын принимает на Себя уничижение, опустошает Свою божественность не в природе, но в славе и жизни. «Сын перестает быть Богом для Себя, и поэтому Он относится к Отцу уже не только как равнобожественная ипостась (“Я и Отец одно”), но и как к Своему Богу»63. Логос «становится ипостасью человеческой», Он осознает Себя как Бог через человеческое самосознание, «Бог, живущий человеческой жизнью»64. Возрастание Христа в человечестве означает и возрастание Его в божественном самораскрытии. Бог принимает в Свое Я временность тварного мира, очеловечивает Себя.
Многие моменты, которые были развиты в английской и немецкой кено-тической традиции, были заимствованы о. Булгаковым в его кенотической теории опустошения премирного Логоса65. Сознание божества как бы угасает во Христе, чтобы во временном бытии «познать Себя в Своей человеческой природе». Познание Себя как Бога, которое Христос приобретает в процессе человеческого взросления, не наделяет Его при этом равнобожественными с Отцом качествами здесь и сейчас, ибо кенозис сохраняется во всей земной жизни Спасителя. Фраза Христа: «Никто не благ, как только один Бог» (Мф 19:17), свидетельствует о том, что, хотя Логос и сохранил Свои божественные природу и Лицо, Он все же «восхотел не быть Богом во время Своего земного служения, приял уничижение и Свое Божество кенотически сокрыл в ста-новление»66. Только после Воскресения Христос сказал, что Ему дана власть «на небе и на земле». Во время земной жизни Он не обладал божественной властью, поскольку внутренне смирил Себя в человечество, и «сделался совершенным через страдания» (Евр 2:10). Божественное и человеческое «растут» во Христе совместно, без доминирования одного над другим. В нем нет ни насилия божества над человечеством (догмат о человеческой воле), ни безразличия одной природы по отношению к другой. Это единая богочеловеческая жизнь и единое сознание.
Жизнь Христа не была «манифестацией» Его божественности в течении Своего развития, но рост человеческого естества во Христе также сопровождался «ростом» Его божественного естества, или, как выражается о. Булгаков, «раскрытием потенции во времени»67. Прот. Сергий при этом делает антидокетические замечания по поводу взросления и становления Богочеловека: Логос не для вида жил человеческой жизнью, «лишь показывал бы Себя подвластным человеческому становлению и развитию, на самом деле оставаясь ему чуждым», но «в Богочеловеке сам Бог живет подлинной человеческой жизнью, умаляясь до нее и чрез нее возрастая в сознании Богочеловека»68, 69. Из идеи «умаления» Бога мы можем истолковать все уничижительные места Нового Завета, без того, чтобы использовать докетические модели описания действий Христа как «примеры»: Христос на самом деле не знает, где лежит Лазарь, Он не знает дня Второго пришествия, Он действительно скорбит и плачет о смерти друга. Христос как Богочеловек «причастен временному развитию»70. Нам важен следующий вывод, который делает о. Булгаков: пе-рихорезис природ происходит не только от Бога к человеку, но и от человека к Богу. Если следовать церковной традиции, то плоть Христа служила лишь «завесой» или «орудием», но истинное понимание кенозиса, как утверждает о. Булгаков, заключается в том, что «божеская природа воспринимает воздействие человеческой жизни»71.
Последняя и главная для данного исследования мысль прот. Сергия Булгакова, к которой он подводит кенотическую интерпретацию воплощения:
«страдает ли Бог человеческим страданием?» Мы не можем описывать страдание Бога в Его кенотическом истощании как теопасхизм, который был осужден в Древней Церкви в контексте патрипассионизма. Крест Христа не дает нам никакого права говорить о «бесстрастии» Бога, потому что страдание, испытываемое ипостасью Логоса, по необходимости должно как-то отображаться в обеих природах: божественной и человеческой72. Поэтому невозможно, вслед за святыми отцами, полагать, что Бог ипостасно мог страдать только в одной природе. Прот. Сергий Булгаков отрицает «двой ную жизнь» Логоса, в которой одна природа страдает, а другая абсолютно бесстрастна (как видит это прп. Иоанн Дамаскин)73, но постулирует «единое богомужнее действие», или единую неделимую жизнь природ (что и подразумевает под собой единство ипостаси), «ибо не может не страдать и природа, если страждет ее ипо-стась»74. Кенозис страдания распространяется не только на ипостась и природу Логоса, но и на общую природу Бога, т. е. и на ипостаси Отца и Духа. Отец «состраждет» Сыну в Его нисхождении и смерти. Он посылает Сына на страдание и смерть, потому также принимает участие в «жертве любви»75. В конце концов, именно любовь и сострадание движут Богом в Его кенозисе.
Можно, вслед за о. Булгаковым, сделать несколько выводов. Во-первых, божественная природа так же, как и человеческая, проживает единую жизнь, и страдает «по-своему (конечно, духовно)» вместе с человечеством в кенотиче-ском самоистощании76. Во-вторых, страдание и сам кенозис Логоса (как и всей
Троицы), является «делом любви» и абсолютно свободного изволения, потому что в Боге нет ничего вынужденного77. В-третьих, «Голгофская мистерия в своем особом смысле совершается и в небесах, в сердце Отчем»78, т. е. кено-зис как в творении мира, так и в Воплощении и смерти Сына Божьего принадлежит не только временному божественному проживанию в человеческой природе, но и вечному бытию Троицы.
Разбор и критика кенотического пассибилизма прот. Сергия Булгакова
Кенотическое богословие, которому, по мнению исследователей творчества прот. Сергия Булгакова, не уделили должного внимания79, вызвало много спорных и неоднозначных комментариев в православной среде. Если кратко изложить кенотический христологический аспект богословия о. Сергия, то его можно описать словами свт. Кирилла Александрийского, который, описывая умаление Второго Лица Троицы, сказал, что Слово «в целях домостроительства допустило законам человеческой природы владеть Собой»80. Если традиционное понимание этой цитаты говорит о том, что «обладание» подразумевает зависимость от законов естества приобретенной Логосом человеческой природы (как элемента «уничижения» Бога), то о. Сергий распространяет это «обладание» и на божественную природу Логоса (которая неразрывно связана с ипостасью).
Кенозис как основной лейтмотив христологии не являлся чем-то новым для русской религиозной мысли начала ХХ в.81, но, в отличие от предшествующей русской традиции, по мнению Павла Гаврилюка, кенотизм о. Сергия «имеет то преимущество, что он более широк»82. Широта кенотизма заключается в его большей продуманности, хотя, как видно из истории развития богословской мысли, идеи о. Булгакова вызвали споры не только в его софио-логии, но и в христологической области его мысли. Но есть еще один важный момент, в котором кенотизм о. Сергия также представляет собой некую веху в развитии именно православного кенотического богословия кенозиса: ке-нотизм о. Булгакова «продолжается» в имманентное бытие Троицы. Он был первым православным богословом, который сделал этот шаг83. За ним следовали в том числе и прп. Софроний (Сахаров) и Владимир Лосский84, развивавшие идеи православного персонализма.
Павел Гаврилюк упоминает предшественников кенотизма о. Булгакова: «новые» кенотические теории в германии и Англии, которые связаны в том числе с именами Готфрида Томазиуса, Вольфганга Гесса (XIX в.), а также с другими кенотиками. При этом их влияние в трудах о. Булгакова проследить непросто, поскольку он мало или вообще не ссылается на их теории (иногда спорит). Но, в отличие от немецких и других кенотиков, которые ограничивали акт кенозиса воплощением, и потому могут быть названы «кенотическими минималистами», о. Булгаков идет дальше, соединяя постулаты немецкого идеализма (о самоограничении божества по отношению к миру, о мире как части божественного, того, что непосредственного затрагивает божественное бытие) с кенотическими теориями, тем самым выводя кенозис за рамки ограничения времени во внутреннюю жизнь Троицы85. При этом о. Булгаков не был сторонником и радикального крыла кенотического богословия (Гесса и Годе), которые подчеркивали разрыв (по-видимому, вслед за Шеллингом) между божественностью Отца и Сына. Прот. Сергий, как священник, пытался совместить свои кенотические идеи с догматическим учением Церкви и постановлениями Вселенских Соборов, утверждавшими полноту божественного и человеческого во Христе86.
Вслед за Шеллингом о. Булгаков расширяет кенозис до ипостасного разрыва в божественной Троице. Бог и мир не имеют онтологической пропасти между собой (влияние Гегеля), поскольку София тварная служит продолжением (кено-тическим исхождением) нетварной Софии. При этом Бог «по необходимости Своей любви» испытывает кенозис как в воплощении, так и в самой Троице (влияние Шеллинга)87. Идея «самоотдания», о которой пишет о. Булгаков, является основой кенотической триадологии как взаимообщения Лиц в Троице. Как замечает иером. Никон (Касярум), идея внутритроичного кенозиса в православном богословии встречается впервые именно у о. Булгакова88. Кенозис — это принцип существования ипостасей в Троице, который выявляется «вовне» (как естественный процесс проявления любви) в «вольном самоограничении Бога». Бог есть «любовь, которой свой ственно изливаться и во вне-божествен-ное бытие», поэтому «становясь Творцом, Бог Сам и в Своей собственной жизни принимает жертвенное самоограничение во имя любви к творению, сохраняя всю полноту имманентного Своего бытия»89.
Павел Гаврилюк описывает идею кенотической Троицы о. Булгакова следующим образом. Любовь Бога неизменна, и она одинаково жертвенна как в мире (во Христе), так и в Троице. Бог в мире как бы «раскрывает Себя», Свое внутреннее существо — жертвенную любовь. Каковы же жертвенные отношения внутри Бога? Отец «опустошает Себя» в Сыне, «отождествляет Себя с Его бытием», как и Сын, который рождается от Отца и послушен Ему. Поэтому пассибилистический элемент любви в Троице присущ Сыну как рождающемуся и послушному, как «смиренному Агнцу», Который в вечности был жертвенным Агнцем искупления90. Здесь мы находим идею страдания в Боге: «предвечное страдание» Отца как умирание при рождении Сына, опустошение Своей сущности для Сына, Который также в «надвременном кенозисе» опустошает Себя. Сын «позволяет» быть рожденным и быть «образом» Отца. Пребывать в «образе Отца» — значит быть жертвой, не существовать для Себя. «Самоопустошение» Сына в Отце выявляет «вечный кенозис»91.
Жертвенность — необходимый атрибут неэгоистичной любви. Бог не может наслаждаться Самим Собой, как некий нарциссический человек. Его любовь жертвенна и страдательна, она «самоотрицательна» для другого, поэтому можно говорить о «метафизической голгофе»92. При этом о. Булгаков, в отличие от Н. А. Бердяева, утверждает, что Отец и Сын не пребывают во взаимном страдании самоопустошения, которое свидетельствовало бы о неполноте любви. Святой Дух как Утешитель подает Другим ипостасям «радость и блаженство». Дух, как пишет Николас Эйден, «преодолевает трагедию» между Отцом и Сыном, являясь соединяющей их любовью. При этом Дух также испытывает страдание кенозиса: Он как посредник не проявлен в Троице, умаляясь как ипостась, «отрешается от Своей ипостасной сущности». В этом «самоотречении» Дух испытывает радость, утешая Отца и Сына93. Философия субъекта Фихте помогает о. Булгакову описать диалектику кенотического процесса через Я и не- Я. «Самозабвение», т. е. полное устранение своего «Я» (существование через другого) в Троице, с одной стороны, привносит в Нее трагизм некоей формы страдательности для Я, с другой — исполняет Лица радостью отдавания как наслаждения любви94.
В итоге П. Гаврилюк делает некоторые важные, как он считает, замечания в отношении богословия о. Сергия. Прот. Сергий Булгаков перенес фокус внимания с временного кенозиса Сына Божия на вечный модус божественного бытия, введя тем самым некий аспект страдания (трагизма) в Троицу, что предвосхитило современные пассибилистические идеи («Теология Креста» немецких богословов, «распятый Бог» Мольтмана и др.). При этом о. Булгаков, как православный богослов, пытался сохранить классические атрибуты Бога и не отступать от догматических формулировок в христологии и триадологии95. Следуя за традицией немецкого идеализма, о. Булгаков вносит в Бога разделение внутреннего и внешнего модуса бытия, где временное понимается как развитие или продолжение вневременного, как необходимая развивающаяся божественная идея (София). Если внешнее обладает страдательностью, то, по необходимости единства всего (все находится в Боге, потому что вне Бога нет ничего), страдает и источник временного, т. е. Бог. Здесь можно увидеть проблески современного процессуального богословия96. Также идея творения как кенотического акта, которую критики о. Булгакова приписывают влиянию на него Каббалы и гностицизма, предвосхищает идеи «теологии смирения» Бога, в которой Абсолют вступает в отношение с миром, отказываясь от некоторых Своих качеств (Джон Полкинхорн и мн. др.)97. В целом данные идеи (теология Креста и смирения Бога) разделяются многими современными богословами, в том числе и теистическими эволюционистами.
Два последних замечания, которые делает П. Гаврилюк, непосредственно относятся к современной полемике в отношении божественной апатии. Первое, что может возразить о. Булгакову традиция Церкви: постоянное состояние кенозиса в Боге лишает временный кенотический акт Воплощения и смерти Господа его определяющего значения. Если Бог страдает всегда, как говорят критики пассибилизма, то акт божественной любви в Воплощении теряет свое уникальное и волевое значение для Бога. Если все есть кенозис, то кенозиса не существует98, 99. Второй момент, который отмечает П. Гаврилюк: чрезмерная «психологизация» отношений Лиц внутри Троицы с дерзким проникновением в тайну богообщения, в которую по смирению не желали проникать даже великие святые. «Апофати-ческая сдержанность», которую требовали от о. Булгакова его оппоненты, должна быть основой всякого богословствующего христианина. Стремление проникнуть в тайну божественной жертвы и любви может быть названо как похвальным желанием глубоко эрудированного богослова, так и дерзкой попыткой гордого ума100.
Критика Владимиром Лосским
Кенотические идеи о. Сергия вызвали множество споров в среде как зарубежного, так и русского богословия в советской России. В частности, митр. Сергий (Страгородский) после того, как было рассмотрено учение о. Булгакова о Софии и осуждено на Соборе в Москве, написал богословский комментарий, где указал на зависимость о. Булгакова от идей гностицизма (София), платонизма и современных (на момент начала XX в.) кенотиче-ских теорий101. С одной стороны, в христологическом аспекте у митрополита (как и у Владимира Лосского, описавшего этот спор) вызвало возмущение смешение ипостасного и природного кенозиса102. Последний превращался из сокрытия божественной природы Логоса в «зраке раба» в «потерю» Бога-для- Себя, т. е. лишении Логосом Своей божественной ипостасности и обретении ее в становлении через человеческую жизнь (божественное самосознание возвращается к Сыну по мере роста в человечестве, что критики о. Булгакова расценили как возрождение апполинарианства)103. Отсюда рождались взаимные обвинения, с одной стороны, в монофелитстве-монофизитстве о. Булгакова (со стороны Москвы), с другой — в несторианстве оппонентов (со стороны о. Сергия). Все классические формулировки о том, что Христос мог страдать только в одной природе, только как человек, а не как Бог (скорее, не как «Богочеловек»), расценивались о. Сергием как неудовлетворительные. Страдает «Богочеловек <…> по Богочеловечеству»104. Такое «по-лумонофизитство», как называл его Владимир Лосский, являлось ошибкой смешения природы и ипостаси (или личности).
Другим важным моментом в критике учения о. Сергия является его отождествление Голгофы Креста с «метафизической» Голгофой, от века находящейся в Самом Боге. «Метафизическое самораспятие Логоса» является основой для Голгофы, как бы необходимым условием Воплощения и смерти Христа. Как говорит Лосский, «смерть утверждается в Святой Троице, как необходимое условие Ее жизни»105. Внешнее явление, страдание и смерть Богочеловека является самораскрытием вечной божественной трагедии через временный мир. Крест — не что-то новое в божественном бытии, но выражение вечного Креста сострадающей любви, явленного в мире. Таким образом, утверждает Лосский, для о. Булгакова Бог как бы превращается в заложника Своей метафизической «смерти», которая должна реализоваться во времени. Крест есть та сила внутри Бога, которая раскрывается в истории Искупления. Распятие для о. Булгакова, замечает Лосский, есть как бы «предвечный образ Святой Троицы», «извечное «условие жизни» Самого Бога, определяющее Его отношение к миру»106. Поэтому Лосский, вслед за митр. Сергием, делает справедливое (с точки зрения традиции) замечание, которое используют (и будут использовать по сей день) сторонники позиции божественного бесстрастия: если Крест есть как бы один из вечных атрибутов божественной природы (Его любви), то в чем заключается подвиг «умаления» Логоса и волевого подчинения «условиям падшего мира», как изложено об этом в Св. Писании и у святых отцов107? С другой стороны, Лосскому также можно возразить на это замечание: разве может Бог проявить волевое усилие «ума- ления», когда Он, по собственному замечанию автора, не подвержен акту изменения и страдания? Как может Бог совершить акт жертвы, если Ему неведома страсть любви, как об этом пишет о. Булгаков? Перенесение страсти на ипостась Логоса не решает вопрос, потому что волевое решение принадлежит общей природе Бога (как учит сам Лосский и вся традиция Церкви), а значит, оно лишено пафоса и подвига.
Владимир Лосский подчеркивает, что не природа Троицы состраждет распинаемому Сыну, но Христос страдает в Своей ипостаси только по человеческому естеству. Если в Боге «нет никакой тьмы» (1 Ин 1:5), то нет и никакого страдания. В Нем нет «внутреннего процесса», «диалектики», «становления», «трагедии», которая потребовала бы «развития Божественного Существа»108. Данные «вымыслы» были свойственны немецкому романтизму XIX в., и не могут быть отнесены к православному исповеданию догмата о Троице109. Если мы говорим, что существо Бога заключается в том, что Он любит, то любовь Бога есть блаженство бесстрастия. Для Лосско-го, как и для других богословов, защищающих традиционную античную идею божественного бесстрастия, любить — не значит страдать от этого «чувства». «Вся Троица любит, но не Вся страдает»110, — говорит Лосский. Диалектика о. Булгакова построена по принципу «возвращения» отпад-шей тварной Софии в Софию божественную, и Христос служит «мостом», соединяющим это расстояние (влияние Шеллинга). В зависимости блаженства Бога от «метафизического» Креста иером. Никон (Касярум) так же, как и Лосский, видит у о. Булгакова «природную необходимость» творения мира и Распятия111. Если последние снимают вечное страдание Голгофы Абсолюта, то вечная внутритроичная ипостасная жертва, не привязанная к бытию этого мира, снимается взаимным кенотическим актом «вечного преодоления страдания любви»112.
В. Лосский, в отличие от о. Булгакова, не использует понятие кенози-са по отношению к внутритроичному бытию Лиц. Божественный кено-зис также не рассматривается Лосским в категориях природы (природа как безличное и божественное не умаляется и не изменяется), но только в отношении Лица Сына Божьего. Прот. Сергий Булгаков, отмечает Лос-ский, смешивает то, что необходимо различать в Боге: природный и ипо-стасный принцип бытия, поэтому он [о. Булгаков] не понимает и не видит своей ошибки в приписывании Логосу природного кенозиса113. В отличие от природного кенозиса (ограничения и страдания природы Бога, по о. Булгакову) в персонализме Лосского присутствует ипостасный «Божественный κένωσις» Второго Лица Троицы в домостроительстве114. При этом о. Булгаков и Лосский согласны в том, что «умаление» Логоса, Который Он испытал в воплощении — это «не единичный акт, но проявление самого Его существа как Личности; и это… сама ипостасная Его реальность»115. Кроме того, кенозис касается не только икономического схождения Логоса в мир, но и обоживающего (также икономического) действия Св. Духа, действующего в Церкви. Лосский называет это «тайной уничижения, кенозиса сходящего в мир Духа»116. Несмотря на то, что Лосский, как и о. Булгаков, говорит о Личности Логоса как о том, что «“совершается” в отдаче Себя»117, и что «существует глубокая неразрывность между личностным бытием Сына, как са-моотказом, и Его земным кенозисом»118, он [Лосский] не использует термин кенозис по отношению к λόγος ἄσαρκος119. Взаимное отдавание Себя другому в Троице не имеет никакой тени страдания, но только радость жизни для Другого120. Сын Божий ипостасно проживал страдание и кенозис только в Своей человеческой природе, в то время как божественная природа не испытала ни страдания, ни кенозиса.
Выводы
Павел Гаврилюк подчерк ивает важный аспект пассибилистического кено-тизма прот. Сергия Булгакова: его идея зависимости божественного страдания («сострадательное страдание») от страдания мира («божественное счастье, лишенное переживания человеческого страдания, равносильно эгоизму»), является предшественницей пассибилистических идей современных (начиная с 60-х гг. ХХ в.) западных богословов, таких как Юрген Мольтман, Пол Фидс и др.121 Главный аспект кенотического самоистощания Христа — оставленность Его Отцом и Духом. С одной стороны, данная идея не является патрипасси-анством, потому что Отец не страдает на Кресте, но при этом страдания Сына передаются всей Троице, Которая страдает из сострадания любви. Жертва Христа затрагивает всего Бога. Здесь Гаврилюк делает важное замечание: о. Булгаков описывает божественные переживания и страдания «с острым чувством божественной драмы», которые затем будут развиты, в частности, Юргеном Мольтманом в его знаменитой книге «Распятый Бог»122, 123.
Критика о. Булгакова, отчасти справедливая в одном, не может быть принята в другом. В частности, Его идея страдающего Бога как тварной Софии приближает его систему к границе пантеизма, который постулирует онтологическое страдание Бога (пусть и свободным актом бытия «вовне»). С другой стороны, обвинение о. Булгакова в том, что он делает Бога метафизическим заложником вечного страдания («Голгофа Абсолютного»), не является до конца объективным. Проблема миротворения, вечного и временного в Боге находится в рамках божественной свободы любить. Крест, заложенный в основании бытия мира, показывает не вечное страдание Бога, но, скорее, вечную любовь, актуализированную во времени как жертву. Безусловно, о. Булгаков в некотором смысле вступает в полемику с церковной традицией, критикуя неизменность и бесстрастный характер божественной жизни и божественного творчества124. В отличие от о. Булгакова, святоотеческая традиция учит, что как Лица Троицы существуют по принципу бесстрастного рождения / исхождения, так и творение мира также имеет характер бесстрастного акта125.
Прот. Сергий Булгаков, как и его современные последователи в лице пассибилистов, не принимает термина «бесстрастия» по отношению к Богу, поскольку данный термин соответствует (по мнению о. Булгакова) «бесстрастному безучастию», т. е. безразличию Бога по отношению к миру. Как в Троице нет бесстрастия, но есть огонь жертвенной любви, так и мир, как теофания Абсолюта, есть в каком-то смысле плод божественной страсти любви, в которую от вечности вписан Крест126. В событии земного Креста о. Булгаков еще менее видит бесстрастие божественной природы. Отец и Дух сострадают Сыну в Его страданиях, и само божественное естество «по-своему (конечно, духовно) также участвовало в страданиях Христа»127. Таким образом, всякое божественное страдание или же сострадание, которые касаются не только ипостасно-го, но и природного аспекта божественного бытия, осуществляются Богом через кенотический акт смирения- любви, в котором Он участвует в страдании мира «действенным сопереживанием»128.
В заключение хотелось бы отметить важный положительный момент в рассуждениях о. Сергия. Если традиционный взгляд на кенозис Бога (и страдание Христа) вступает в очевидное противоречие с той его посылкой, которую он пытается защитить — неизменностью Бога, Который «изменяется», «смиряя» или «уничижая» Себя через восприятие человеческого уничижения, будучи изначально бесстрастным небесным мо-нархом129, — то позиция о. Булгакова, как и его предшественников и последователей в лице кенотических пассибилистов, позволяет сохранить атрибут божественной неизменности в этом ключе, хотя и отходя от некоторых (по преимуществу философских) представлений о бесстрастии Абсолюта. Бог уже имеет в Себе как опыт жертвенной любви и смирения, так и опыт кенозиса, неразрывно связанных. Воплощение Бога во Христе служило не приобретению нового опыта «унижения» через волевое усилие гордого бога, унизившего себя130, но выявлению вечных божественных качеств во времени. Бытие Троицы как Трех Лиц есть вечный кенозис любви, а творение мира, от вечности потенциально присущее Богу, выявляет Крест, на котором был «заклан» вечный «Агнец» (Откр 13:8).
С другой стороны, могут возникнуть возражения по поводу «вечности» события Креста в Боге как бесконечного божественного страдания, которое подлежит снятию в эсхатоне (в надежде всеобщего «восстановления»), делая
Бога изменяемым131. Поэтому, как утверждает сам о. Булгаков, мы остаемся перед тайной неизменяемости Бога как Абсолюта для Себя, и как изменяемого движимого Бога Творца для нас. Можно сказать, следуя идеям Карла Барта, что Бог способен в Себе схватывать такие видимые противоречия, поскольку Он свободен любить так, как хочет Сам. Мнение Барта в целом совпадает с позицией о. Булгакова: Бог свободен как в Своем бытии для Себя, так и в бытии для другого. Бог способен быть тем, Кем Он хочет быть, «не противясь Себе и не расходясь с Собой, Он привел в действие свободу Своей Божественной любви, любви, в которой Он божественно свободен». Барт выходит из затруднения апории творения мира и воплощения, страдания Христа и бесстрастия Абсолюта, идя не путем опровержения неизменности Его природы, но утверждая, по-видимому, противоположные (в рамках человеческой ограниченности) состояния Бога как «возможности», которые заложены в Его природе. Бог не только и не столько «actus purus», Он превосходит противопоставление актуальности и возможности / потенциальности, введенных Аристотелем132. Таким образом, как подчеркнул Г. У. фон Бальтазар, следуя в этом за идеей о. Булгакова, христианское провозвестие должно идти срединным путем, лежащим между доктриной строгой неизменности Бога, в которой мир и воплощение понимаются как «внешнее дополнение»; с другой стороны, оно не должно превратить Благую весть в гностический миф о страдании Бога Самого по Себе вне контекста творения, поскольку Голгофа Абсолюта — это именно «вечный аспект исторической кровавой жертвы на Кресте», которая (жертва любви) является вневременным «состоянием Сына, которое соприродно творению в целом и, таким образом, в какой-то мере затрагивает Его божественную сущность»133.