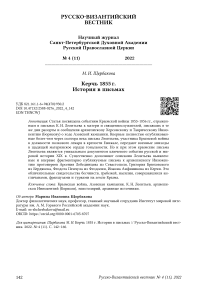Керчь 1855 г. История в письмах
Автор: Щербакова Марина Ивановна
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 4 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена событиям Крымской войны 1853-1856 гг., отраженным в письмах К. Н. Леонтьева к матери и священнослужителей, писавших в те же дни рапорты и сообщения архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию (Борисову) о ходе Азовской кампании. Впервые полностью опубликованные более чем через полтора века письма Леонтьева, участника Крымской войны в должности полкового лекаря в крепости Еникале, передают военные эпизоды в щадящей материнское сердце тональности. Но и при этом крымские письма Леонтьева являются уникальным документом ключевого события русской и мировой истории XIX в. Существенно дополняют описания Леонтьева выявленные и впервые фрагментарно публикуемые письма к архиепископу Иннокентию протоиереев Арсения Лебединцева из Севастополя, Григория Брюховского из Бердянска, Феодота Пенчула из Феодосии, Иоанна Анфиникова из Керчи. Это обличительные свидетельства бесчинств, грабежей, насилия, совершавшихся англичанами, французами и турками на земле Крыма.
Крымская война, азовская кампания, к. н. леонтьев, архиепископ иннокентий (борисов), эпистолярий, архивные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/140297237
IDR: 140297237 | УДК: 821.161.1-6+94(470):930.2 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_4_142
Текст научной статьи Керчь 1855 г. История в письмах
Самостоятельное значение Азовской кампании в истории Крымской войны одним из первых отметил русский военный историк, генерал-лейтенант Модест Иванович Богданович в своем выдающемся — энциклопедического уровня — четырехтомном труде «Восточная война 1853‒1856 гг.», вышедшем в Петербурге в 1876 г. Страницы этого уникального исследования изобилуют ценными материалами архивов Министерства иностранных дел и дипломатической почты; дополнениями к основной канве военно-исторических событий служат тексты донесений, частные записки, свидетельства участников и очевидцев. Масштаб и значение Крымской войны в истории России настолько велики, что и сегодня открываются существенные дополнения к уже известному.
С Восточным Крымом были связаны три года жизни Константина Николаевича Леонтьева — русского философа и писателя, врача и дипломата.
В аттестате Медицинского департамента военного ведомства, выданного в 1857 г., значилось, что Леонтьев, удостоенный по окончании Университета 18 мая 1854 г. степени лекаря, был определен на службу батальонным лекарем в Белевский Егерский полк, где так и не побывал, но 1 августа того же года «по болезненному состоянию здоровья перемещен из этого полка в Керчь-Еникальский военный госпиталь»1.
Полковому лекарю только 23 года. Несколько причин, побудивших его отправиться на войну, определила О. Л. Фетисенко в своей статье «Война и Юг»: кроме «меркантильных» (досрочный выпуск, получение звания лекаря и двойной годовой оклад), «“большая война” давала возможность не только переменить свою жизнь, но и стать участником “большой истории”»2.
Об этом важном периоде жизни Леонтьева сохранилось мало свидетельств. Крымские впечатления и воспоминания преломились в художественной форме в нескольких романах и повестях Леонтьева, прежде всего в автобиографическом очерке «Сдача Керчи в мае 1855 года» (1887). И хотя он написан спустя 32 года, «есть вещи, которые до того поражают, что мы их забыть не можем, если бы даже и хотели, — предварял свое повествование Леонтьев, — забыть их невозможно!» (61, 621)
Основной документальный источник — выявленные О. Л. Фетисенко 97 писем к матери, Федосье Петровне Леонтьевой, из Крыма (сентябрь 1854 — сентябрь 1857 гг.) — «обстоятельные, как дневник»3.
Об истории своих крымских писем Леонтьев вспоминал следующее: «Мать моя не имела привычки сохранять письма близких людей; исключения она делала только для очень немногих писем, для тех, которые ей чем-нибудь особенно нравились, или были ей дороги. По возвращении моем из-за границы после ее кончины я с удивлением нашел в ее письменном столе все мои письма 50 годов из Крыма. Все другие мои же письма были уничтожены. Почему матушка именно эти только письма сберегла, а не другие — не понимаю. Может быть, за то именно, что я в военное время так аккуратно извещал ее из Крыма о себе; отъезд врачом на войну был первой моей дальней отлучкой из дома, и, вероятно, она моей внимательностью была сильно тронута и сберегла эти письма, по содержанию иногда очень ничтожные. Позднее она, верно, понемногу привыкла и к дальним странствиям моим, и к аккуратным сообщениям, и к печальному — к разлуке, и к хорошему — к сострадательной почтительности моей. А тогда все это было для нее ново, и она сберегла все мои крымские письма» (61, 674)4.
«То, что письма адресованы матери, — справедливо отмечает О. Л. Фетисенко, — предопределяет и содержание, и форму посланий: “…не всегда близкому человеку
(особенно матери) можно писать о себе издали и с театра войны правду, чтобы ее не напугать и не расстроить напрасно” (61, 675). Это нужно помнить, тогда не вызовет удивления, что в письмах почти ничего не сказано о Севастопольской катастрофе, разве что коротко: “Севастополя больше нет ”. Сын даже не сообщает матери “полной правды” о том, какие суровые были эти две зимы, а только заверяет ее, что он всегда тепло одет (видимо, это был один из “пунктиков” материнской заботы)»5.
Восстановить, хотя бы отчасти, условия, в которых оказался батальонный лекарь Леонтьев в Крыму, могли бы косвенные документы. Например, письма крымских священников к архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию (Борисову)6. Рука об руку с медиками крымское духовенство было там, где требовала острая нужда: исповедовали, причащали, отпевали, служили молебны, поддерживали дух раненых. В письмах к преосвященному — подробные отчеты о состоянии дел, о подтвержденных или пустых слухах, о настроениях жителей крымских городков и селений.
Сохранилось более 80 писем севастопольского протоиерея Арсения Лебединцева из осажденного Севастополя. Многие из них публиковались в 1896 г. на страницах ежемесячного историко-этнографического и литературного журнала «Киевская старина». Из Ялты, а затем из Бердянска писал протоиерей Григорий Ильич Брюховский. Выпускник Киевской духовной академии, позднее — первый редактор «Таврических епархиальных ведомостей», о. Григорий обстоятелен и точен в своих докладах; сохранилось 25 его писем о положении на Южном берегу Крыма, в Азовской акватории и в Приазовье. Выявлено 15 писем из Феодосии городского протоиерея Феодота Пен-чула в период с 24 января 1854 г. по 28 декабря 1856 г. Феодосия распложена, во-первых, на ближних подступах к Керченскому проливу, город также мог рассматриваться коалицией как сухопутная возможность кратчайшим путем выйти к Арабату, Арабат-ской косе в Каспийском море. Наконец, в 12 верстах от Леонтьева, в Керчи, нес послушание протоиерей Иоанн Анфиников. Оба писали часто: один по сыновнему долгу, дав обещание матери; другой — по долгу службы правящему архиерею. Даты писем очень близки; встречаются и полные совпадения.
Восточный Крым, куда направили Леонтьева, в первые месяцы находился вдалеке от театра войны, от ее центральной арены — Севастополя. 1 сентября 1854 г., протоиерей Арсений Лебединцев отмечал: «У других берегов Крымских неприятелей нет. Итак, Восточному вопросу суждено решиться на Евпаторийских полях»7.
В Керчь Леонтьев прибыл в полдень 23 сентября 1854. «Еникаль, — сообщал он матери, — это что-то вроде продолжения Керчи на берегу моря, и там-то мой Го-шпиталь» (111, 16). Более подробно новое место службы Леонтьев описал в очерке «Сдача Керчи в 1855 году»: «Крепость наша была построена на крутом и неровном скате берега к морю; больничные строения и жилища служащих были рассеяны там и сям по этому склону, внутри старинных каменных зубчатых стен, и потому одно строение не заслоняло другому вид. Мое жилище было на полгоре, и с крылечка моего был свободный и прекрасный вид на пролив. Я часто в часы отдыха сидел, бывало, на нем и подолгу глядел, мечтая, на синюю полосу кавказского берега. Я знал, что там и жалкая Тамань, прославленная Лермонтовым. И мало ли о чем я думал, бывало, сидя дома на этом крыльце! Керчи из Еникале не видно вовсе; она скрыта за изворотами берега. Но в стороне Керчи, направо от наших дверей, вдали была всегда заметна небольшая полоса открытого моря, между двумя более темными, синими очертаниями двух концов земли, и от Кавказа на левую руку, и от Керчи на правую» (61, 629). Немного пообжившись, Леонтьев еще раз описал свое жилище в письме к матери от 15 февраля 1855 г.: «Вообразите себе небольшую комнату с белой штукатуркой, окнами в самый бок горы; дверью к крепостной стене и отчасти к морю; комнату довольно теплую; страшный беспорядок на 2-х окнах от книг и разных мелочей; три простых крашеных столика, на одном из них ваше зеркало, на другом всякая всячина; кровать (очень недурная; в придачу при продаже тарантаса добыл) и на кровати известное вам одеяло. — Потом крепостные стены, белые, низкие гошпитальные домики, бушующий пролив и 7-й час вечера… Представьте еще себе мой халат, давно вам знакомый — и вся картина» (111, 50).
Море не произвело большого впечатления, а город, построенный на горах амфитеатром, понравился. Война далеко: «Неприятельская армия стоит между Евпаторией и Севастополем, окруженная со всех сторон. — <…> а здесь и помину о неприятеле нет» (111, 17), — писал Леонтьев матери, а в его душе рождались иные чувства, иные стремления: «Скорее я был счастлив; я был бодр и деятелен в этой “серой” среде, вблизи от этой исторической драмы, которой отзывы беспрестанно доходили и до нас; в беспрестанном ожидании, что вот-вот и мы все здешние — керченские — будем вовлечены в поток этой кровавой борьбы…» (61, 623).
Между тем неприятель продвинулся значительно ближе. Накануне, 22 сентября англичане и французы заняли Ялту. Из рапорта настоятеля Ялтинской церкви протоиерея Григория Ильича Брюховского известно, что неприятели, прибыв на паровой эскадре, состоявшей из двух трехдечных кораблей, семи винтовых фрегатов и одного колесного парохода фрегата, произвели грабеж города: «неприятель брал птицу, скот и съестные припасы, разграблены были те дома, которые были заперты». Разорили ялтинскую Иоанно-Златоустовскую церковь: «Я нашел стоявшие при входе в церковь кружки: одна на устройство церкви, другая на нищих и убогих — разбитыми, бывшие деньги до 70 коп. серебр. <и> стоявшие при них две иконы — Святителей Николая и Иоанна Златоустаго, простой живописи — взятыми, висячий замок у церковных дверей испорченным, а на самих дверях следы ударов камнем, которым враги хотели разбить двери (двери, однако ж, остались совершенно целыми)»8. Вечером следующего дня Ялта была оставлена неприятелем.
Подтверждает разорение Ялты в своем письме от 28 сентября и игумен Николай: «Неприятель на днях занял было Ялту, но нагрузивши 10 пароходов вином и разною провизиею и взявши на станции лошадей и упряжь, уехали; жители Южного берега разбежались, а татары и оставшееся забирают. Беда, христиан жителей не защищают от нападения неприятельского и татарского»9. Трезво оценивал ситуацию и безрадостную перспективу о. Григорий Брюховский. «На Южном берегу опасно, — писал он в эти дни. — Татаре почти явно уже бунтуют. Значительные лица из них бежали уже к неприятелю в Балаклаву»10.
Октябрь 1854 г. приковал внимание всей России к Севастополю.
5-го числа в 6 часов утра началась бомбардировка города, которую так описал Лебе-динцев: «открыт огонь, который в полчаса превратился в превышающий всякое описание ужас: гром выстрелов, треск лопающих бомб, свист ядер, блистанье как бы множества молний, залпов неумолкаемый рокот, страшно вторимый среди гор и бухт наших, наконец, при безветрии дым, не позволявший нам видеть далее той линии, откуда раздавались громы оглушительные; все это невольно заставляло людей говорить: страшный суд! страшный суд!»11 Убит начальник штаба Черноморского флота адмирал Владимир Алексеевич Корнилов; потеря на всех русских бастионах и батареях убитыми и ранеными — до 400 человек.
Как бы долго ни шли в Еникале новости, маловероятно, что Леонтьев так ничего и не узнал о севастопольской бомбардировке, продолжавшейся весь месяц. В октябрьских письмах к Федосье Петровне он нарочито обходит этот вопрос: «О делах под Севастополем мы решительно ничего не знаем» (111, 23). Впрочем, и в более поздних письмах к матери Леонтьев крайне мало касается обороны Севастополя, длившейся более 11 месяцев: «Об Севастополе ровно ничего не слыхать» (3 января 1855 г.; 111, 40), «Под Севастополем ничего, кажется, нет особого» (10 января 1855 г.; 111, 43), «Из-под Севастополя не слышно ничего особого» (28 марта 1855 г.; 111, 62). В конце июля, за месяц до выхода из города русской армии: «Об Севастополе не слыхать ничего нового после того, как отразили штурм Пелисье» (111, 97).
22 октября датировано письмо керченского протоиерея Иоанна Анфиникова с отчетом архиепископу Иннокентию о событиях в городе, в числе которых следующее: «На днях только была сильная буря, продолжавшаяся около шести дней, от которой несколько судов выброшено на мель»12. Накануне, 21 октября, Леонтьев тоже писал матери о погоде, но ни о каких природных катаклизмах, о бури и речи не было — только ветер: «Здесь все по-прежнему; день тянется за днем, и разнообразия нет, тем более, что уж трое суток ветер с моря дует такой, что на ходу подгоняет; но осеннего (по-нашему) здесь нет ничего; как было в сентябре, так и теперь. <…> Если бы вы были здесь, вы бы не знали куда деться от этого ветра. — Гулять совершенно нельзя» (111, 22). О своей врачебной практике этих месяцев вспоминал в мемуарном очерке: «Мой труд от сентября до мая <…> был именно таким трудом, по мере сил и знания добросовестным, однообразным, ежедневным. Иногда он был очень неблагодарен и тяжел: в военной больнице, на 20 рублях жалованья, в глуши и неизвестности, в небольшой крепости Еникале, на унылом и безлесном берегу Киммерийского Босфора, в стране “Киммерийского мрака”, как выражались древние и, кажется, сам Геродот. В иные месяцы у меня было до 200 больных в день; в их числе было и много раненых из Севастополя» (61, 622).
Из того же письма Анфиникова от 22 октября известно, что «генерал от кавалерии Хомутов опять квартирует в г. Керчи и помещается со штабом своим в бывшем заведении Кушниковского института, <…> часто бывает при богослужении в керченском Свято-Троицком соборе»13. О приезде Хомутова в Еникале Леонтьев написал матери несколько позднее, 28 октября, — как о «довольно приятной варьяции» (111, 23), вуалируя его стратегическую подоплеку и по-прежнему сглаживая реалии военной обстановки. «Хомутов осматривал наш Гошпиталь и пробовал пушки, которые на всякий случай наставлены на здешних крепостных стенах. — Общее мнение, однако, то, что неприятель будет сюда разве будущей весной и то, если теперь не достаточно разобьют их войска под Севастополем. — А то им на такой ничтожный пункт, как наш, и обращать внимания нечего» (111, 23), — писал Леонтьев, не упоминая, что этот «ничтожный пункт» есть ворота в Азовское море. Остановился лишь на внешней стороне события: «Хомутов этот — старик прекрасной наружности и, как говорят, очень хорошей души. — Вообще его особа в полуказацком костюме произвела на меня весьма приятное впечатление. — Стрельба ядрами тоже вещь довольно эффектная, особенно, когда ядро идет по морю рикошетом» (111, 23‒24).
Протоиерей Иоанн Анфиников в упомянутом выше письме от 22 октября 1854 г. сообщил, помимо прочего, обстоятельства погребения Вильгельма Николаевича Олива, скончавшегося 3(15) августа 1854 г.: «Тело умершего бывшего статского советника и камергера Оливы, католического исповедания, из Москвы предполагали перевезти и похоронить в его имении на Южном берегу, но, по случаю военных действий, похоронили его в Кумыш-буруне, в его же имении, в 10 верстах от Керчи, где со временем предполагают устроить православную церковь, особенно для крестьян, которые православного исповедания. Копию с открытого листа о провозе тела помещика Оливы при сем смиреннейше представляю»14.
Предание земле останков В. Н. Олива не отражено в письмах Леонтьева. По всей вероятности, он так и не побывал в этом прибрежном имении под Керчью, на берег которого высадился неприятельски й десант 12 мая 1855 г. «Где эта деревня г-на Олив
Камыш-Бурун, в которой десант?..» (61, 647) — задавался вопросом Леонтьев в те минуты, когда покидал Керчь, едва не столкнувшись с неприятельскими войсками.
Предположительно и Федосья Петровна о погребении праха узнала позднее, когда на Рождество приехала в Москву и оказалась в тесном родственном кругу Натальи Васильевны Охотниковой и Софьи Сергеевны Олив, вдовы В. Н. Олива. Не приходится сомневаться в том, что после встречи трех сердобольных матрон последовало приглашение, посланное Леонтьеву через его тетушку Анну Павловну Карабанову (урожд. Охотникову, дочь Натальи Васильевны), провести святки в крымском имении Шатиловых — Иосифа Николаевича (племянника Натальи Васильевны и двоюродного брата Анны Павловны) и его жены Марии Вильгельмовны (дочери Софьи Сергеевны Олив). «Осип Николаевич и его жена желали пригласить меня на святки к себе, — сообщил Леонтьев матери 3 января 1855 г., — но я понять не могу, каким образом могло бы это осуществиться, если бы я имел малейшую возможность отлучиться от должности… Куда? — Где они? — Где этот Карасу-Базар? — Как могут они быть в одно и то же время и в Херсони и в Карасу-Базаре… Впрочем, несмотря на эту вездесущность, непонятную для меня, и на невозможность отпуска, я был искренно тронут их любезностью и добротой. Передайте это от меня Анне Павловне вместе с поцелуем» (111, 41). Письмо Леонтьева наглядно показывает, насколько разнились представления Федосьи Петровны (им же и сформированные) о его крымских условиях с реалиями военной жизни. Сын не смел писать матери, которую «очень любил, очень жалел и уважал» (61, 647), то, о чем помнил многие годы: «Всю зиму я трудился; лечил, как умел, и перевязывал солдат; резал ноги, руки, вскрывал нарывы; налагал крахмальные сотеновские повязки <…>. В палатах я проводил каждый день от 8 или 9 часов утра до 2-х и более; едва успевая все сделать, что нужно, и усталый, но бодрый и здоровый, спешил жадно съесть очень простой и очень грубый обед у смотрителя…» (61, 624).
Родственные хлопоты возымели успех через два года: по окончании Крымской войны и до своей демобилизации Леонтьев служил врачом в крымском имени Шатиловых Тамак, заключив контракт на лечение с окрестными помещиками.
В один день — 5 ноября 1854 г. — были написаны два письма: из Еникале Леонтьевым и из Керчи протоиереем Иоанном Анфиниковым.
Леонтьев: «Здесь все спокойно, и я, слава Богу, здоров (т. е. по-прежнему). — К службе привык уже совсем и занимаюсь охотно. — Вот вам, мой дружок, все мои небольшие новости» (111, 23). Письмо выделяется из ряда других своей краткостью, чего не скажешь об обстоятельном донесении керченского протоиерея Иоанна Анфиникова, сообщавшего архиепископу Иннокентию: «Второго числа сего ноября у нас в Керчи страшная свирепствовала грозная буря с половины одиннадцатого часа утра до 3 часов пополудни с молнией, громом и сильным градом; причем выброшено несколько судов на берег и по домам выбиты стекла: но смертных случаев, благодарение Богу, не было»15. Слух о разрушениях передает в своем письме и протоиерей Арсений Лебединцев: «В Феодосии один шкипер под присягой показал, что у Босфора выброшено разных судов с неприятельским грузом и десантом до 60-ти. Видимо, Господь нам споборает»16. Речь здесь о Керченском проливе, который древние греки именовали Боспором Киммерийским.
О. Иоанн Анфиников продолжает: «Вчерашнего числа появилось около Таклын-ского маяка, в сорока верстах от Керчи по направлению к Феодосии, два фрегата и один пароход, которые по донесению местных начальников особенно занимались промером между Нимфеею и Кумыш-буруном, имениями Гурьевых и Оливы; а сегодня замечено было, что показанные фрегаты и пароход приняли направление к Керченскому проливу. Вследствие последнего действия неприятельских судов произошла тревога в Керчи почти с 5 часов утра; и около семи часов четыре батальона пеших казаков и одна батарея конная с другими войсками были уже на Павловской батарее. Сам генерал от кавалерии Хомутов, наш военный начальник, выехал в 8 часов утра со своим штабом к Павловской батарее, когда подан был сигнал пущенными ракетами, что неприятель близко подходит. В керченском Свято-Троицком соборе в это время соборне после литургии был отправлен по чиноположению покаянный молебен о победе на супостаты, и, благодарение Господу Богу, тревога окончилась тем, что неприятель возвратился вспять, а войска наши в 12 часов утра начали возвращаться в Керчь, после того что они несколько часов прошли по берегу моря по направлению к Кумыш-буруну. На днях была высадка со стороны неприятеля на восточном берегу Черного моря между Таманью и Анапой, в месте так называемом Джамитей, где семьдесят человек наших черноморских казаков содержат пост. Неприятель разорил укрепление и по отступлении наших вышел на берег, запасся водой и другими живыми продуктами, а потом вышел в море»17.
В контексте этих описаний первые строки письма Леонтьева прочитываются без большого доверия: «Чуть-чуть было не нарушил обещания писать аккуратно каждую неделю; вообразил себе, что сегодня четверг, и хорошо, что солдат поздно идет на почту».
Через несколько дней были написаны параллельно еще два письма: 14 ноября датировано письмо из Керчи протоиерея Иоанна Анфиникова, 18 ноября — письмо из Еникале Леонтьева, столь же краткое, как и предыдущее.
Керчь, в описании о. Иоанна, хотя и живет подобием мирной жизни, но все в напряженном ожидании появления неприятеля: «В городе Керчи, по милости Божией, все благополучно и градские жители благодушествуют, занимаясь, впрочем, большею частию приготовлением корпии и другого необходимого для раненных защитников Крымского полуострова; даже ученики Керченского уездного училища в свободное время от уроков готовят корпию. Пароход Донец по-прежнему продолжает ходить между Керчью и Таманью и перевозит необходимое для войск, расположенных в Керчи. С 8-го числа сего ноября часто у нас идут порядочные дожди, и оттого сделалась сильная грязь; впрочем, еще продолжают привозить нам капусту и проч. Господа члены Керченского клуба пожертвовали в пользу раненых тысячу рублей сребром и сверх того двести рублей сребром, собранных на обед, ежегодно бываемый 1 сего ноября, от которого в настоящем году добровольно отказались. О. протоиерей Иоанн Кумпан, с позволения начальства в г. Керчи, разыгрывает в лотерею неизвестно от кого ему доставшуюся вазу из древнего кокосового ореха огромной величины, обделанную сребром, — также в пользу раненых в Крыму, и уже успел собрать на сей предмет около трехсот рублей сребром. Генерал Хомутов взял восемьдесят билетов по двадцати пяти копеек сребром. Татаре теперь у нас тихо и покойно живут, и между ними особенного в настоящее время не заметно ничего. На рейде керченском в настоящее время очень много судов нейтральных, которые прибыли за получением груза и пока остаются в Керченском проливе. Еникальская крепость в настоящее время вооружена пятьюдесятью пушками большого калибра, а также вооружена и Арабат-ская крепость. Сверх того, в Еникале около ограды церковной на возвышенности устроена батарея, и на ней поставлены четыре огромных пушки, и столько пушек стоит с противоположной стороны на батарее, устроенной на косе для перекрестного огня и особенно для защиты входа в Азовское море. На Павловской батарее, устроенной для защиты входа со стороны Черного моря в Керченский пролив, поставлено двадцать семь пушек, и, сверх того, вблизи расположены Азовские казаки со своими лодками, которые также вооружены каждая одною пушкой. У нас в Керчи нет еще раненых из Севастополя, но госпиталь думают приготовить»18.
Ничего подобного нет в письме Леонтьева. Тем пронзительнее его слова, обращенные к матери: «вижу теперь ясно, что вы не хотите ко мне писать, ma chère maman. — Я от нескольких человек получил уже письма, а от вас ни одного. Ну, что делать… Бог с вами. — Я очень хорошо знаю, что вы чувствуете и что значило ваше наружное спокойствие в последние дни, проведенные мной в Кудинове. — Словами доказывать теперь не стоит ничего; а будущее неизвестно; я только то знаю, что этот отъезд или совсем переменит ход моих дел к лучшему, или окончательно испортит их. — Я этого и желал. <…> Прощайте; еще раз целую ваши ручки и надеюсь хоть на мысленное благословенье!» (111, 25‒26).
В конце ноября Леонтьев крайне осторожно начинает готовить Федосью Петровну к возможной трагической развязке. «Неприятель сюда не будет; это верно, — писал он 25 ноября. — Они не могут теперь отделить и 5000 от своих войск у Севастополя; и зачем им нужно наше ничтожное местечко, когда дела им слишком много и там, где они теперь. — Предположим даже (чего здешние никто не предполагает), что Севастополь возьмут; и тогда — что же? — Нам придется сдаться без боя, вероятно! Видите, я беру крайность, которой ни я и никто не допускает (должно быть, и сами французы не верят возможности взять Севастополь; потому что дела их начинают плошать сильно)! — Божусь вам, что я не прибавляю ни на волос» (111, 27). В этом же письме несколько благостных, как обычно, слов о погоде: «Погода здесь стоит такая, как у нас в сентябре, и недавно трава вновь позеленела; если бы были деревья (их всего 3 у нас!), страна была бы прекрасная» (111, 27). И это при том, что 23 ноября, в день памяти свт. Митрофана Воронежского, архиепископу Иннокентию было сообщено о торжествах «на Павловской батарее, утроенной при входе со стороны Черного моря в Керченский пролив, почти в шести верстах от города Керчи»: «По случаю сильной бури с дождем, к несчастию, не было возможности совершить молебствие на самой батарее под открытым небом, а потому все собрались в устроенной там же казарме»19.
В письмах, как Леонтьева, так и других корреспондентов, сообщается о планах устройства в Керчи временного госпиталя для раненых из Севастополя. Стремление Леонтьева перейти туда, «хотя это не так-то легко» (111, 32), связано с желанием, как он признавался, дать своей деятельности «иное направление» (111, 36). Насколько это желание было сильно, можно судить по строчкам письма Леонтьева от 5 декабря из Еникале: «В последнем письме моем я писал о намерении заранее просить перевода в Керчь, если там устроится временный гошпиталь, как этого желает здешний главнокомандующий Хомутов. — Основываясь на хорошем отзыве обо мне нашего смотрителя в разговоре с доктором, от которого перевод мой зависел, я решился не откладывать дольше переговоров и вчера, закутавшись потеплее , несмотря на дождь, поехал вечером в Керчь. <…> Господин этот принял меня довольно любезно и дал мне слово, если гошпиталь будет открыт, сделать для меня все, что от него зависит» (111, 33).
Военная обстановка в первых числах декабря заметно ухудшилась. 7 декабря в 4 часа дня «появился в виду Таклынского маяка неприятель в числе одного парохода и одного двухдечного фрегата, и остались там на якорях»20. Утром следующего дня «пароход и фрегат и еще какие-то суда приняли направление прямо к Павловской батарее, и часу в девятом утра подошел пароход к батарее на пушечный выстрел и сделал пять выстрелов бомбами, так что одна бомба пала в море около берега, где и разорвалась, а другая ударила в самый морской берег, на котором устроена батарея; прочие же бомбы не долетали»21.
Подробности завязавшейся перестрелки архиепископу Иннокентию сообщил о. Иоанн Анфиников: «После выстрела неприятельского сделано было несколько выстрелов и с Павловской батареи нашей, вначале из единорогов, а потом из бомби-ческих пушек калёными ядрами, из коих первые выстрелы не долетали до неприятельского парохода, а вторые перелетали за пароход, и одно ядро сделало рикошет у самой кормы неприятельского парохода, после чего он и отправился на всем ходу обратно. Фрегат неприятельский вовсе не подходил к Павловской батарее и оставался вне пушечных выстрелов. <…> Девятого числа сего же декабря опять появились было неприятельские корабли в виду Таклынского маяка, но потом скрылись, приняв направление к Джемитею, небольшому укреплению на Таманском берегу»22.
В самой Керчи события 8 декабря вызвали сильную тревогу; на батарею были отправлены войска, но к моменту их прибытия перестрелка закончилась; «а большая часть жителей города Керчи, как любознательные, стояли на берегу моря, а иные на горе Митридата; храбрейшие же отправились на самую Павловскую батарею, чтобы иметь случай посмотреть поближе неприятеля»23. Чтобы предотвратить панику, атаман Войска Донского генерал-адъютант Хомутов успокаивал жителей Керчи: «Неприятель подходил к нам, чтобы посмотреть и испытать»24.
Поступление раненых в крымские госпитали стало увеличиваться к концу декабря. Упоминания об этом встречаются в письмах Леонтьева; они больше похожи на обмолвки по разным другим поводам — чтобы не тревожить Федосью Петровну. «Завтра Праздники начинаются, — писал он 24 декабря, — а у меня и похожего на отдых не будет; не сегодня-завтра пришлют 200 человек больных. — Впрочем, я рад не иметь времени оставаться наедине сам с собой» (111, 37). «Сегодня я замотался порядком, — писал Леонтьев 27 декабря, — привезли раненых из Феодосийского Го-шпиталя, и как водится — все это перепуталось; фельдшер мой как нарочно охромел для этого дня! — впрочем, это будет длиться не более 2-х дней; а там все пойдет опять аккуратно» (111, 39).
Первые месяцы 1855 г. были наполнены тревожными ожиданиями. «Обладание Азовским морем и охранение его от неприятельского вторжения было весьма важно как по большому количеству хлеба, находившемуся в тамошних портах, так и потому, что одно из сообщений нашей Крымской армии с внутренними областями России проходило по Арабатской косе через Геническ, а другое, в незначительном расстоянии оттуда, через Чонгарский мост»25, — так сформулировал стратегическое значение Азовского прибрежья военный историк генерал-лейтенант М. И. Богданович.
В письмах протоиереев Григория Брюховского, Феодота Пенчула, Иоанн Анфини-кова сообщения о передвижениях военных кораблей противника, обстреле приморских укреплений, грабежах и мародерстве. А в четырех январских 1855 г. письмах Леонтьева все те же успокаивающие аргументы: «Если бы союзники и пришли сюда, так они никак Керчи миновать не могут, и прежде нежели они остановятся перед Еникале, им нужно драться в Керчи и не быть разбитыми. — Госпиталь же при малейшем их решительном шаге около Керчи, насколько я знаю, полагается вывести в степь» (111, 43).
Об ухудшении обстановки можно судить разве по сообщению Леонтьева о впервые им проведенной ампутации и еще двух намеченных (111, 46). Об одной из таких операций Леонтьев вспоминал спустя три десятилетия: «В Еникале однажды, во время ампутации голени, по неосторожности фельдшера, слишком вдруг ослабившего турникет на ляжке больного, артериальная горячая кровь брызнула фонтаном мне прямо в лицо и попала в рот… Я выплюнул только и продолжал операцию…» (61, 635).
Реальная картина близкой катастрофы — в письме феодосийского прот. Феодота Пенчула, адресованном архиеп. Иннокентию (Борисову) 29 января 1855 г.: «Вашему Высокопреосвященству известно из газет, что англо-французский флот, по выходе из Дарданелл, крейсирует на море. Из сей флотилии четыре парохода-фрегата посетили и нашу Феодосийскую бухту. 19 числа в 3 часа пополудни явились сии нежданные и страшные гости без флагов и лавировали на рейде около 20 минут в виду наших трех военных пароходов, которые несколько разов давали сигнал, чтобы они подняли свои флаги, но они не обратили внимания, и когда они уже удалились за Карантинный мыс, тогда только один из них поднял французский флаг. Появление сиих судов навело трепет на весь наш город, и в тот же день, кто только имел возможность, выехали из города, а на другой день многие пустились бежать вовсе из Крыма, кто в Херсонскую, а кто в Екатеринославскую губернии, а некоторые в Москву. И теперь в Феодосии остались только бедняки, да военные и гражданские чиновники, и живем по-походному, трепеща за свои семейства. Цель прихода сих иностранных судов в Феодосийскую бухту, вероятно, была та, чтобы обозреть местность и измерить глубину моря в рейде, а после может быть пожалуют с десантом, для которого из крымских приморских городов нигде не удобна так высадка, как в Феодосии, тем более еще, что она ничем не ограждена. Так, по крайней мере, рассуждают дипломаты феодосийские. Но да сохранит нас Господь от сей напасти! Слышно, что к нам идет артиллерия, но когда это будет? Батареи уже устроены, а пушки еще ни одной нет, кроме одного батальона»26.
Еще одной напастью в Феодосии стала нехватка продовольствия. «Хлеб, благодаря Бога, — сообщал прот. Феодот Пенчул, — в Феодосии еще не совсем дорог. Кроме хлеба и говядины ничего из съестного нельзя отыскать. Даже постного масла в лавках трудно найти. Из окрестных деревень, кто что имеет, все везут на позицию к Севастополю. Мы только и надеемся на подвоз из Харькова. К общему бедствию еще появилась тифозная горячка, от которой в городе большая смертность, особенно в гошпиталях. Нет того дня, чтобы мы не отпевали покойников от пяти до десяти человек. Я и сам было приболел. Но благодаря Бога начал в здоровье своем оправляться»27. О тифе упоминает в одном из писем и Леонтьев, но совсем в иной тональности: «Живу довольно спокойно; у нас уж весенний воздух и трава зеленее; довольно много хожу и чувствую себя порядочно; болезней вы не бойтесь; кроме лихорадки, к которой я мало склонен, теперь ничего серьезного нет; тифозных настоящих почти нет» (111, 55).
В дни Великого поста, 18 февраля 1855 г., скончался Николай I. Об этом, как о «важной политической новости» (111, 56). Леонтьев писал 3 марта: «…если слухи совершенно основательны, то вы это еще вернее меня знаете и, конечно, догадаетесь, о чем я говорю!». Между тем уже 28 февраля к присяге на верность Государю Императору Александру Николаевичу и Наследнику Его Николаю Александровичу были приведены войска в Перекопе. На следующий день весть дошла и до Севастополя.
Повсеместное упование в этой связи на скорейшее завершение войны сопровождалось, тем не менее, большой осторожностью со стороны военачальников. В том же письме от 3 марта Леонтьев сообщал из Еникале, что «Хомутов приезжал с духовенством освящать батареи; погода была прекрасная и все было довольно эффектно» (111, 56). В Феодосии, которая также могла рассматриваться коалицией как еще одна возможность, сухопутная, выйти к Арабату в Каспийском море, начальник войск восточной части Крыма генерал-лейтенант барон Карл Карлович Врангель на Пасху «не позволил в городе устроить качели и другие предметы для общего увеселения; даже не позволил быть особенному, по обыкновению, освещению в течение ночи пред самым Светлым Праздником Воскресения Христова, а равно быть выстрелам во время минут, напоминающих Воскресение Христово»28. Это из письма прот. Иоанна Анфини-кова. Прот. Григорий Брюховский, переведенный из Ялты в Бердянск, писал 14 марта архиеп. Иннокентию: «И здесь боятся посещения англо-французов, хотя сюда, кажется, нелегко им пробраться чрез Керченский пролив, укрепленный и укрепляемый новыми батареями. — Стоящей в Ростове флотилии, из канонерских лодок, приказано выступить к проливу. Сегодня пришли к нам из Керчи три парохода, наших; они идут в Ростов, для сопровождения канонерской флотилии. О Керчи не рассказывают ничего нового. Там стоят, в 5 верстах от берега, три французских парохода»29.
Прот. Феодот Пенчул, сообщая, что особых новостей в Феодосии во второй половине марта не было, писал: «31 марта батальоны, квартировавшие в городе, вышли в лагери и расположились между Керчью и Феодосиею; к этим батальонам пехотным присоединились еще два кавалерийские полка — гусарский и драгунский с донскими и черноморскими казаками и двумя артиллерийскими батареями. Всего войска между Керчью и Феодосиею считают до 15 тысяч»30. В этом же письме — о передвижении госпиталей: Феодосийский военный госпиталь полностью отправляется в Симферопольский уезд в имение Перовского, «где предначено ему быть подвижным на 3000 человек больных, а к нам прибыл уже подвижной лазарет из Керчи. И теперь в городе нашем остались только инвалидная команда и сотня донских казаков. В городе пустота и тишина необыкновенная»31.
В письме Леонтьева от 4 апреля дана иная интерпретация сложившейся ситуации: «И последняя моя попытка перейти в Керчь не удалась. — Если бы там были больные, то, вероятно, меня бы туда назначили; но отделение стоит пустое и приготовлено только на случай бомбардировки или сухопутного дела, — для раненых. — Так что теперь и нет там врача. — Здесь, впрочем, все по-прежнему; в отношении службы, особенно бранить нечего, да и хвалить нельзя. — Извлекши из Еникале все, что мне было нужно, я бы с удовольствием поразнообразил себе жизнь переходом в Феодосию или даже в порядочный полк (там гораздо больше жалованья)» (111, 64‒65). В письме лишь слабый намек на те глубинные перемены, которые ощутил в себе Леонтьев с приходом крымской весны. «Весна наступила, как наступает она на юге, почти вдруг, без той тяжелой борьбы со стужей, которая бывает у нас, без тающих глыб снега, без шумных потоков, без внезапных возвратов вьюг и снега, — вспоминал он. — Вдруг все стало веселее, теплее, светлее. Пролив растаял и прошел… Небо стало чистое; степь зеленая. Больные наши, и те повеселели… И меня стало манить куда-то на волю, и мне захотелось иной деятельности, иной жизни, иной борьбы, не труда честного, а боевой опасности: захотелось в лагерь, в поле, в полк куда-нибудь; в самый Севастополь, если можно» (61, 626).
Начало апреля не принесло видимых изменений. Генерал Хомутов проживал в Тамани — 30 км по воде, «сообщение только посредством парохода, который ежедневно отправляется из Керчи поутру и того же дня к вечеру возвращается обратно в Керчь»32. По слухам, сообщенным о. Иоанном Анфиниковым 5 апреля, «в Керчь скоро пожалуют гусарский и уланский полки, которые, впрочем, остановились в 40 верстах от Керчи в имении генерала Ладинского, куда намерен скоро отправиться и наш военный начальник генерал-лейтенант барон Врангель». В имении Аргин окажется и Леонтьев, но позднее, после взятия Керчи.
Во второй половине апреля коалиционные силы стали активнее действовать у берегов Восточного Крыма. В донесении архиеп. Иннокентию о. Иоанна Анфиникова от 19 апреля значилось, что к трем неприятельским пароходам, постоянно стоявшим против Павловской батареи, прибавились еще пять; потому «жители Керчи довольно сильно встревожились в ожидании, что будет предпринято со стороны неприятеля»33. Один из этих пароходов подошел близко к Павловской батарее, но после обмена выстрелами вынужден был удалиться. «Все это происходило в виду других неприятельских пароходов, но ни один из них не подходил на помощь своему пароходу»34.
В один день, 28 апреля, были написаны и отправлены письма Леонтьева из Ени-кале на французском и прот. Иоанна Анфиникова из Керчи.
Леонтьев, живописуя, по обыкновению, великолепные картины весенней природы, упоминает о некоторых важных армейских событиях. Во-первых, об эвакуации больных в Фанагорию, крепость рядом с Таманью, «три дня» назад. И о сообщении, «что 50 неприятельских кораблей находятся у входа в пролив, вернее, в небольшой залив, который <простирается> от Керчи до Черного моря. Впрочем, все это было только фарсом. — Говорят, они хотели отвлечь внимание, а согласно последнему известию, они направились к Кавказскому побережью, чтобы там высадиться. — Вход в наш залив им совершенно недоступен, они прекрасно это знают; помимо батареи Св. Павла, защищающей вход в порт (Керчи), есть много затопленных судов, в более глубоких местах — якоря, а прочее довершает природа, оставляя лишь очень узкий проход под огнем батареи; Да говорят, и этот проход тоже затруднен. — У них остается одна возможность: высадиться ближе к Черному морю; но полагают, что на это они не пойдут, так как знают, что у нас было время с осени собрать войска в Арабате, Керчи, Феодосии и т. д. Но поскольку осторожность не повредит, нас разбудили в 11 вечера, собрали больных и переправили их на другой берег. У нас остались только лежачие, но так как на другой день всякая тревога прекратилась, то мы отделались бессонной ночью, уже возместив ее свободным временем» (111, 73).
Письмо о. Иоанна, написанное в тот же день, содержало, во-первых, подробное описание празднования 23 апреля, дня памяти св. Георгия Победоносца, имевшего особое значение для местного населения — «при всей угрожавшей нам великой опасности со стороны англо-французо-турков, <…> при всем том, что многие семейства, по случаю военного времени, выехали из Керчи»35. По преданию, в XVIII в. близ Керчи пастуху-греку на горе, куда он ежедневно поднимался на молитву, было явление св. великомученика. В память об этом событии гора получила татарское название Катер-лез (всадник на коне), а по окончании Крымской войны, по ходатайству архиепископа Иннокентия, там была открыта киновия, положившая начало монастырю. «В настоящем году в Катырлесе собиралось благочестивых христиан в день св. великомученика Георгия около 2000 человек обоего пола; были даже некоторые по усердию из Черно-мории, а особенно из Тамани»36, — писал о. Иоанн. В крестном ходе из Керчи к ка-терлезской часовне намеревались принять участие генерал-адъютант атаман Войска Донского генерал от кавалерии М. Г. Хомутов и генерал-лейтенант барон Н. Е. Врангель. Однако «около 11-ти часов утра генерал Врангель получил донесение, что около Таклынского маяка показалось от 50 до 60 вымпелов неприятельских, — излагал ход событий о. Иоанн Анфиников. — Благодарение Богу, что народ благочестивый при выходе из Керчи со святыми образами ничего не знал об этом, а уже сделалась известна тревога по прибытии крестного хода в самую катырлескую часовню; потому что тотчас потребовали обратно в Керчь приставов и квартальных, а также жандармов и всех десятских полицейских. При всем этом, оставшиеся молились с полным христианским усердием и с истинною покорностию к непостижимым путям Небесного Промысла внимали молебному пению и акафисту в честь св. великомученика и Победоносца Георгия. По возвращении из Катырлеса в Керчь всем вдруг сделалось известным, что страшные неприятели наши с своими многочисленными кораблями появившиеся у берегов наших, отправились обратно в море, и таким образом Господь видимо оказал нам недостойным Свою Великую милость, по молитвам и предста-тельству св. великомученика Георгия сохранив град наш от врагов»37. Генерал атаман Хомутов отбыл на пароходе в Тамань — «более потому, что флот неприятельский, казалось, принял направление к Анапе или Новороссийску, вверенным защите генерала Хомутова»38. По особому распоряжению генерала Врангеля в Керчи были закрыты все присутственные места, а документы и дела сложены в бочки и перевезены на пароходы. «Но теперь, — завершал свое письмо о. Иоанн, — по получении известия от главнокомандующего Горчакова, что флот неприятельский возвратился в Севастополь, дела возвращены и присутственные места опять открыты»39.
Конечно, тревога, вызванная появлением у керченских берегов неприятельских пароходов, достигла Еникале. О грозившей всем реальной опасности Леонтьев написал в очерке «Сдача Керчи в 1855 году» — уже без оглядки, по прошествии времени, на материнское спокойствие: «Не помню, какого числа апреля, явился внезапно перед входом в керченскую бухту и в пролив союзный флот. У нас в Еникале поднялась тревога. Что делали другие, не помню; помню только о том, что касалось ближе моего дела. По распоряжению начальства, был прислан в нашу крепость командир одного военного корабля, чтобы немедленно, пока неприятель еще не ворвался в бухту и пролив, перевезти как можно больше больных из Еникале через пролив в Тамань. Командир, плотный, плечистый моряк, ходил по палатам с нашим главным доктором В. Г. С., а я как дежурный — за ними. Главный доктор выбирал и назначал, которых больных можно перевозить; он очень был сердит и все бранился. Я изредка делал при этом свои замечания; моряк считал, сколько будет народу. Больше ничего почти не помню. Помню, что ночь была довольно светла и тепла; что беготни и хлопот было много, но испуга ни малейшего; все, кроме главного доктора, который чем-то расстроился, были очень веселы и бодры. И только. Тревога наша на этот раз была напрасна; союзный флот постоял и ушел. Помню, что в газетах, которые как-то в одну из моих редких поездок в “цивилизованную” Керчь я читал, над союзниками много по этому поводу смеялись. “Пришли, постояли и ушли!”» (61, 627‒628).
К началу мая горожане привыкли к дежурившим против Керчи неприятельским пароходам — трем или четырем; ожидали прибытие в Керчь более сорока построенных в Ростове канонерских лодок для защиты Керченского пролива со стороны Черного моря40. В унисон этому затишью начало письма Леонтьева от 3 мая: «Я только что совершил лодочную прогулку в компании нового товарища — пруссака, доктора медицины. — <…> хорошая погода, вечерняя прохлада и удовлетворительное состояние, в котором я застал моих больных сегодня утром, взбодрили меня, и я много смеялся и болтал. — Такова самая последняя из моих новостей. — Дни стоят такие же жаркие, как русские дни в середине июля. — Ночи теплые, и я очень доволен климатом» (111, 78). Это письмо — последнее, отправленное Леонтьевым до взятия Керчи неприятелем. Далее в письме о желании «перейти в один из полков, стоящих в окрестностях Керчи, в Арабате, в Феодосии» в общем в этой части армии, которой командует Врангель» (111, 78), о встрече по этому поводу с самим Врангелем; о том, что «старому генералу понравились мои ответы, когда неделю назад он посетил наш госпиталь и задавал мне вопросы по поводу больных» (111, 79); о предполагаемом назначении врачом в казачий полк в Арабате.
Позднее, вспоминая об этих событиях, Леонтьев писал: «Наступил май. Все шло по-прежнему, правильно и тихо. Одиннадцатого мая поутру меня позвали в канцелярию и показали бумагу, по которой я должен был собираться в путь. Генерал Врангель не забыл своего обещания и прикомандировал меня к Донскому Казачьему № 4541 полку» (61, 628). Самого Врангеля описал так: «Генерал Врангель был рослый, плотный и даже довольно толстый мужчина, белокурый с небольшой проседью, с приятным и спокойным немецким лицом. Он мне понравился еще прежде, когда приезжал в Еникале осматривать нашу крепость, наши пушки и наши больничные порядки, и мы все в мундирах и на вытяжку встречали и провожали его» (61, 627).
Последний день перед оккупацией Керчи коалиционными войсками Леонтьев провел в «спокойной и мечтательной лени, которая так приятна после нескольких месяцев однообразной и трудовой жизни. Здесь обязанности кончились; там еще не начались… Да и какие еще там, в степи, будут обязанности до тех пор, пока не грянут выстрелы? Быть может, никаких. А весна так хороша! И небо, и море, и степь так теперь веселы и ясны! И я буду там, с казаками, на коне!» (61, 629).
13 мая 1855 г. по городкам и местечкам Крыма разлетелось известие о занятии Керчи неприятелем и вторжении его через Керченский пролив в Азовское море. В этот день Леонтьев отправил Федосье Петровне «только записку» — «очень маленькая и очень нечетко написанная записочка на самой простой и даже оборванной бумаге» (61, 675) — чтобы она была спокойна на его счет: «Я совершенно цел и невредим. — Нахожусь на бивуаках в Аргине, с казаками, к которым я прикомандирован; здесь собран весь Керченский отряд» (111, 81). Обстоятельства своего отъезда из Керчи, где он оказался одновременно с неприятельским десантом, Леонтьев подробно описал в очерке «Сдача Керчи в 55 году». По прошествии трех десятилетий может быть и сгладилась документальная точность бытовых деталей, но не потускнела эмоциональная яркость общей панорамы: «Для меня этот день военной неудачи нашей был одним из самых веселых дней моей жизни. Мне было тогда 23 года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не только искал, но и находил ее! Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергичной борьбы, и поэтической лени» (61, 621).
Из Феодосии тем временем прот. Феодот Пенчул сообщил архиеп. Иннокентию дошедшие до него подробности. Письмо от 14 мая: «Вчера получено у нас печальное известие о взятии неприятелем Керчи и о вторжении его чрез Керченский пролив в Азовское море. Мы ожидали, что сие страшное событие совершится сперва в Феодосии. 11 числа в 9 часов утра явился в нашей бухте неприятельский пароход, потом чрез час еще два парохода, и один из них, отделяясь, измерял северный берег бухты с 12 часов до 4 пополудни. В течение сего времени пароходы более и более начали показываться, так что в 6 часов вечера уже стояло их на нашем рейде 13, а за мысом боле 20 вимпелов. Весь почти берег усеян был народом, ожидая с трепетом высадку неприятелей. Но в 10 часов ночи пароходы один за другим ушли по направлению к Керчи. Офицер, присланный от генерал-майора Вагнера с печальным известием к феодосийскому коменданту, передал на словах, что 12 числа в 3 часа утра неприятельский флот остановился в Камыш-Буруне, в 10 верстах от Керчи. А потом целое утро, до 12 часов началась высадка. Пополудни двинулись их колонны и в 4 часа заняли Керчь без боя. Нашего войска в Керчи и в окрестностях всего только было 2000, а неприятелей 25 тыс., и потому отрядный генерал Врангель вынужденным остался отступить и присоединиться к отряду Вагнера, у которого в команде не более 4 тыс. Ожидают две дивизии из Севастополя к ним на помощь. И теперь в наших местах откроется кровопролитие. Кажется, и наша Феодосия не устоит, если Господь, до сего времени хранивший ее, допустит. Сказывают, что шесть пароходов неприятельских, ворвавшись в Керченский пролив, тотчас взорвали один наш пароход, а другой Аргонавт взяли на буксир, в котором сложены были все дела керченских присутственных мест и хранилась казенная сумма. Этим пароходом командовал сын вице-адмирала Сребрякова. Жаль, что войска, ожидаемые из Севастополя на помощь Врангелю, не успеют прийти вовремя, дабы попрепятствовать неприятелю укрепиться в Керчи»42.
Известный труд М. И. Богдановича «Восточная война 1853‒1856 годов» дает возможность уточнить отдельные сведения протоиерея Пенчула. В главе XXX «Экспедиция союзников в восточную часть Крыма»43 сообщено, что как только пришло донесение с береговых постов о появлении неприятельского флота близ Теклинского маяка, генерал-лейтенант Врангель распорядился сосредоточить близ Камыш-Буруна основные силы — 9 рот в числе около 1900 человек с 4 орудиями — и перевел от Аргина к Султановке гусарский полк в числе 1825 человек с 8 орудиями. Однако значительное превосходство сил противника вынудило Врангеля отдать приказ об уничтожении, в крайнем случае, береговых батарей, судов и хлебных запасов. Пароходы «Бердянск», «Донец» и шхуна «Аргонавт» были назначены для эвакуации казенного имущества. Когда неприятельский десант занял высоты у селения Амбелаки, нацелившись с суши на Павловскую батарею, командир Керченского отряда полковник Карташевский объявил отступление на большую Феодосийскую дорогу. Генерал Врангель отдал приказ пароходам покинуть Керченскую гавань и идти в Азовское море. Это удалось сделать паровой шхуне «Аргонавт» и пароходу «Боец». За ними из Керченской гавани вышел пароход «Бердянск»; именно на нем, по сведениям Богдановича, вывозились из города архивные дела и денежный запас различных ведомств. Вдогонку «Бердянску» ринулись четыре неприятельских парохода. Когда в результате неудачного маневра «Бердянск» сел на мель, командир лейтенант Свешников, отправив команду на берег, взорвал корабль. Также взорваны были в Керченской гавани пароходы «Могучий» и «Донец», а в Керчи и Еникале сожжены казенные магазины и склады с провиантом. Не нашлось подвод, чтобы вывезти из Еникале сто тяжелораненых нижних чинов, о судьбе которых генерал-лейтенант Врангель обратился с письмом к английскому генералу Дж. Броуну. Не получив ответа, Врангель послал в Еникале подводы, и раненых отпустили.
Сведения Богдановича дополняют и отчасти проясняют то, что записал по слухам в своем мемуарном очерке Леонтьев: «Ени-Кале с пролива бомбардировали; стреляли и наши; <…> некоторые из больных вышли и даже выползли из больничных палат, чтобы не быть случайно погребенными под развалинами строений, и старались уйти и ползком уползти к верхней части крепости, на гору и в степь. Там было выше, дальше, безопаснее. Не все были в силах это сделать, и Бутлер многих унес туда на своей спине под выстрелами. <…> Когда наши военные власти удалились из Ени-Кале, взорвавши пороховой склад, Бутлера оставили при больных, и он пробыл вместе с этими больными в плену до середины лета <…> Куда делись все остальные больные и севастопольские раненые, не знаю. Их, однако, было у нас в палатах много в день моего отъезда из Ени-Кале. Слышал я, что многие во время бомбардирования разошлись (и даже, как я говорил, расползлись) по хуторам и именьям в окрестностях Керчи» (61, 677‒678).
Несгибаемая вера в победу русского духа и после сдачи Керчи не оставляла корреспондентов архиеп. Иннокентия. 19 мая прот. Арсений Лебединцев писал из Севастополя: «Слух о занятии неприятелями Керчи произвел у нас тревожное впечатление. Впрочем, уныния ни в чем не заметно. Напротив, и это объясняют каким-то особым соображением нашего Главнокомандующего. Говорят, что для нас выгоднее привлечь на Крым все силы враждующего Запада, чем вести с ним войну на западной нашей границе»44. В следующем письме, от 24 мая, Лебединцев еще раз подчеркнул свою мысль: «Несмотря на занятие неприятелями Керчи и их плавание по Азовскому морю, у нас существует уверенность, что дела наши еще не в худом положении, и скоро примут прекрасный оборот»45. Завершая свой мемуарный очерк «Сдача Керчи в 1855 году» Леонтьев дал свое объяснение такому духоподъемному состоянию: «Зачем мне идеализировать жизнь! Она и так хороша, со всей сменой невзгод и радостей своих; она хороша, когда в нашей собственной груди горит неугасимо какой бы то ни было высший идеал. Когда он горит в душе неугасимо, этот идеал патриотизма, человечности и даже личной, молодой жажды сильных ощущений, тогда хорошо и в трудах больницы, и на коне в степи» (61, 695).
Сдача Керчи с каждым часом обрастала всевозможными слухами. Из Успенского скита игумен Иоанн писал архиеп. Иннокентию 25 мая, признаваясь, что очень мало имеет достоверных сведений о военных действиях: «О Керчи одни говорят, что по занятии ее неприятелем пошла работа укрепления с сухопутной стороны; другие говорят, что генерал Хомутов из Новороссийска с 15 тыс. морем нагрянул, разбил неприятеля так, что трупами завален город; греков, подносивших хлеб и соль, как равно и мулу, приветствовавшего речью неприятеля, велел будто бы изрубить. Город сожжен, и много жителей погорело и побито»46.
Из Перекопа архиеп. Иннокентий получил от благочинного прот. Макария Алексеева письмо, отправленное 19 мая: «Неприятели заняли Керчь и прошли в Азовское море, оттуда — в Бердянск, и даже, говорят, в Ростов, что на Дону, и Таганрог. Неприятельские пароходы от Геническа отстоят в двух верстах, даже уже были разрушительные выстрелы, от которых среди Геническа расположенный пирамидою ярус сухарей взорван и сожжен врагами, лодки наши с провиантом, в устье Азовского моря стоявшие, сожжены нашими же. Везде тревога и бегство, наибольшие же опасения рождаются от ожидаемого возмущения ногайцев»47.
Из Бердянска 20 июня передал услышанное прот. Григорий Брюховский: «Вчера приехавшие в Берестовое какие-то люди распустили слух, будто наши обратно взяли Керчь и Ениколь. В то же время другие привезли известие, что против Петровской стоит 14 пароходов. Таким образом, слухи эти один другим опровергаются. Сейчас еду в Новоспасское (недалеко от Петровской), где можно узнать что-нибудь повернее»48.
В эти же дни Леонтьев писал матери: «Не верьте половине того, что могут рассказывать у вас; даже и здесь было так много ложных слухов, тогда как мы стоим в 40 верстах от Керчи. — Говорили в первые дни, что турки перерезали греков в Еникале, а после оказалось, что греки с утра, когда еще неприятель был у Керчи, оставили город. — Говорили, что в Керчи большой грабеж, и это оказалось вздором; сначала турки закутили было и вместе с татарами стали насиловать женщин и отнимать вещи, но союзники расстреляли несколько человек; жители покинули Керчь, но не все; турок огородили редутами в Еникале и оставили их на произвол судьбы; англичан же и французов нет теперь на берегу» (111, 87‒88).
О быстро распространявшихся слухах Леонтьев пишет и в мемуарном очерке «Сдача Керчи в 1855 году», но, в отличие от письма к матери, в деталях передает известные ему сообщения о бесчинствах и вандализме союзного войска: «Ужаснувший меня в первый день слух о том, что турки высадились в Ени-Кале и режут нещадно — оказался преувеличенным: “избиений” никаких не было, но были беспорядки, были насилия, были частные убийства <…>. Вообще говорили, что французское войско вело себя лучше всех. О буйствах и насилиях французов совсем не было рассказов; об англичанах и в особенности об английских матросах отзывались гораздо хуже. Беспорядки, которые производили англичане, имели даже более так сказать “варварский” характер, чем мусульманские насилия и бесчинства. В английских выходках было больше бессмысленной грубости, больше так называемого “вандализма”, чем в турецких насилиях. В этих последних, судя по всем рассказам, было видно лишь одно разнуздавшееся половое зверство, был какой-то многострастный азиятский трагизм, все это было преступно, но… как бы это сказать? Хотя бы менее бессмысленно и дико, чем поведение англичан… Английские матросы ворвались, например, в керченский музей древностей и все там перебили и переломали, что было только можно перебить и изломать… Они не только грабили (это еще все-таки понятно), они разрушали и портили множество вещей только из одной жажды разрушения. Они без всякой цели вытащили из квартиры полковника Иваницкого хороший рояль, запряглись в него и везли его с криками по мостовой, как экипаж, пока совсем не испортили (61, 678‒679).
Жители Керчи стремились покинуть город; из 12 тысяч осталось не более 2. Эти данные приводит М. И. Богданович, так описывая вступление в Керчь неприятелей: «Генерал д’Отмар был встречен у городской заставы депутацией из татар и евреев, с хлебом и солью, но эта малодушная покорность неприятелю не спасла их от разорения. Как только союзные войска, пройдя Керчь, двинулись к Еникале, (куда прибыли в полночь), город наполнился мародёрами, которые принялись грабить и опустошать дома жителей и казенные строения, не щадя даже госпиталей и керченского музея, где были выломаны мраморные полы и растасканы сохранявшиеся там древние вещи. В особенности же отличались неистовством и жестокостью турки, истреблявшие, по указанию татар, русских жителей города, не щадя ни детей, ни женщин»49.
Из Феодосии прот. Феодот Пенчул писал 18 июня: «По занятии неприятелем Керчи, турки теперь укрепляются к Ениколе и в Камыш-Буруне в 12 верстах от Керчи, а союзники с татарами днем в городе неистовствуют, а ночью отправляются на свои суда. Жаль, что мало войска нашего, и ничего не предпринимают, а можно бы их атаковать. Так, по крайней мере, судят самые военные. И не дали бы врагам так усилиться. Теперь цветущая Керчь представляет из себя груду развалин. Адмиралтейство и другие казенные и общественные здания преданы огню, от которого истреблены и некоторые частные постройки. В прочих места Керченского полуострова пока еще ничего нет. Только малые отряды наших войск в разъездах подходят к Керчи и усмиряют татар. Их довольно переловили. На днях толпу пленных французов и англичан проводили чрез Феодосию. Они показали, что теперь неприятелей находится в Ениколе не более 5 тыс. Ежели справедливо их показание, то нашему отряду можно бы с ними справиться»50.
Оставшиеся в Керчи горожане, в большинстве своем, не имели, куда и на чем бежать. Их защитником стал керченский протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора Иоанн Исидорович Кумпан. О нем и его духовном подвиге архиеп. Иннокентий высоко отозвался в разговоре со своим келейником, сыном о. Иоанна: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник бежит…; вот и твой отец — добрый пастырь; он не убежал, как другие, а остался при храме Божием, как воин на часах. Я просил генерала Хомутова и дальше сообщать о твоем отце. Не тужи! Бог Своего воина побережет, да и мы не оставим его детей, и не забудем его заслуг»51. После подписания мира архиеп. Иннокентий предложил о. Иоанну Кумпану другое, более высокое место служения, на что последовал смиренный ответ: «Меня здесь все сословия уважают и любят; чего мне нужно? Я здесь покоен, знаю одного себя и отвечаю сам за себя, а там отвечай один за всех. Да мимо идет от меня чаша сия, впрочем, не как я, но как Святый Владыка возглаголет»52.
Свидетельства очевидцев керченских событий неожиданно обнаружились в письме прот. Брюховского из Бердянска — от 30 мая: «26 числа, только что я отправил свою почту, в 1-м часу по полудни по улице, на которой я живу, поднялся необыкновенный шум: стук телег, беготня и крик людей… Спрашиваю о причине, и мне говорят, что к берегу подходит пароход. Я пошел на берег. Французский пароход, под белым флагом, стоит уже невдалеке от пристани. Он привез множество нашего народа, остававшегося в Керчи по занятии ее неприятелем. Привезенные рассказывают, что французский начальник сам предлагал им удалиться из Керчи, сказав: “Мы уйдем отсюда и оставим здесь только турок с вашими крымскими татарами. Они будут беспощадно обижать вас: а потому, кто хочет избежать опасности, тот собирай, какие можешь, пожитки и уезжай в Бердянск”. Когда люди стали просить, чтобы перевезли в Ростов, им, говорят, сказано: “В Ростов нельзя; там, может быть, будем иметь дело; а Бердянска мы занимать не станем, и вы там будете покойнее”. Рассказывают, впрочем, что и при французах турки с татарами делали грабежи и разные неистовства. Чтобы удержать их, говорят, будто французы расстреляли шесть турок и троих татар; но это не помогло. В сопровождении и по указанию татар турки ездили верхом на татарских лошадях по хуторам и там грабили и делали, что хотели. По словам приехавших из Керчи, неприятель укрепляется в Еникале. Бог знает, что будет дальше»53.
Эти сообщения керченских жителей глубоко потрясали жителей не только Крыма, но и близлежащих земель. Епископ Одесский, викарий Херсонской епархии Поликарп (Радкевич) писал 14 октября 1855 г. архиеп. Иннокентию, что жестокие поступки неприятеля «в Керчи и других местах сделали Херсонских жителей столь осторожными, что повывезли свои семейства и пожитки, чтобы не потерпеть бесчестия и бедствий, и тем более, что наступает самое тяжкое время — осень, холод и грязь»54.
Любопытный эпизод эвакуации жителей Керчи передал прот. Феодот Пенчул в письме к архиеп. Иннокентию: «Недавно два парохода под переговорным флагом подвозили в нашу бухту пассажиров, керченских жителей, с намерением высадить их в Феодосии. Но когда комендант объявил парламентеру, что пассажиры не иначе могут быть приняты от них, как на условиях, чтобы они выдержали карантин, то командир транспорта отозвался, что пассажиры его на таком условии не соглашаются высадиться, а упросили его отправить их в Константинополь, и с тем ушли. Так как пассажиры на тех судах были большею частью из семейств жидов, армян и других наций, быть может, участвовавших в грабежах по занятии неприятелем Керчи, то вероятно они из опасения быть узнанными в карантине по вещам, награбленным ими, не захотели высадиться в Феодосии на предложенных им условиях»55.
Азовское прибрежье, куда со взятием Керчи коалиция проложила себе путь, представляло житницу русской армии с огромными запасами провианта и фуража. Захватив ее, неприятель рассчитывал лишить крымских защитников продовольствия. Но эта цель не была достигнута: армейских запасов хватило на весь 1855 год. Опустошение азовских городков и селений, как и всех крымских, больнее всего ударило по мирному населению. «Если можно в некоторой степени оправдать подобный образ действий обычным в войне правом — истреблять средства противника, то грабежи, насилия и убийства, совершенные англо-французскими мародерами и союзниками их турками, должны быть отмечены слезами и кровью невинных жертв в истории войны против России, войска которой за сорок лет перед тем, исполняя завет своего монарха, стояли на страже неприкосновенности Парижа»56, — писал М. И. Богданович в своем капитальном труде «Восточная война 1853‒1856 годов». О справедливости этого утверждения свидетельствуют письма очевидцев, в которых обнаруживаются важные подробности, не попадавшие до сих пор на страницы истории Крымской войны.
Список литературы Керчь 1855 г. История в письмах
- Богданович М. И. Восточная война 1853-1856 годов: В 4-х т. М., 2019.
- Киевская старина. 1896. Т. LII. Янв. - март; Т. LIII. Апр. - июнь.
- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. [19 кн.] / Подгот. Текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000-2021.
- РНБ. Ф. 313. Ед. хр. 36, 39, 44.
- Таврические епархиальные ведомости. 1900. 15 дек. № 24.
- Фетисенко О. Л. Война и Юг: К. Н. Леонтьев и его письма времен Крымской кампании // Наше наследие. 2016. № 119. С. 56-61.
- Щербакова М. И. Подвиг русского монашества в Крымской войне 1853-1856 гг. // Междунар. науч. конф. "Духовное и культурное наследие монастырей Русской Православной Церкви. К 500-летию Московского Новодевичьего монастыря": Тезисы докл. М., ИМЛИ РАН. 9-11 октября 2019. Вып. 1. С. 196-198.
- Щербакова М. И. Проповеди Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического, как фактор победы русского духа в Крымской войне 1853-1856 гг. / Литература Древней Руси: Материалы X Всерос. конф. "Древнерусская литература и ее традиции в литературе Нового времени", посв. памяти проф. Н. И. Прокофьева. М., 6-7 декабря 2018 г. М., 2019. С. 360-372.