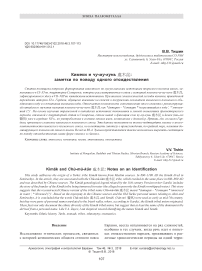Кимеки и чу-му-кунь : заметки по поводу одного отождествления
Автор: Тишин В.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.
Бесплатный доступ
Татья посвящена вопросам формирования известного по мусульманским источникам тюркского племени кимек, занимавшего в IX-XI вв. территории Семиречья, которые рассматриваются в связи с историей племени ч;у-му-кунь 處木昆, зафиксированного здесь в VII-VIII вв. китайскими источниками. При анализе генеалогической легенды кимеков, приведенной персидским автором XI в. Гардизи, обращено внимание на сюжет о погружении основателя кимекского племенного объединения в воду и о почитании кимеками воды. Отмечается возможность сопоставления этого сюжета с реконструкцией китайского звучания названия племени чу-му-кунь 處木昆 как *cumuqun 〜*comuqun *‘погрузившийся в воду ’, *‘утонувший (?)'. На основе изучения отраженной в китайских источниках топонимики и личной ономастики древнетюркского периода, связанной с территорией Алтая и Семиречья, сделан вывод о фиксации слов ч;у-му-кунь 處木昆 и йемек (янь-мо 鹽尊)уже в середине VII в., но употребленных в составе личных имен, несвязанных с долиной р. Иртыш, где, согласно Гардизи, произошло сложение кимекского племенного союза. Эти данные позволяют не только подтвердить мнение о многокомпонентности кимекского племенного союза, но и выдвинуть гипотезу о происхождении, по крайней мере, названия доминирующего племени от личного имени. Вслед за Ю.А. Зуевым представляется также возможным выразить скептицизм по поводу отождествления самих форм «кимек» и «йемек».
Кочевники, этнонимика, ономастика
Короткий адрес: https://sciup.org/145145879
IDR: 145145879 | УДК: 902/904+811.512.1
Текст научной статьи Кимеки и чу-му-кунь : заметки по поводу одного отождествления
Исследование этнических процессов, связанных с историей кочевнических обществ степного пояса
Евразии, всегда наталкивается на ряд сложностей, особенно в тех случаях, когда речь идет о попытках отожде ствления народов, проживавших в различные хронологические периоды на одной терри-
Археология, этнография и антропология Евразии Том 46, № 3, 2018
тории и/или имевших общие этнонимы [Németh, 1991; Akin, 1982].
Л.Н. Гумилев выдвинул гипотезу об отождествлении известного по китайским источникам обитавшего в VII-VIII вв. в Семиречье племени чу-му-кунь ШЖ 昆 1 с известной в более поздние времена по мусульманским источникам племенной группировкой кимек [1993, с. 380–381, прим. 38]. Специалисты-востоковеды отнеслись к этой гипотезе скептически и нашли это отождествление лишенным каких-либо оснований [Кумеков, 1972, с. 32]. Мы не ставим своей задачей изучение истории кимеков , это отдельная большая работа [Кумеков, 1972; Golden, 1992, p. 202–205; 2002]. Считаем необходимым обратиться к рассмотрению некоторых данных, касающихся ранней истории ки-меков . Они могут подтвердить наличие некоторого здравого зерна в гипотезе Л.Н. Гумилева, которая если и может быть заочно отвергнута, то только ввиду отсутствия филологических аргументов.
Чу-му-кунь и йемек: от личных имен к этнонимам
Все прямые сведения о кимеках, которыми ученые располагают в настоящее время, сохранились исключительно в мусульманских источниках. В частности, легенда о происхождении народа, носящего такое имя, приводится у персидского автора XI в. Гардизи: «Происхождение кимаков таково. Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и расположился. Каждый день этот человек и рабыня вдвоем выходили на охоту, питались мясом дичи и делали себе одежду из меха соболей, белок и горностаев. После этого к ним пришли 7 человек из родственников-татар: Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ (?) и Аджлад (?). Эти люди пасли табуны своих господ; в тех местах, где [прежде] были табуны, не осталось пастбищ; ища травы, они пришли в ту сторону, где находился Шад. Увидев их, рабыня вышла и сказала: “Иртыш”, т.е. ‘остановитесь’; отсюда река получила название Иртыш. Узнав ту рабыню, все остановились и разбили шатры. Шад, вернувшись, принес с собой большую добычу с охоты и угостил их; они остались там до зимы. Когда выпал снег, они не могли вернуться назад; травы там было много, и всю зиму они провели там. Когда земля разукрасилась и снег растаял, они послали одного человека в татарский лагерь, чтобы он принес известие о том племени. Тот, при-шедши туда, увидел, что вся местность опустошена и лишена населения: пришел враг, ограбил и перебил весь народ. Остатки племени спустились к этому человеку с гор; он рассказал своим друзьям о положении Шада; все они направились к Иртышу. Прибыв туда, они приветствовали Шада, как своего начальника, и стали оказывать ему почет. Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить [сюда]; собралось 700 человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, они рассеялись по горам и образовали семь племен, по имени названных семи человек. Все эти кимаки отличаются злым нравом, скупостью и негостеприимством. -Шад однажды стоял на берегу Иртыша со своим народом; послышался голос: “Шад? Видел ли ты меня в воде?”. Шад ничего не увидел, кроме волоса, плававшего на поверхности воды; он привязал лошадь, вошел в воду и схватил волос; оказалось, что это была его жена Хатун. Он спросил ее: “Как ты упала?”. Она ответила: “Крокодил схватил меня с берега реки”. (Ки-маки оказывают уважение этой реке, почитают ее, поклоняются ей и говорят: “Река – бог кимаков”. Шаду дали прозвание Тутук, что значит: ‘Он услышал голос, вошел в воду и не испугался’» (цит. по: [Бартольд, 1973, с. 27–28 (перс. текст), 43–44 (рус. перевод)], ср.: [Marquart, 1914, S. 89–91; Martinez, 1982, p. 120–123]).
В последней фразе речь идет, конечно же, о «народной этимологии» [Бартольд, 1973, с. 44, прим. 14; Czeglédy, 1973, p. 259; Зуев, 2004, № 2, с. 18], тем не менее это источник, отражающий такие события, как миграция откуда-то группы племен различного происхождения на Иртыш (этот факт, хотя и в несколько ином аспекте, специально отмечал С.М. Ахинжанов [1995, с. 102, 103, 107, 115, 120]) и образование именно там племенного объединения кимеков . Не вдаваясь в дискуссию о времени и историческом контексте этой миграции (см.: [Golden, 2002]), мы хотим обратить внимание лишь на один момент: когда бы и откуда бы ни пришли в долину Иртыша представители различных племенных группировок, в сложении нового объединения принимало участие и местное население. Поскольку ввиду особенностей механизмов функционирования социальной организации кочевнических обществ все связанные с их историей этнические процессы представляются гораздо более сложными, чем у оседлых обществ [Németh, 1991, о. 38–44; Akin, 1982, s. 2-3], какие-либо попытки поставить знак равенства между народами, обитавшими на одной территории, но в разные исторические периоды, не имеют основания.
Установлено, что местом расселения племени чу-му-кунь была долина р. Эмель, в районе р. Чугучак [Chavannes, 1903, p. 34, note 3; p. 73, note 2; p. 270, note 1; Малявкин, 1989, с. 38, 163, коммент. 232]. При этом «Синь Тан шу» и «Цэ-фу юань гуй» упоминают под 656 г. чумукуньский «город Янь 咽 » ( янь-чэн 咽 城 ), который был, видимо, центром владений племени [Chavannes, 1903, p. 267, 270, note 2; p. 294, 307]; ср.: [Зуев, 1962, с. 119]2. Вместе с тем, если связывать этот центр с территорией созданного в 702 г. округа ( чжоу 州 ) Янь-мянь 咽麫 , которая, по-видимому, совпадала с территорией образованного в 657 г. наместничества ( ду-ду-фу 都督府 ) Фу-янь 匐延 [Chavannes, 1903, p. 281, note 2; Зуев, 1962, с. 120, прим. 83; Ма-лявкин, 1981, с. 188–189, коммент. 286; 1989, с. 38, 163, коммент. 232]3, то можно предположить: янь-мянь , пиньин. yàn-miàn < ран. ср.-кит. * ʔɛnh-mjianh , позд. ср.-кит. * ʔjianˊ-mjianˋ [Pulleyblank, 1991, p. 358, 214], ср.-кит. *ʔiän-mjiän [Schuessler, 2009, p. 319 (32–9h = K. 370), 250 (23–31a = K. 223)], < * emän , что сопоставимо с названием р. Эмель ([Chavannes, 1903, p. 270, note 1; Малявкин, 1989, с. 38, 163, коммент. 232] ср.: [Зуев, 1962, с. 120–121]). Данная река сегодня впадает в оз. Алаколь, которое вместе с прилежащими озерами Уялы и Сасыколь по крайней мере в начале II тыс. н.э., вероятно, составляло одно большое озеро (Гаган غاغان у ал-Идриси) в центральной части семиреченских владений кимеков [Куме-ков, 1972, с. 70–74, 75].
Исследователи, рассматривая приведенный Гарди-зи фрагмент, не раз обращали внимание на сообщение об особом статусе воды у кимеков [Ögel, 1995, s. 326; Зуев, 2002, с. 128–129; 2004, № 2, с. 9–10]. Упоминание воды в таком контексте вызывает интерес в связи с возможностью реконструкции оригинального звучания племенного названия чу-му-кунь , пиньин. chù-mù-kūn < ран. ср.-кит. * tɕhɨə̆’-məwk-kwən , позд. ср.-кит. * tʂhiə̆ˋ / tʂhyə̆ˋ-məwk-kun [Pulleyblank, 1991, p. 60, 220, 282], ср.-кит. *tśhjwo-muk-kwən [Schuessler, 2009, p. 49 (1–18a = K. 85), 161 (11–24ae = K. 1212), 333 (34–1a = = K. 417)], < * čumuqun . Вероятной видится следующая этимология: * čumuqun ~ * čomuqun *‘погрузив-шийся в воду’, *‘утонувший (?)’ < čom-uq - ‘тонуть’
(медиальн.) (см.: [Erdal, 1991, vol. II, p. 646]), < čom -‘to sink in (water, etc. Loc. )’ [Clauson, 1972, p. 422] + - (X)k - + - Xn . При этом теоретически допустимо представить эту форму как первичную, если предположить лабиализацию широкого гласного под влиянием соседнего носового согласного /m/: * čam - > čom - [Erdal, 1991, vol. I, p. 391]. Гипотеза о наличии здесь слова çomuk (диал. çumak ) > comuk [Zeki Velidi Togan, 1946, s. 51, 428, dipnot 182, 183] оставляет без объяснения присутствие третьего слога. Сравним также варианты реконструкции, предложенные Ю.А. Зуевым: < * ṭṣ iwo-muk-kuen < ? чумул-кун [1962, с. 119], чумук-кун [1967, с. 18; 1981, с. 66]. Дискуссионными являются попытки связать этот этноним с группой слов (личные имена, топонимы, этнонимы, социальные термины), содержащих широкий гласный в первом слоге, в частности, арабографич. جموك [ ǧmwk ] ǧamūk (см.: [Исхаков, Камолиддин, Бабаяров, 2009, с. 8–10; Бабаяров, Кубатин, 2010, с. 16; Отахўжаев, 2010, б. 65–67]). Так, ат-Табари упоминает присутствовавших на похоронах убитого в 119 г. х./737 г. н.э. тюркского кагана «людей из дома ал-дж.мӯк » بيت الجموكيين اهل [ ’hl byt ’l-ǧmwkyyn ]4. Так или иначе имеется возможность объяснить изменение формы этнонима его переосмыслением, поскольку предполагаемый вариант * čamoq ~ * čamuq может быть интерпретирован как производное от того же глагола * čam - имя при помощи соответствующего аффикса - (O)k [Erdal, 1991, vol. I, p. 224–261], что, в свою очередь, допускает дальнейшее образование формы * čomuq . При этом данное абстрактное отглагольное имя в сущности синонимично форме * čumuqun ~ * čomuqun .
В 649, 651, 739 и 740 гг. предводитель данного племени именуется Чу-му-кунь [Цюй] люй-чжо 處木昆 [ 屈 ] 律啜 [Chavannes, 1903, p. 34, 60, 65, note 4, p. 84, 270; Ta^agil, 1999, s. 71,96; Малявкин, 1989, с. 39,168, коммент. 248], т.е. * külüg čor (см.: [Hamilton, 1955, p. 96, note 8]). Такая реконструкция в прочтении этого титула (вместо написанного Чу-му-кунь люй-чжо 處 木昆律啜 ) позволяет отклонить предложенное Э. Ша-ванном [Chavannes, 1903, p. 285–286, note 3; Beckwith, 1987, p. 118, note 60] сопоставление с предводителем чу-му-кунь упомянутого ат-Табари тюргешско-го (с нисбой ат-Туркаши الترقشى [ ’l-trqšy ]) полководца по имени Курсул كورصول [ kwrṣw l ], который убил в ссоре кагана (119 г. х./737 г. н.э.). Более удачным представляется сопоставление с известным по китайским источникам тюргешским племенным предводителем Мо-хэ да-гань 莫賀達干 (< * baγa tarqan ), убившим кагана Су-лу 蘇錄 (738 г.) [Marquart, 1898a, S. 38–39, Anm. 1; 1898b, S. 181–182] (пиньин. sū-lù < ран.
ср.-кит. *sɔ-ləwk, позд. ср.-кит. *suə̆-ləwk [Pulleyblank, 1991, p. 294, 201], ср.-кит. *suo-ljwok [Schuessler, 2009, p. 52 (1–31с = K. 67), 159 (11–15klm- = K. 1208)], < *suluq (ср.: [Hirth, 1899, S. 77; Кляшторный, 1986, с. 166, 169], ср. с гласными палатального ряда: [Зуев, 1998, с. 66])). Если учитывать наследственный характер передачи титулов, что позволяет предположить, например, найденная в 2004 г. в Китае эпитафия некоей «госпожи из рода А-ши-на 阿史那» (фу-жэнь а-ши-на син 夫人阿史那氏), дочери наместника (ду-ду 都督) Шуан-хэ 双河 по имени Шэ-шэ-ти Тунь чжо 慴舍提噋 啜 (*Ton čor из племени шэ-шэ-ти 慴舍提5; ср. написание шэ-шэ-ти 摄舍提)6, которая вышла замуж за одного из танских высокопоставленных командиров7, то, скорее всего, этот полководец принадлежал к племени ху-лу-у 胡禄屋, чей предводитель, упомянутый под 651 г., именовался Ху-лу-у цюэ-чжо 胡祿屋闕啜 (< *uluγ oq kül čor) [Marquart, 1898b, S. 182; Chavannes, 1903, p. 34; Maлявкин, 1989, с. 39, 166, коммент. 245; Tajagil, 1999, s. 96].
Любопытно, что под 649 г. среди сдавшихся вождей племен ( циу-чжан 酋长 ), сподвижников кагана Чэ-би 車鼻 (< * čavïš ) (см.: [Ecsedy, 1980, p. 27; Kasai Yukio, 2012, S. 89]), который обосновался прежде на северных склонах Монгольского Алтая (см.: [Зуев, 2004, № 2, с. 11–12]), в китайских текстах упомянут Ба-сай-фу Чу-му-кунь Мо-хэ-до сы-цзинь 拔塞匐處木 昆莫賀咄俟斤 (в «Синь Тан шу» – Чу-му-кунь Мо-хэ-до сы-цзинь 處木昆莫賀咄俟斤 ) [Бичурин, 1950, т. I, с. 263; Liu Mau-tsai, 1958, B. I, S. 155, 208; B. II, S. 585, Anm. 804, S. 646, Anm. 1139; Tajagil, 1999, s. 40, 90], где ба-сай 拔塞 является несомненной транскрипцией слова bars (см., напр.: [Harmatta, 1972, p. 270; Ма-лявкин, 1989, с. 39, 169, коммент. 251]), фу 匐 – тюркского слова bäg ([Hirth, 1899, S. 107; Hamilton, 1955, p. 148–149]; см. также: [Harmatta, 1972, p. 270; Маляв-кин, 1989, с. 41, 169, коммент. 251]) (ср. личное имя bars bäg [Древнетюркский словарь, 1969, с. 84]), мо-хэ-до 莫賀咄 – baγatur [Chavannes, 1903, p. 83–84, 90, 346], а сы-цзинь 俟斤 – титул irkin [Hirth, 1899, S. 103, 109, 111–112; Pelliot, 1929, p. 227–228; Hamilton, 1955, p. 98, note 1; Kasai Yukio, 2012, S. 90]8. Отмеченное позволяет рассматривать здесь слово чу-му-кунь исключительно как элемент личного имени, поэтому есть все основания считать, что оно, выступая когда-то как имя некоего предводителя, легло в основу названия подвластной ему группировки. Это достаточно известное явление у кочевников евразийских степей [Németh, 1991, о. 58–65].
В данном аспекте, а также в связи с историей ки-меков замечателен еще один момент. В «Тун дянь» при перечислении народов, обитавших на территории к северу от Алт ая, упоминается сочетание янь-мо нянь до-лу цюэ сы-цзинь 鹽漠念咄陸闕俟斤 ([Зуев, 1962, с. 105–106; ср.: Кюнер, 1961, с. 54]). В нем последние три иероглифа (цюэ сы-цзинь) обозначают, безусловно, титул *kül irkin (см., напр.: [Зуев, 1962, с. 118]); четвертый и пятый, т.е. до-лу, как и все другие формы этого сочетания, использовавшегося в названии одной из племенных конфе- на землях племени шэ-шэ-ти в 658 г. [Малявкин, 1989, с. 38, 238, коммент. 164]. Видимо, следует согласиться с мнением Го Мао-юй и Чжао Чжэнь-хуа о том, что речь идет о представителях линии вождей одного рода.
дераций западных тюрков, в целом позволяют восстанавливать здесь звучание * tölük (см.: [Golden, 2012, p. 167]) либо * türük (ср.: [Кляшторный, 1986, с. 169]); третий иероглиф нянь , пиньин. niàn < ран. ср.-кит. * nɛmh , позд. ср.-кит. * niamˋ [Pulleyblank, 1991, p. 225], ср.-кит. * niem [Schuessler, 2009, p. 365 (38–24a = K. 670)], что, как отметил Ю.А. Зуев [2004, № 2, с. 3], соблазнительно сопоставить с согд. nām [ n’m ] ‘name’ [Gharib, 1995, p. 232]; первый и второй, т.е. янь-мо , пиньин. yán-mò < ран. ср.-кит., позд. ср.-кит. * jiam-mak [Pulleyblank, 1991, p. 357, 218], ср.-кит. * jiäm-mâk [Schuessler, 2009, p. 347 (36–5n = K. 609), 74 (2–40ad = K. 802)], < * jemäk [Зуев, 1962, с. 118]. Со значительной долей уверенности можно предполагать, что реконструируемое * jemäk nam tölük (/ türük ) kül erkin , явно изначально обозначавшее личное имя, маркирует в китайском тексте определенную подвластную неко ему предводителю группировку. Здесь слово * jemäk может выступать в качестве элемента собственно личного имени этого предводителя и быть названием племенной группировки, из которой он происходил. Первый вариант предпочтительнее, если интерпретация второго элемента в реконструированном сочетании как согдийской лексемы верна, то * jemäk nam буквально может быть истолковано как ‘но сящий имя йе-мек ’ [Зуев, 2004, № 2, с. 3]. Первое предположение видится более логичным, если учитывать, что далее в источнике сочетание янь-мо (< * jemäk ) упоминается самостоятельно.
Так или иначе слово йемек , которое в китайских источниках встречается по крайней мере с середины VII в. [Кюнер, 1961, с. 55], заставляет вновь обратиться к получившей распространение в науке гипотезе о его рассмотрении как вторичной формы слова ки-мек . Первое достоверно и самостоятельно фиксируется в арабографичных памятниках со второй половины XI в. в форме ايماك [ ’ymāk ] как название одного из основных племен объединения, именуемого كيماك [ kymāk ] (в некоторых местах كيمياك [ kymyāk ]) у Гарди-зи и в форме يماك [ ymāk ] как название всего этого объединения у Махмуда ал-Кашгари, который не знал никаких кимеков (см.: [Зуев, 1962, с. 121–122; Куме-ков, 1972, с. 39–41; Golden, 1992, p. 202; 2002]). Различия в написании можно убедительно объяснить, исходя из законов тюркской фонетики: * īmak < * jemäk ~ * jimäk , что адекватно увязывается с данными VII в.
По мнению К. Цегледи, повествование Гардизи о кимеках, как и рассказы о прочих тюркских племенных группировках, может относиться к событиям, имевшим место в промежутке 745–766 гг. [Czeglédy, 1973, p. 263–267]. Следует отметить, что «тюркские сюжеты» венгерский исследователь датировал на основе лишь сведений о племенах карлук и йагма, тем не менее предложенная им дата в целом, насколько можно судить по работе П.Б. Лурье, подтверждается косвенными данными [Lurje, 2007, p. 189–190].
Абу Саид Гардизи, совершенно не владевший, как было доказано К. Цегледи, тюркскими языками, заимствовал сведения о тюрках из не дошедшего до нас сочинения «Китаб руб ад-дунйа» («Книга об обитаемой четверти мира») автора по имени Абу Амр Абдаллах ибн ал-Мукаффа (720 – ок. 757 гг.) [Czeglédy, 1973, p. 259, 260–261, 263]. Более убедительной представляется точка зрения П.Б. Лурье: эти сведения могли быть взяты Гардизи из другого упоминаемого им источника – из несохранившегося до нашего времени труда Абу Абд Аллаха ал-Джайхани (первая половина X в.), который служил вазиром при дворе Саманидов, «Китаб ал-масалик ва ал-мамалик» («Книга путей и государств») [Lurje, 2007, p. 189–190].
Название кимек достоверно фиксируется в наиболее распространенной форме كيماك [ kymаk ] с IX в., хотя, возможно, оно было известно уже во второй половине VIII в. [Кумеков, 1972, с. 11–13, 36, 56]. Последняя дата относится к списку тюркских племен, который приведен в сочинении «Китаб ал-масалик ва ал-мамалик» («Книга путей и государств») Ибн Хурдадб̣ иха (80-е гг. IX в.), служившем одним из источников для Гардизи.
Заключение
Проведенный анализ позволяет заключить, что высказанная Л.Н. Гумилевым гипотеза об отожде ст-влении семиреченского племени чу-му-кунь с киме-ками, основанная только на данных о совпадении их территорий обитания, может найти дополнительное, хотя и косвенное подтверждение в реконструкции китайского звучания названия семиреченского племени чу-му-кунь как * čumuqun ~ * čomuqun со значением *‘погрузившийся в воду’, *‘утонувший (?)’, которое перекликается с приведенным у персидского автора XI в. Гардизи сюжетом о почитании воды у киме-ков . Сложение племенного союза кимеков , согласно Гардизи, произошло именно в долине Иртыша, куда прибыли представители различных племенных группировок, основной из которых была группировка йе-мек . Ее название фиксируется китайскими источниками в форме янь-мо уже в середине VII в. Изначально это название было упомянуто как личное имя некоего предводителя.
Не касаясь вопросов хода миграционных процессов, связанных с формированием новой племенной общности, и их датировки, подчеркнем, что сам этот процесс был сложным – в нем принимало участие как местное, так и пришлое население.
Следует также обратить внимание на высказанные Ю.А. Зуевым, вопреки мнению большинства исследователей, сомнения по поводу невозможности отождествления названий йемек и кимек как форм одного слова. Отождествление этих двух форм в соотношении *jimäk < *kimäk специалистами допускается на основе отмеченной филологами для некоторых среднекыпчакских диалектов редукции инициального *k- > 0, которая для древнетюркского периода не зарегистрирована. Это обстоятельство в совокупности с косвенными данными о существовании обеих форм (для VII и VIII–IX вв. соответственно) заставляет задуматься о поиске какого-то иного объяснения для созвучия в употребляемых по отношению к одной племенной группировке названий.
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-31-01029а2).
Список литературы Кимеки и чу-му-кунь : заметки по поводу одного отождествления
- Ахинжанов С. М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. - Изд. испр. - Алматы: Еылым, 1995. - 296 с.
- Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о династических связях Чача и Бухары в эпоху раннего средневековья (на основе нумизматического материала) // Древние цивилизации на Среднем Востоке. Археология, история, культура: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Г.В. Шишкиной / науч. ред. С.Б. Болелов. - М.: Гос. музей Востока, 2010. - С. 14-16.
- Бартольд В.В. . Приложение к "Отчету о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893-1894 гг" // Соч.: в 9 т. - М.: Наука, 1973. - Т. VIII: Работы по источниковедению. -С. 23-62.
- Бичурин Н.Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена / ред. текста, вступ. ст., коммент. А.Н. Бернштама, Н.В. Кюнера. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Т. I. - LXXXVI, 384 с.; Т. II. -334 с.
- Го Мао-юй, Чжао Чжэнь-хуа. Исследование «Танской эпитафии супруги Чжан Си госпожи из рода А-ши-на» и «варварско»-китайских брачных контактов // Си-юй янь-цзю. - 2006. - Вып. 2. - С. 90-94 (на кит. яз.).