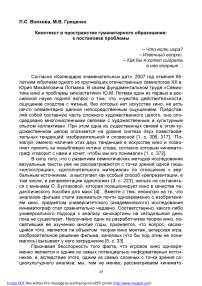Кинотекст в пространстве гуманитарного образования: к постановке проблемы
Автор: Волкова П.С., Гриценко М.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Проблемы образования
Статья в выпуске: 3, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932571
IDR: 14932571
Текст статьи Кинотекст в пространстве гуманитарного образования: к постановке проблемы
В силу того, что с развитием семиотических методов исследования визуальные тексты уже не рассматриваются с точки зрения одной лишь «иллюстрации», «дополнительного материала» по отношению к вербальным источникам, а выступает как особый способ «репрезентации, в том числе, и репрезентации идеологии» [3, с. 223], нельзя не согласиться с мнением О. Булгаковой, которая позиционирует кино в качестве педагогического пособия для масс [4]. Вместе с тем, несмотря на то, что анализом фильма стали заниматься почти одновременно с изобретением кино, предметом университетского (академического) исследования кинематограф стал сравнительно недавно. Соответственно, какого-либо универсального подхода к анализу кинокартины на сегодняшний день пока не существует. Неслучайно один из разработчиков теории кино, посвятивший ее изучению многие годы, признается, что вопрос, касающийся того, является ли объектом теории кино монтаж, актерская игра, изобразительное решение фильма, киноязык (что бы под этим не понималось) вызывает у него затруднение [5, с. 33].
Признавая бесспорность того факта, что игровое кино одновременно является и одним из самых потенциально информативных источников, и, вследствие этого, одним из самых сложных с точки зрения социокультурного анализа, мы, тем не менее, рассматриваем кинемато- граф в качестве уникального наглядного материала для занятий по предметам «Философия» (имеется в виду тот тематический блок, который раскрывает идеи герменевтики и структурализма) и «Семиотика», в первую очередь, семиотика кино. В обозначенном контексте кинофильм рассматривается в качестве предмета речи участников диалогического общения, посредством которого можно актуализировать процесс мыс-ледеятельности субъектов образования. При этом главное – помнить: «то, что присутствует в тесте (фильме) постоянно, имплицитно полагает вопрос об отсутствующих элементах». Как пишет Э. Усманова, именно «игра присутствия и отсутствия является одним из наиболее интересных компонентов» в процессе анализа фильма [6, с. 202]. Другими словами, помимо денотативного значения, в котором актуализируются концепты повседневного сознания, в фильме присутствует и коннотативное значение, которое трансформирует посыл денотативного значения в единицу культурного дискурса. В качестве примера, отвечающего на вопрос, каким образом происходит перевод одного в другое, остановимся на социокультурном анализе фильма Д. Финчера «Игра» [7].
Для начала постараемся разобраться с этимологией самого слова «игра». Поскольку в оригинале фильм называется «The Gaime», обратимся прежде к англо-русскому словарю, согласно которому «game» – не просто «игра», но и «шутка», «забава», «розыгрыш», причем, последнее значение лексемы «игра» несет в себе отчасти негативный оттенок. В словаре В.И. Даля помимо привычных, знакомых каждому значений интересующей нас лексемы (шутить, тешиться, веселиться, забавляться, проводить время потехой, заниматься чем-либо для забавы) слова с негативным смыслом также присутствуют: «забавляться чем-либо от скуки, от безделья»; «игра природы – уклоненье ее, в произведениях своих, от обычного, общего; уродливость и выродок…». Помимо этого, обращает на себя внимание и трактовка производного от понятия «игра» слова «игрец»: «актер, лицедей, шут, потешник напоказ, скоморох.., нечистый или злой дух, шайтан» [8, с. 289]. Последнее для нас тем более примечательно, что возвещающим начало игры знаком в фильме Д. Финчера становится клоун. До его появления в кадре режиссер знакомит нас с детскими воспоминаниями главного героя.
Мы видим маленького мальчика, отпускающего самодельный кораблик в реку: это и есть начало игры или иначе – начало большого плавания под названием жизнь. С каждым годом темп этой игры ускоряется, и вот два брата, некогда жившие вместе, оказываются совершенно разными людьми. Старший, Николас Ван Ортон, так «заигрался», что не заметил, как развелся с женой, потерял своих друзей и даже забыл про собственный день рождения. Единственное, что не отпускает главного героя – это воспоминание о гибели отца, покончившего жизнь самоубийством, точнее, не столько воспоминание, сколько обида. И только благодаря младшему брату Конраду герой освобождается от этого гнетущего чувства. Дело в том, что, будучи вовлеченным в игру, которая вдруг оборачивается реальностью, причем, без каких бы то ни было правил, и в которой ставкой становится сама жизнь, Николас проходит путь загнанного в угол человека, для которого смерть становится реальным освобождением от неразрешимых проблем. Только сделав самостоятельный выбор в пользу смерти, герой начинает по-настоящему понимать своего отца и с этим пониманием приходит сочувствие и прощение. Не случайно один из персонажей фильма цитирует библейский стих: «Был я слеп, Господи. А теперь я вижу (Иоанн. Глава 9. Стих 25).
В то же время, и сам кинотекст являет собой некий ребус, загадку. Чтобы подобрать нужный ключ, каждый из зрителей сам определяет для себя правила игры. Кто-то в центр интеллектуального лабиринта помещает мысль, согласно которой «весь мир театр, а люди в нем актеры», кто-то ищет сходство между игрушкой-клоуном и главным героем, а кто-то - уже после знакомства с фильмом - начинает мысленно проигрывать свою собственную жизнь, чтобы разобраться в том, где он пошел против правил. При этом каждый из «игроков» волен выбирать свой путь в этом движении навстречу истине, ибо понять, в чем смысл игры -это и есть цель игры!