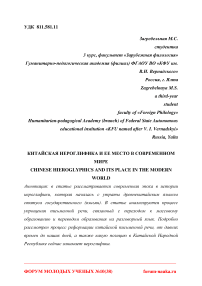Китайская иероглифика и ее место в современном мире
Автор: Загребельная М.С.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 10 (38), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается современная эпоха в истории иероглифики, которая началась с утраты древнекитайским языком статуса государственного (вэньян). В статье анализируется процесс упрощения письменной речи, связанный с переходом к массовому образованию и переводом образования на разговорный язык. Подробно рассмотрен процесс реформации китайской письменной речи, от давних времен до наших дней, а также какую позицию в Китайской Народной Республике сейчас занимает иероглифика.
Иероглифика, кнр, вэньян, путунхуа, пиньинь, полные иероглифы, упрощенные иероглифы
Короткий адрес: https://sciup.org/140285136
IDR: 140285136 | УДК: 811.581.11
Текст научной статьи Китайская иероглифика и ее место в современном мире
Изложение основного материала. Такой переход не был чем-то необычным, нечто подобное уже происходило в Европе на заре Нового времени, в XVI-XVII веках. Однако в Западной Европе переход от латыни к национальным языкам занял два-три столетия, в то время как в Восточной Азии - от пятидесяти до семидесяти лет. «Фактически вся масса старой «высокой культуры» за исторически незначительный период стала недоступной для будущих поколений. То, что для дедов было главным чтением, молодежь сегодня может читать только в переводе» [1, с. 326]. Надо сказать, что такая ситуация во многом соответствует планам европейских политиков, религиозных деятелей, местных националистов в ряде стран региона и колониальной администрации. С их точки зрения, старая традиция была злом, которое должно было быть радикально устранено. «Почти во всех странах региона конфуцианские писцы входили в число лидеров антиколониального сопротивления, поэтому колониальная администрация считала деконфуцианство политически полезным делом» [1, с. 327]. С колониальной администрацией в конце концов согласились и местные националисты, которые начали набирать силу и влияние в начале XX века. По их мнению, именно конфуцианская идеология и связанная с ней древняя культура были ответственны за печальную судьбу восточноазиатских стран, ставших игрушкой в руках великих колониальных держав. Однако отречения от вэньяна было недостаточно. Всем было ясно, что переход к массовому образованию должен сопровождаться переводом обучения на разговорный язык, а следовательно, и значительным упрощением письма. Но введение алфавита означало бы, что прежнее языковое и культурное единство Китая очень быстро исчезло бы. Политически этот шаг, скорее всего, увеличил бы шансы распада страны, так что только самые отъявленные радикалы (и некоторые иностранцы, по мнению которых
Китай уже несколько велик) высказались за полный переход всех китайских диалектов на фонетическое письмо. «Среди этих радикалов в 1920-е и 1930-е годы было много коммунистов и тех, кто мало уважал национальную традицию» [2, с. 120]. В связи с этим можно вспомнить Лу Синя, известного китайского писателя ХХ века, человека, чрезвычайно свободного от иллюзий относительно консерваторов и реформаторов. В 1930-х годах именно Лу Синь был, пожалуй, самым влиятельным из сторонников латинизации языка. Однако со временем, когда шансы коммунистов стать новыми правителями страны возросли, их реформистский пыл угас. Коммунистическая партия хотела управлять единым Китаем, а единство Китая было трудно обеспечить без иероглифического письма. «Тем не менее, переход на алфавит остается (теоретически) долгосрочной стратегической целью языковой политики КНР. Именно в связи с этим в 1957 году был официально утвержден Пиньиньский алфавит, который сейчас используется для латинских транскрипций китайских слов (любопытно, что на его развитие большое влияние оказал экспериментальный латинский алфавит, созданный для китайских рабочих в СССР в 1930-е годы)» [2, с. 121]. Его изучение является обязательным в школе, но на практике пиньинь используется в основном для транскрипции и образовательных целей. С самого начала было ясно, что необходимым предварительным шагом для перехода на алфавит должно стать обучение всех китайцев нормам литературного языка. Однако возник еще один вопрос: какой из китайских диалектов следует считать литературным? С одной стороны, политическое преимущество всегда было явно на стороне пекинского диалекта - языка 1 столицы, который на протяжении многих веков играл роль устного койне китайских чиновников. С другой стороны, в течение последних веков
1 Койне – язык, служащий средством междиалектного общения, возникший на базе одного общего диалекта: древнерусское койне (диалект полян)
китайской истории основные экономические и финансовые центры страны располагались на юге, поэтому крупный капитал был готов поддержать родной кантонский диалект. Первая попытка переговоров была предпринята в 1913 году, но тогдашняя Всекитайская конференция закончилась тем, что южные депутаты (в основном сторонники кантонского диалекта) попросту покинули ее, поссорившись с северными депутатами. После этого северяне попытались создать искусственную норму произношения, которая не отражала бы какой-либо конкретный диалект, а основывалась бы на северокитайском произношении в целом. «С этой целью группа филологов даже попыталась подготовить граммофонные пластинки, которые бы зафиксировали это вымышленное «правильное» произношение» [3, с. 112]. Конечно, эта попытка оставалась курьезом, тем более что не удалось найти диктора, который мог бы произносить иероглифы так, как требовали от него лингвисты. «Только в 1930-х годах северокитайский диалект путунхуа (известный в английских изданиях как мандаринский) официально получил статус литературного языка, и только в 1950-х годах коммунистическое правительство, согласившееся с этим решением, приступило к его реализации» [3, с. 112]. Однако на юге и сейчас не все согласны с таким статусом пекинского диалекта. Однако официальное решение признать Пекинское произношение иероглифов «правильным» ничего не изменило. Не следует забывать, что диалекты китайского языка отличаются друг от друга примерно так же, как романские или славянские языки. Для большинства китайцев изучение северокитайского диалекта фактически означает изучение иностранного языка, и перевод всего китайского на этот диалект можно сравнить, к примеру, с переводом всех нынешних носителей романских языков, на французский. Понятно, что такое мероприятие требует огромных затрат и времени, даже если оно не встречает серьезного политического сопротивления. С середины 1950-х годов образование в городских школах по всей стране было переведено на язык путунхуа (хотя диалект до сих пор используется в начальных классах). В меньшей степени эта реформа коснулась сельских школ, и вне школы большинство детей не используют официальный Пекинский язык, а по окончании школы просто забывают его. «Согласно самым оптимистичным оценкам, на данный момент около 70% китайцев говорят на путунхуа, но не более половины из них фактически используют этот язык в повседневной жизни» [4, с. 109]. Конечно, сейчас в большом Южно-Китайском городе на путунхуа можно даже объясниться в магазине, но мало кто из жителей кантона способен поддерживать связный разговор на этом языке. Если учесть, что тридцать лет назад путунхуа на юге Китая вообще не функционировал, то прогресс очевиден. «Тем не менее очевидно, что перевод носителей всех китайских диалектов на Пекинский потребует много времени, в течение которого об отказе от иероглифики не может быть и речи» [4, с. 122]. Кроме того, полный отказ от иероглифики может привести к тому, что новые поколения будут оторваны от огромного массива литературы, созданной на китайском языке (большая ее часть уже недоступна тем, кто не знает вэньянь). Большинство авторов новой языковой политики понимали эту опасность. В этой ситуации китайское правительство стало действовать постепенно в отношении принятия каких-либо мер, приняв в 1956 году решение об упрощении иероглифических знаков. Дело в том, что некоторые иероглифы, в том числе очень распространенные, очень трудно писать. Поэтому было решено заменить их упрощенными формами, обычно основанными на давно существующих скорописных знаках. «Окончательный вариант обязательного списка упрощений, опубликованный в 1964 году, включал в себя 2238 знаков» [6, с. 6]. На практике это означает, что обычно около трети символов появляются в тексте в упрощенном виде. Упрощения особенно активно внедрялись при жизни Мао Цзэдуна, который хотел войти в историю как инициатор первой реформы китайской письменности за более чем две тысячи лет, но с его смертью реформаторский накал заметно сошел на нет. Таким образом, упрощение иероглифического письма было предложено еще в начале ХХ века. Сложная письменность рассматривалась как одна из причин экономического отставания Китая. На самом деле, упрощенные символы уже функционировали. Первой попыткой придать им правовой статус на современном этапе считается период с 1851 по 1864 год, а именно во время Тайпинского восстания (1850-1865 гг.). Началось использование упрощенных иероглифов, распространенных в народе на печатях, документах, книгах и т.д. В этот период было создано много собственных упрощений. «Они не вполне соответствовали «шести категориям» иероглифов и были более экономны в использовании черт» [5, с. 30]. В Китае официальное предложение упростить иероглифы было опубликовано в 1956 году. «Официальный статус упрощенных иероглифов был закреплен изданной в 1964 году «Сводной таблицей упрощенных иероглифов», которая содержала 2238 иероглифов, замененных упрощенными вариантами» [6, с. 8]. В 1975 году на втором этапе реформы было упрощено еще 248 иероглифов. С 1977 года крупные газеты, такие как «The people's daily», начали использовать дополнительные упрощения, но путаница привела к тому, что правительство сначала попросило школы и издателей приостановить печатание книг и обучение с использованием инноваций, а 24 июня 1986 года вообще прервать второй этап. Стандарт 1964 года был повторно утвержден. Таким образом, осталось 2235 упрощений, и правительство объявило, что все дальнейшие реформы письменности будут проводиться с большой осторожностью. «Сингапур начал вводить упрощенные символы в 1969 году, когда Министерство образования утвердило 498 упрощенных символов вместо 502 традиционных (некоторые традиционные символы были объединены)» [5, с. 43]. В 1974 году, на следующем этапе реформы, было упрощено 2287 знаков. Это оставило 49 различий с письмом, используемым в Китае, которые были устранены в 1976 году. Однако «Сингапур не стал вводить вторую серию упрощений, а после ее отмены в 1993 году принял китайские поправки 1986 года; Малайзия ввела упрощенные символы, идентичные принятым в Китае, в 1981 году, а Тайвань, Макао и Гонконг продолжают использовать традиционные символы» [7, с. 377]. Япония, также используя китайские иероглифы, называемые «кандзи», упростила написание некоторых из них в 1946 году. Некоторые, но не все, упрощения совпали с китайскими. В 1952 году китайский исследовательский комитет по реформе письменности установил в качестве основного принципа упрощения иероглифов цитату из Лунь Юя: "Мы развиваем, но не сочиняем" [5, с. 9]. Несмотря на стремление максимально сохранить существующие символы и их элементы, было создано много принципиально новых форм, особенно на втором этапе упрощения. Многие упрощенные иероглифы существовали в прошлом как варианты стандартных иероглифов. Иероглифы упрощались различными способами. Поскольку несколько традиционных иероглифов иногда заменяются одним и тем же упрощенным, публикация классических текстов в упрощенном виде может вызвать путаницу. В редких случаях упрощенные иероглифы являются одним или двумя более сложными, чем традиционные из-за систематического упрощения. Символы, оставленные без изменений, называются унаследованными. Эти иероглифы нельзя отнести ни к традиционным, ни к упрощенным. Письменность с использованием упрощенных и унаследованных символов получила название «упрощенной китайской письменности». Реформа немного облегчила жизнь китайским школьникам. Однако в результате появились два набора символов – используемые в Китае упрощенные и принятые в Тайване, Гонконге, Сингапуре и Корее традиционные. Человек, знакомый только с сокращенным написанием, с некоторым трудом читает традиционный текст и наоборот. Однако в последние годы издания, рассчитанные на элиту, даже в Китае стали появляться в традиционной орфографии. Это отчасти «дань традиции, которой всегда придавалось большое значение в Китае, отчасти – влияние богатых и процветающих Тайваня, Гонконга и Сингапура, в которых не была признана реформа и сохранилось традиционное написание иероглифов» [7, с. 380].
Выводы. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Иероглифы являются очень сложным наследием Китая. С одной стороны, это создает массу проблем, а с другой – констатирует тот факт, что избавиться от нее в обозримом будущем невозможно, так что китайскому языку (а возможно, и языкам соседей) придется жить с этой системой письма очень и очень долго. В последние десятилетия впечатляющие экономические успехи Восточной Азии привели к тому, что местная интеллигенция стала гораздо терпимее относиться к собственному прошлому и собственным традициям. Оказалось, что они не мешают экономическому развитию, а возможно, даже помогают ему. Растущие связи между странами Восточной Азии также способствуют росту интереса к иероглифике, ведь чем больше иероглифов в любой инструкции или пособии, тем легче их понять в соседней стране. Кроме того, появление компьютеров решило одну из самых дорогостоящих проблем, связанных с иероглификой – сложность набора текста. Наконец, экономический рост постепенно делает более приемлемыми другие затраты, неизбежно связанные с использованием иероглифов, например, для более длительного обучения детей в начальной школе.
Список литературы Китайская иероглифика и ее место в современном мире
- Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка. - М.: АСТ; Восток - Запад, 2007. - 509 с. Малявин М.А. Китайская цивилизация. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2001. - 632 с.
- Завьялова О.И. Лабиринты иероглифа. От древних гадательных костей до современного киберпространства. - М.: Наука, 2001. № 06 (42). С. 120-121
- Ли Жун. Языковой атлас Китая / Ли Жун. - Пекин: Фанъянь, 1987. - 244 с.
- Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. - М.: Наука, 1992. - 279 с.
- Солнцев В.М., Лекомцев Ю.К., Мхитарян Т.Т., Глебова И.И. Вьетнамский язык / отв. ред. В.М. Солнцев. - М.: Издательство восточной литературы, 1960. - 100 с.
- Чиканова, Ольга Сергеевна. Реформа китайской письменности в XX в. / О. С. Чиканова. - М.: Наука, 2010. - 5-10 с.
- Чжоу Югуан. Модернизация китайского языка и письменности // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: "Прогресс" - 1989. - С. 376-398