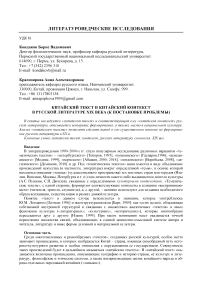Китайский текст и китайский контекст в русской литературе XIX века (к постановке проблемы)
Автор: Кондаков Борис Вадимович, Красноярова Анна Александровна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведческие исследования
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется «китайский текст» и соответствующий ему «китайский контекст» русской литературы, описывается историяих формирования, а также место в национальной культуре. Анализ «китайского текста» позволяет сделать вывод о его существенном влиянии на формирование русской литературы в XX в.
Китайский текст, контекст, русская литература, синология, xix век
Короткий адрес: https://sciup.org/147229753
IDR: 147229753 | УДК: 81
Текст научной статьи Китайский текст и китайский контекст в русской литературе XIX века (к постановке проблемы)
В литературоведении 1990-2000-х гг. стало популярным исследование различных вариантов «тематических текстов» - «петербургского» [Топоров, 1995], «пушкинского» [Гаспаров, 1996], «венецианского» [Меднис, 1999], «пермского» [Абашев, 2000; 2014], «лондонского» [Воробьева, 2008], «дягилевского» [Деменева, 2010] и др. Под «тематическим текстом» нами имеется в виду объединение произведений искусства (в частности, литературы) вокруг определённой «темы», в основе которой находится описания «топоса» (художественного пространства) тех или иных стран или городов (Италии, Венеции, Москвы, Петербурга и т. и.) или личности какого-либо выдающегося деятеля культуры (АС. Пушкин, СП. Дягилев), связанные с определёнными культурными контекстами. «Тематические тексты», с одной стороны, формируют соответствующие контексты в сознании «воспринимающего» (читателя, зрителя, слушателя), а, с другой, - активно используют для создания необходимого образа ассоциации, существующие в рамках данной культуры.
Понятие «текст» в данном случае используется в значении, которое употреблялось Ю.М. Лотманом [Лотман, 1996] и постструктуралистами [Барт, 1989]: как часть целого, обладающая собственной внутренней структурой и связанная с множеством аналогичных «текстов» и иных феноменов культуры («литературных», «культурных», «исторических»), которые многообразно пересекаются друг с другом [Ильин, 1999]. При таком понимании текст оказывается точкой пересечения множества связей, объединяющих в единой ценностно-смысловой системе автора и читателя, литературу и иные формы духовной и материальной культуры.
Основная часть
Среди многочисленных и разнообразных «текстов», созданных русской культурой, особое место занимают произведения, в которых изображается Китай - страна, имевшая своеобразный путь историко-культурного развития и особые отношения с окружающими её государствами. Совокупность таких произведений будет в дальнейшем называться «китайским текстом». В «китайский текст» оказываются включены произведения, описывающие географию и историю страны, её культуру и литературу, философские и этические системы, а также воспроизводящие жизнь китайского народа и образы отдельных персонажей-китайцев («ханьцев»).
Китайский текст объединяется в целое не только изображением (описанием) Китая, его истории, населения и природы, но воспроизведением культурных реалий Китая, цитированием многочисленных текстов китайской культуры, национальных религиозно-философских идей, используемых китайской словесностью сюжетов и образов, использованием некоторых стилевых и сюжетнокомпозиционных особенностей, характерных для китайских художественных произведений.
Китайский текст существует не только в рамках русской литературы, но и в литературе Западной Европы. Характерным примером развёрнутого китайского текста в европейской литературе может служить цикл романов о Судье Ди, созданный в 1950-1960-е гг. известным учёным, писателем и дипломатом Робертом ван Гуликом, или произведения, созданные китайскими писателями-эмигрантами, написанные на английском (или каком-либо ином «европейском» языке) - Дай Сыцзе, Ли Джейд, Минь Аньци, Си Лиза, Тан Эми, Цю Сяолуном, Чжан Жун, Шань Са и других. Китайский текст русской литературы включает в себя «литературу путешествий» (например, книги Н.Г. Гарина-Михайловского, Н.М. Пржевальского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.Г. Янчевецкого, в которых описаны путешествия по Китаю), множество мемуарных произведений (изображения жизни в Китае русских эмигрантов), а также переводы (нередко вольные) произведений китайской культуры на русский язык.
Китайский текст занял в русской культуре XIX-XXI вв. достаточно большое место, и в этом плане он сопоставим с иными «пространственными» текстами - «итальянским», «московским», «петербургским»), что объясняется огромной значимостью жизни страны - близкого соседа России -для понимания собственной истории и культуры. Россия и Китай - два государства, исторический путь и культурные парадигмы которых, с одной стороны, принципиально различались, а, с другой, -при всем своеобразии - имели ряд черт, сопоставление которых помогало понять существенные особенности исторического пути России и русского характера. Китайский текст помогал российским писателям и читателям лучше представить перспективы России и закономерности ее развития, способствовал осмыслению места личности и «голоса» героя в общественной жизни того или иного периода.
Существование и функционирование в рамках той или иной культуры любого такого «текста» возможно только в том случае, если в ней существует соответствующий ему многообразный культурно-исторический контекст. В «контекст» в данном случае включается не только историческая и культурная среда, но и отраженные в культурной памяти субъектов текста - читателей - представления о Китае (нередко весьма далёкие от реальности и даже фантастические), его языке, истории, природе и культуре, в том числе выраженные через другие созданные ранее тексты, посвященные этой стране (в частности, исследования российских синологов). Этот контекст в статье предлагается называть «китайским контекстом». Контекст во многом определяет соответствующий ему тематический «текст», и эти отличия нередко определяют его специфику.
Так, например, следует отметить, что китайский текст русской литературы организован иначе, чем, например, развитый в русской литературе XIX в. «итальянский» текст. Италия была страной, которую хорошо знали и часто посещали не только российские писатели, художники, музыканты, но и значительная часть дворянства и определенная часть разночинной интеллигенции. Итальянское искусство, жизнь итальянского народа были достаточно хорошо известны и близки российскому читателю, а итальянская культура в целом, сохраняя, естественно, статус «чужой», в конечном итоге оказывалась все-таки «своей-чужой» культурой.
Китай, который - в отличие от Италии - долгое время оставался для русских людей «не освоенной» в культурном плане страной (с «своей-чуэ/сой» культурой) и поэтому интерпретировался как экзотичная, «загадочная» для читателя страна, в связи с чем для китайского текста русской литературы особенно важными оказывались проблемы восприятия и интерпретации. Исторические события, происходившие в Китае на протяжении конца XIX и XX века, а также сложная эволюция отношений между Китаем и Россией в рассматриваемый период способствовали расширению интереса российских (или «советских») читателей к культуре этой страны.
«Итальянский контекст» русской литературы в значительной мере был представлен в личном опыте российских читателей и писателей; китайский контекст в XIX в. был дан преимущественно через другие тексты. Важнейшей частью китайского контекста русской культуры являлись размышления о закономерностях и парадоксах развития России (в сравнении с Китаем), особенно (в период с конца XIX в. и вплоть до начала XXI в.), - в сопоставлении с историей Китая.
К сожалению, до сих пор существует не так многоисследований, в которых бы история Китая и России анализировались не только с целью анализа их политического и экономического взаимодей- ствия, но и взаимодействия культур и национального самосознания, что, с нашей точки зрения, способствовало бы пониманию многих закономерностей развития русской литературы и культуры. Отсутствуют и специальные литературоведческие работы, в которых бы исследовался «китайский текст», «образ Китая» или «образы китайцев», а также место этих явлений в русской художественной культуре XIX-XX вв.
Формирование китайского контекста предварял процесс становления китайского текста. Процесс возникновения китайского контекстав русской литературе имел свою довольно продолжительную историю. Целенаправленный интерес к Китаю и к китайской культуре (то есть формирование китайского контекста, ставшего основой для дальнейшего формирования китайского текста) стал проявляться в России в XVIII в. В этом плане Россия включалась в общеевропейскую тенденцию, связанную с ростом интереса к великому восточному государству: в ней, например, стала развиваться европейская «придворная» традиция обращения к «китайскому стилю» шинуазри^, который повлиял на архитектуру, живопись, оформление интерьеров и женскую моду. Стиль шинуазри предполагал использование художественных отдельных приёмов китайского искусства, а также специфической китайской символики (изображений птицы феникс, элементов китайского орнамента, обозначавшего благодатный дождь, облаков, волн, молнии и т. и.). Использование стиля шинуазри стало не просто очередной модой, - он был признаком утончённого вкуса и свидетельством материального достатка хозяев. Его возникновение в рамках русской культуры по сути стало первым этапом создания китайского контекста. Однако в большинстве случаев обращение к китайской культуре оставалось поверхностным, касающимся только отдельных внешних деталей и стилистических приёмов; при этом сущность китайских традиций и стоящая за ней философско-этическая система, жизнь китайского народа долгое время оставались вне сферы внимания российского обществаи не сопровождались углублённой «просветительской» и «интеллектуальной» любовью к Китаю.
Значительную часть информации о стране российские читатели получали из переводов произведений китайской литературы. В XVIII в. российский читатель получил возможность читать китайские произведения в переводах с языков-посредников (французского, английского, маньчжурского). Так, например, именно с французского языка писателем и дипломатом Д.И. Фонвизиным в 1779 г. был выполнен перевод важнейшего для китайской культуры трактата «Да сюэ» («Великое учение»)2.
В XVIII- первой половине XIX вв. Китай был практически полностью закрыт для иностранцев и не поддерживал каких-либо дипломатических отношений, как с европейскими странами, так и с Россией, однако не препятствовал пребыванию на своей территории представителей духовенства. В 1715 г. в Пекин была направлена Российская Духовная миссия, целью которой было, с одной стороны, «духовное окормление» потомков дальневосточных албазинских казаков, проживавших в Пекине и служивших китайскому императору, а с другой, - выполнение неофициальных дипломатических и некоторых исследовательских задач (изучение китайского языка, культурной и национальной специфики китайского народа, налаживание дипломатических контактов с правительством). Деятельность представителей Российской Духовной миссии в Пекине заложила основы отечественной синологии и способствовала быстрому развитию отечественной школы перевода [Головин, 2013, с. 4]. Публикации о Китае и переводы китайских классических текстов, следовавшие на протяжении XVIII в., сформировали в сознании русской публики интерес к стране и способствовали возникновению определённого первичного «фона», культурного контекста. Существенное продвижение в этом направлении произошло в XIX в.
Основным объектом переводов на протяжении первой половины XIX в. для российских синологов становились исторические сочинения, которые, с одной стороны, давали русским читателям представление об истории соседней страны, а, с другой, - вызывали в их сознании параллели с отечественным прошлым (интерес к которому на протяжении XVIII-XIX вв. постоянно возрастал). Реже появлялись тексты, в которых описывались повседневные обычаи и нравы китайцев. В 1832 г. в альманахе «Северные цветы», издававшимся АС. Пушкиным, был опубликовал анонимный перевод фрагмента из китайского романа XVII в. «Хао цю чжуань» («Счастливый брак»), в котором повествовалось о судьбе двух молодых людей: учёного юноши Те Чжунюе и дочери сановника Шуй Бинсинь3.
Журналы (например, «Вестник Европы») систематически размещали на своих страницах описания путешествий по странам Востока, переводы восточной поэзии и прозы. Особым интересом пользовались у русских читателей путевые заметки, в частности, о странах Востока, изобилующие экзотикой, яркими и оригинальными образами и сюжетами. Такие издания формировали в сознании российских читателей систему представлений о Китае, который представал как страна со своим оригинальным историческим путём, а испытываемые китайскими людьми проблемы, их переживания, чувства представали похожими на аналогичные переживания и чувства многих русских людей.
Вычленение в русской литературе из общей «темы Востока» особой «китайской темы» произошло в 1830-е гг. (причиной этого в немалой степени стало формирование и развитие в сознании общества «китайского контекста»). Среди первых произведений, которые можно включить в состав «китайского текста» русской литературы, можно, например, назвать роман-утопию В.Ф. Одоевского «4338й год: Петербургские письма» (1835 г.)1 и ироничные «китайские произведения» О.И. Сенковского2.
Итоговым произведением русской литературы первой половины XIX в., в котором появился развёрнутый образ Китая, стал «географический роман» И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”», написанный в 1855-1855 гг. и опубликованный отдельным изданием в 1858 г. Писатель описал китайский национальный характер, отметив трудолюбие, смиренность, доброжелательность и усердие китайских людей, отсутствие у них фанатизма, учтивость и честность, их сыновнюю почтительностью. Сравнивая китайцев и англичан (не в пользу последних), автор отметил: «Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизировать - не китайцы ли англичан?» [Гончаров, 1986, с. 236]. В романе впервые выявилась важнейшая особенность «китайского текста» русской литературы, которая и способствовала его быстрому превращению в «контекст»: для отечественных писателей и читателей «Китай» оказывался интересен не сам по себе, не как экзотическое (незнакомое русскому читателю) место действия, а как особый мир, который, с одной стороны, постоянно противопоставляется России, а с другой, - во многом похож на нее. Это иной, не реализованный Россией путь развития страны (цивилизации, культуры), исследование которого могло многому научить Россию и русских людей, предостеречь её от каких-либо потенциальных (возможных в ближайшем или отдаленном будущем) опасностей. Ю.М. Лотман отмечал: «Фрегат “Паллада”» Гончарова, по сути дела, концентрирует внимание не на том культурном пространстве, которое пересекает путешественник, а на восприятии путешественником этого пространства<...>. Гончаров <...> декларирует, что интерес к разнообразию культур, открытость «чужому» есть реальная специфика русского сознания» [Лотман, 2002, с. 747]. Китайская культура стала в данном случае примером «чужого», необходимого для понимания «своего», то есть частью контекста русской культуры.
Качественно новый этап формирования «китайского контекста» русской литературы связан с русской литературой второй половины XIX в. В этот период огромную роль в его развитии сыграли работы русских китаеведов о. Палладия [Кафарова], И.А. Гашкевича, А.А. Татаринова, М.Д. Храповицкого, В.П. Васильева, которые в 1850-1880-е гг. опубликовали множество научных трудов по истории и культуре Китая, Манчжурии, Тибета, Монголии, а также переводы китайских классических философских текстов (в том числе книги Лаоцзы, Конфуция, Менцзы) и произведений китайской литературы и фольклора. Их исследования были предназначены не только для узкого круга специалистов-востоковедов, но и для широкого круга российских читателей. Статьи российских востоковедов, в которых описывались история и современное состояние Китая, его религиознофилософская система, природа и культура региона, быт и обычаи китайцев и проживающих рядом с ними народов нередко обладали яркой художественно-публицистической формой и печатались в изданиях, имевших широкий круг читателей, - таких, как журналы «Современник» и «Издание Русского Географического Общества», газеты «Северная пчела», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Голос» и др.Таким образом, информация о Китае и китайской культуре входила в сознание российской читающей публики и создавали определенный «китайский контекст», который, в свою очередь, широко использовался и российскими писателями и критиками, - например, Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, Н.Г. Чернышевским.
Большое значение для формирования китайского контекста сыграла деятельность Л.Н. Толстого. Китай привлекал его своими духовными ценностями, высокими нравственными принципами, глубинной философской мысли и обращением к духовной сущности человека. В 1880-е гг. - период сложнейших духовных исканий - Л. Толстой изучал труды древних китайских мыслителей - прежде всего, Лаоцзы, Конфуция и Мэнцзы. В 1884 г. писатель, используя европейские переводы, создал работу «Изложение китайского учения», в которой кратко описал суть трактата «Да сюэ» («^»^» -«Великое учение»); в том же году он начал работу над трактатом «Китайская мудрость. Книги Кон-фуцы». Л. Толстой полагал, что труды китайских мыслителей представляют для русского человека своеобразный духовный «путеводитель», гармонично сочетающий понимание «своего» и «чужого», рождающий в процессе прочтения важнейшие духовные ценности и показывающие людям истинный путь, тем самым воздействуя на ход исторического развития.
Заключение
Возникновение в русской культуре XVIII-XIX вв. «китайского контекста» и связанного с ним «китайского текста» способствовало росту интереса к Китаю и китайской культуре, развитию у российских читателей представления об истории, природе, быте, традициях,религии и философии Китая. Всё это, в свою очередь, создало основу для формирования сложного и многозначного «китайского текста», который активно развивался на протяжении всего XX в.
Список литературы Китайский текст и китайский контекст в русской литературе XIX века (к постановке проблемы)
- Абашев В.В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000. 404 с. 2-е изд. Пермь, 2014. 480 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр., сост., общ. ред. и вступит. ст. Г.К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 615 с.
- Воробьева Л.В. Лондонский текст в творчестве Е.И. Замятина как смоделированное пространство // Вестник Томского государственного университета, № 308, март. Томск, ТГУ, 2008. С. 15-18.
- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. Москва: Новое литературное обозрение, 1996. 351 с.
- Головин С.А. Российская духовная миссия в Китае: Исторический очерк. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013.