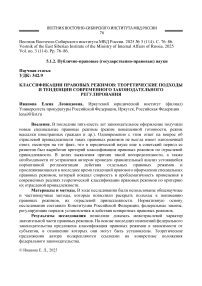Классификации правовых режимов: теоретические подходы и тенденции современного законодательного регулирования
Автор: Иванова Е.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В последние пять-шесть законодательное оформление получили новые специальные правовые режимы (режим повышенной готовности, режим высылки иностранных граждан и др). Одновременно с этим ответ на вопрос об отраслевой принадлежности таких правовых режимов не всегда имеет однозначный ответ, несмотря на тот факт, что в юридической науке еще в советский период ее развития был выработан критерий классификации правовых режимов по отраслевой принадлежности. В целях выявления причин такой неопределенности, а также необходимости ее устранения, автором проведен сравнительный анализ устоявшейся нормативной регламентации действия отдельных правовых режимов и прослеживающихся в последнее время тенденций правового оформления специальных правовых режимов, который показал спорность и проблематичность применения в современных реалиях теоретической классификации правовых режимов по критерию их отраслевой принадлежности. Материалы и методы: В ходе исследования были использованы общенаучные и частнонаучные методы, которые позволили раскрыть подходы к пониманию правовых режимов, их отраслевой принадлежности. Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, регулирующие порядок установления и действия конкретных правовых режимов. Методологической основой исследования выступили общий диалектический метод, методы дедукции и индукции, формально-юридический метод и метод сравнительного правоведения. Результаты исследования позволили доказать межотраслевой характер значительной части правовых режимов. На основе последних изменений федерального законодательства предложена классификации правовых режимов в зависимости от субъектов, в отношении которых они могут быть установлены. Теоретические предложения автора подкрепляются ссылками на конкретные положения федерального законодательства. Выводы и заключения: теоретическая классификация правовых режимов по отраслевой принадлежности на современном этапе развития публичного законодательства нуждается в серьезном переосмыслении, ввиду того, что в объем правовых норм, регулирующих какой-либо правовой режим, могут быть включены нормы различной отраслевой принадлежности. С практической стороны признание факта отсутствия на современном этапе российской юридической науки сугубо «отраслевых правовых режимов», позволяет обосновать складывающийся вектор развития законодательства, регулирующего публичные правоотношения.
Правовой режим, специальный правовой режим, конституционно-правовой режим, административно-правовой режим, режим высылки
Короткий адрес: https://sciup.org/143184910
IDR: 143184910 | УДК: 342.9
Текст научной статьи Классификации правовых режимов: теоретические подходы и тенденции современного законодательного регулирования
Вопросы применения специальных правовых режимов являются одними из самых актуальных как для юридической, так и управленческой науки. При этом, как показал анализ специальной литературы, в настоящее время в науке конституционного права, административного права приводится достаточное количество классификаций правовых режимов, наибольшей популярностью среди которых в современный период пользуется деление их на общий и специальные правовые режимы.
При этом такое деление авторы производят как в отношении конституционноправовых режимов, так и в отношении административно-правовых, как правило, отмечая, что деление правовых режимов по отраслевому критерию выступает самостоятельным основанием их классификации.
Одновременно с этим фактически не исследованными остаются вопросы соотношения конституционного, правовых и административно-правовых режимов между собой и с более общим понятием правового режима.
Между тем правильное формирование представления о соотношении указанных понятий видится куда более значимым для понимания сущности отдельных правовых режимов (возможности отдельных изъятий из них, других особенностей применения). Особенную принципиальность приобретает решение вопроса об «отраслевой принадлежности» режимов военного и чрезвычайного положения. Указанные режимы получают широкое освещение в рамках науки конституционного и науки административного права. Как отмечается в литературе, с одной стороны – в основаниях и порядке введения этих чрезвычайных правовых режимов весомая доля норм конституционного права (именно Конституция Российской Федерации осуществляет так называемую первичную легализацию этих режимов). Конституционным законодательством также регулируются режимы пребывания иностранных граждан, пограничных зон, континентального шельфа, территориального моря, исключительной экономической зоны, режим Государственной границы Российской Федерации и др. С другой стороны – присутствует также и значительная часть норм административного права, регламентирующих деятельность органов исполнительной власти по реализации правового порядка, заложенного в такой правовой режим [10, с. 38-36]. Актуализируют необходимость осмысления вопроса о соотношении доли конституционного и административного регулирования недавно введенный законодателем новый вид правового – режим высылки1.
В этой связи видится необходимым обращение к истории исследования категории «правового режима» в отечественной правовой науке.
Понятие «правовой режим» получило разработку в трудах многих советских и российских ученых.
Так, Ю. А. Тихомиров определял правовой режим как специализированный порядок деятельности субъектов права, предназначенный для устойчивого решения специфических задач, либо устойчивого функционирования в особых обстоятельствах [11, с. 424].
-
А. В. Малько и Н. И. Матузов понимали правовой режим как комплекс правовых средств (дозволений, запретов, позитивных обязываний), которые сочетаются определенным образом и создают особую направленность регулирования [8, с. 17].
Глубокой проработке вопросы правовых режимов подвергнуты в работах Д. Н. Бахраха, Б. В. Российского и Ю. Н. Старилова [4, с. 494].
Следует отметить, что к настоящему времени в работе С. Н. Братановского «Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и правовой науке» [5, С. 12-23] проведен детальный анализ таких исследований.
Следующие классификации правовых режимов в литературе приводятся чаще всего:
-
1. В зависимости от продолжительности их действия (срока применения): срочные (временные) и бессрочные (постоянные) специальные административноправовые режимы.
-
2. По виду правоустанавливающего акта (нормативного правового акта): специальные административно-правовые режимы, устанавливаемые только на основании федерального конституционного закона (режимы военного положения и
чрезвычайного положения), федерального закона (например, таможенный режим или режим охраны Государственной границы Российской Федерации), либо закона субъекта Российской Федерации (указа или постановления главы субъекта Российской Федерации). В последнем случае это может быть режим чрезвычайной ситуации на части или всей территории субъекта Российской Федерации, режим повышенной готовности и принятия дополнительных мер по предотвращению короновирусной инфекции (2019-nCoV);
-
3. По критерию юридических свойств режимы подразделяются на ординарные и экстраординарные. Последние вводятся только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций социального или природно-техногенного характера.
-
4. По функционально-целевому назначению можно выделить: режим военного положения; режим чрезвычайного положения; режим чрезвычайной ситуации; режим контртеррористической операции; режим охраны Государственной границы Российской Федерации; режим закрытого административно-территориального образования, режим высылки2 и др.
Срочные правовые режимы ограничены определенным сроком их введения и действия (режимы военного положения и чрезвычайного положения), а бессрочные режимы действуют постоянно применительно к регулируемым правоотношениям (таможенный режим, пограничный режим, режим закрытого административнотерриториального образования (далее – ЗАТО). Бессрочные специальные административно-правовые режимы прекращают свое действие только в случаях изменения или прекращения данных общественных отношений (например, ликвидация таможенного поста приводит, соответственно, к упразднению таможенного режима; изменение границы ЗАТО или лишение муниципального образования статуса ЗАТО влечет прекращение режима ЗАТО на части либо всей территории данного населенного пункта).
К экстраординарным режимам следует отнести: режим чрезвычайного положения, режим чрезвычайной ситуации природно-техногенного характера, режим военного положения и режим контртеррористической операции. Ординарными режимами являются: режим закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), режим охраны Государственной границы Российской Федерации и др. [1, с. 182].
Существуют также и современные работы, посвященные классификации правовых режимов. В них тоже отмечается тесная связь правового режима с его отраслевой принадлежностью [6, с. 82].
При этом в последних исследованиях конституционно-правовой и административно-правовой режимы рассматриваются как две разновидности правового режима в рамках его классификации по отраслевой принадлежности [9, с. 98], что, по нашему мнению, не является правильным.
-
В. В. Барбин указывает, что весьма часто конституционно-правовые режимы получают свое развитие в административно-правовых режимах, так как обе эти разновидности правовых режимов имеют общий родовой признак [3, с. 36]. С указанным утверждением также полагаем возможным согласиться лишь отчасти.
Несмотря на признанный в науке тезис о первичности конституционноправовых норм, их учредительном характере в вопросе соотношения конституционноправового и административно-правового режимов, на наш взгляд, конституционноправовые нормы, образующие содержание конституционно-правового режима, не могут рассматриваться исключительно в качестве основополагающих и затем получающих развитие в виде детализации в нормах, формирующих содержание административно-правового режима. Бесспорно, основанием самой по себе возможности существования и правового регулирования специального административно-правового режима выступают как общие нормы конституционного законодательства о возможности ограничения прав и свобод граждан при наличии определенных условий, так и специальные нормы о возможности введения отдельных конституционных правовых режимов. Эти нормы могут считаться материальными нормами-основаниями введения того или иного административно-правового режима. В то же время при непосредственном регулировании специального административного правового режима конституционные нормы будут наряду с административноправовыми нормами образовывать единую правовую среду, определяющую содержание конкретного правового режима. Только нормы конституционного права в данном случае будут регулировать права и свободы человека и гражданина (сроки, порядок их реализации, ограничений и т.д.) в условиях действия данного правового режима, а нормы административного права – полномочия органов публичной власти (также обязанных действовать особенным образом в рамках данного правового режима).
Такой комплексный характер средств (взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования), применяемых в рамках одного правового режима отмечал еще С. С. Алексеев [2, с. 210].
Сегодня понимание того, что специфической особенностью публично-правовых режимов является комплексный характер конституционного и административноправового регулирования также отмечается некоторыми учеными.
Как справедливо подчеркивает С. А. Терехов, понимание правового режима как комплекса правовых средств (дозволений, запретов, обязываний, в том числе общих), которые определенным образом сочетаются и тем самым направленность регулирования, – является методологически удачным и позволяет объяснить существование комплексных (межотраслевых) правовых режимов, направленных на обеспечение конституционного требования о безопасности при возникновении внешних и внутренних угроз территориальной целостности и независимости государства [10, с. 39-40].
Наиболее весомым аргументом тезиса об условности деления правовых режимов по отраслевой направленности на конституционно-правовые и специальные административно-правовые режимы долгое время оставалось наличие двух федеральных конституционных законов, регулирующих порядок введения, действия и отмены военного и чрезвычайного положений, а также Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 3 . В указанных нормативных правовых актах содержатся указания не только на порядок организации и деятельности органов публичной власти, но и конкретный перечень конституционных прав граждан, которые могут быть ограничены в условиях действия данных правовых режимов (включая порядок их ограничения и отмену таких ограничений). При этом специальные режимы в закрытом административно-территориальном образовании, режим охраны Государственной границы Российской Федерации, специальные таможенные режимы, режим чрезвычайной ситуации рассматривалась в целом как специальные административные режимы, применение которых обусловливалось конкретной территорией.
Так, например, меры, вводимые на основании Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»4 (далее – ФЗ «О чрезвычайных ситуациях») до 2020 года не упоминался в качестве источника, устанавливающего специальный конституционно-правовой режим в отношении граждан, а рассматривался в качестве базового нормативного правового акта, регламентирующего порядок деятельности органов публичной власти при возникновении угроз природного и техногенного характера (ежегодные ситуации с лесными пожарами, например). Несмотря на то что положения указанного Федерального закона не содержат прямых каких-либо указаний на необходимость ограничения прав и свобод человека и гражданина, такая возможность, очевидно, следует из его отдельных положений. Например, согласно ч. 10 статьи 4 ФЗ «О чрезвычайных ситуациях» при введении такого режима руководители ликвидации чрезвычайной ситуации могли принимать решения об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации, приостанавливать работу организаций, оказавшихся в такой зоне. Указанные меры явно ограничивают право граждан на свободу передвижения, трудовые права и право на свободу предпринимательства, а значит – выступают нормативным основания применения специального конституционно-правового режима.
Еще более очевидным указанный факт стал с появлением в 2020 году в рассматриваемом Федеральном законе нового режима – режима повышенной готовности, когда ч. 1 статьи 1 была дополнена словами «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Как отмечается в отдельных исследованиях, изначально по логике законодателя режим повышенной готовности задумывался как предшествующий режиму чрезвычайной ситуации, когда только возникала ее угроза. Этот режим распространялся на государственные органы, которые должны были заблаговременного принять необходимые меры к недопущению неблагоприятного развития событий, т.е. на первой стадии чрезвычайной ситуации.
Однако эпидемия коронавирусной инфекции внесла в эту схему свои коррективы. Оперативно статья 10 ФЗ «О чрезвычайных ситуациях» дополнена положением о праве устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Указанное нормотворческое полномочие реализовано Правительством Российской Федерации в Постановлении от 02.04.2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»5 и региональным законодателем.
Как отмечают специалисты [7, с. 21-23], в некоторых моментах эти правила отразили складывающуюся непростую ситуацию в ходе деятельности властей по преодолению чрезвычайной ситуации. Так, например, в регионах ввели совершенно новое средство – так называемую «самоизоляцию», предполагающую запрет на свободное посещение общественных мест и постоянное нахождение в месте жительства. Для контроля выполнения данного запрета были задействованы органы внутренних дел и иные контролирующие органы. На практике в регионах вводился не режим чрезвычайной ситуации, а режим повышенной готовности, что приводило к сложностям в понимании правовой основы ситуации для населения и, соответственно, к неприятию проводимых мер и, конечно, это создавало множество конфликтных ситуаций.
Введение режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации повлекло за собой многочисленные обращения граждан в Конституционный Суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции, в которых оспаривалась законность применения правоограничений в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [7, с. 21-23].
Однако орган конституционного контроля, признавая конституционность устанавливаемых, в том числе региональным законодательством, ограничений, ссылался на их кратковременность и жизненную необходимость при возникновении общей угрозы здоровью и жизни населения6.
Таким образом, можно констатировать, что в ходе антикоронавирусной борьбы правовой инструментарий пополнился новым правовым режимом – режимом повышенной готовности. Является ли этот правовой режим сугубо административноправовым, управленческим, регламентирующим исключительно действия органов публичной власти и уполномоченных ими субъектов? Очевидно, нет. Распространяя свое действие на граждан, организации он устанавливает разумные ограничения их прав и свобод в период действия обстоятельств, послуживших основанием его введения.
Другим примером ошибочности стремления классифицировать правовые режимы на конституционно-правовые и административно-правовые выступает сегодня миграционное законодательство. С внесенными в 2024 году изменениями в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об иностранных гражданах»)» 7 существенно расширен предмет его правового регулирования. Закон, который прежде регулировал лишь режимы пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, теперь предусматривает новый правовой режим – режим высылки.
Согласно положениям статьи второй указанного Федерального закона данный правовой режим может быть установлен в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в первую очередь рассматриваются правовой наукой в качестве субъектов конституционно-правовых отношений. Одновременно с этим данным Законом определены:
-
1) меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, применяемые в рамках режима высылки, то есть урегулированы полномочия контрольно-надзорных органов при установлении и действии анализируемого правового режима (статья 31 1);
-
2) порядок ведения реестра лиц, находящихся в режиме высылки (статья 312);
-
3) права и обязанности должностных лиц органа внутренних дел при осуществлении контроля за нахождением в Российской Федерации лица, находящегося в режиме высылки (статья 313) и другие вопросы.
В этой связи нами предлагается рассмотреть вопрос о делении правовых режимов по субъектному составу. Описанные выше новеллы федерального законодательства о режиме высылки, по нашему мнению, позволяют теперь выделять режимы, которые устанавливаются в отношении всех субъектов правоотношений, и режимы, которые могут применяться только в отношении отдельной категории – иностранных граждан и лиц без гражданства (режим высылки в отношении граждан Российской Федерации применить нельзя).
Наконец, в недавно принятом Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 8 режим военного положения законодатель также понимает в качестве особого правового режима (ст. 92), не поименовывая его ни конституционно-правовым, ни административно-правовым режимом. Согласно статье 92 данного Федерального закона в период действия военного положения или военного времени могут быть ограничены отдельные элементы реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления, установлен особый режим функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом ч. 5 указанной статьи определены те полномочия органов местного самоуправления, которые во время действия такого правового режима не могут осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе возлагаться на органы местного самоуправления иного муниципального образования (иных муниципальных образований).
Таким образом, наличие в одном правовом акте целого комплекса норм конституционно-правового и административно-правового характера свидетельствует о том, что для федерального законодателя разграничение отраслевой принадлежности правого режима принципиального значения не имеет. Источниками правового регулирования специальных правовых режимов могут выступать одновременно нормы конституционного, административного, муниципального и другого законодательства.