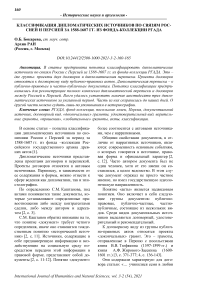Классификация дипломатических источников по связям Россией и Персией за 1588-1607 гг. из фонда-коллекции РГАДА
Автор: Бокарева О.Б.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3-2 (54), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка классифицировать дипломатические источники по связям России с Персией за 1588-1607 гг. из фонда-коллекции РГАДА. Это - две группы: проекты двух договоров и дипломатическая переписка. Проекты договоров относятся к договорному виду публично-правовых актов. Дипломатическая переписка - к публично-правовым и частно-публичным документам. Попытка классификации предпринималась для реконструкции полного комплекса дипломатической переписки и договоров между Россией и Персией. Всего удалось установить наличие шестидесяти трех дипломатических источников за указанный период. Часть из них сохранилась до наших дней. О другой части можно судить лишь по упоминаниям в историографии.
Ргада, фонд-коллекция, посольские книги, персия, документальный источник, договорный вид, "докончальные" грамоты, удостоверительный вид, верительные грамоты, "прошения", "любительные" грамоты, акты, классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/170190933
IDR: 170190933 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-3-2-160-165
Текст научной статьи Классификация дипломатических источников по связям Россией и Персией за 1588-1607 гг. из фонда-коллекции РГАДА
В основе статьи – попытка классификации дипломатических источников по сношениям России с Персией за период за 1588-1607 гг. из фонда –коллекции Российского государственного архива древних актов [1].
Дипломатические источники представлены проектами договоров и перепиской. Проекты договоров относятся к актовым источникам. Переписку, в зависимости от ее содержания и формы, можно отнести к сфере ведения как дипломатики, так и эпи-столографии.
По определению С.М. Каштанова, под актами понимаются такие документы, которые устанавливают определенные правоотношения либо между контрагентами сделки, либо между автором и адресатом [2, с. 3].
С.М. Каштанов обратил внимание на то, что понятие «документ» требует четкого определения, иначе оно становится тождественным понятию «исторический источник» [2, с. 11]. Источники, содержащие в себе преднамеренную информацию и воздействующие на социальную среду посредством передачи этой информации в правовой форме, представляют собой документы [2, с. 11-12]. Понятие «документ»
более соотносится с актовыми источниками, чем с нарративными.
Общими свойствами документов, в отличие от нарративных источников, являются: современность основным событиям, о которых говорится в источнике, правовая форма и официальный характер [2, с. 12]. Часто автором документа был не один человек, хотя от его имени он составлялся, а целое ведомство. В этом случае документ отражал не просто частное мнение, но имел государственную идеологическую направленность.
Понятие «акты» является надвидовым понятием. Оно включает в себя следующие группы документов: публичноправовые, публично-частные, частнопубличные, состоящие из нескольких видов. Среди видов документальных источников выделяются договорный, удостоверительный и рекомендательный.
К договорному виду из группы публично-правовых актов относятся проекты «докончальных» грамот. Это – грамоты, отправленные в Персию с посольствами князя В.В. Тюфякина (1597-1599 гг.) и князя А.Ф. Жирового-Засекина (16001601 гг.) [3, с. 371-377; 4, с. 136-143].
Они содержали характерную для договора статью: «… учинилися есмя в любви и в соединенье, и в вечном докончанье с вами» [3, с. 371; 4, с. 136]. Слово «докон-чанье» восходит к однокоренному слову «докόн», обозначающему основную причину, существенный повод, окончательный договор [5, с. 471].
В Посольском приказе конца XVI в. – начала XVII в. удостоверительный характер носили верительные и «опасные» грамоты, относящиеся к группе публичноправовых актов. Верительные грамоты, направленные главами государств, удостоверяли личность посла или посланника, вторые предоставлялись «иностранным подданным для свободного въезда в Русское государство и выезда» [6, с. 11].
В посольских книгах сохранились челобитные письма от иностранных послов на имя государя, содержащие разного рода «прошения». Эти письма могли называться: челобитной, челобитьем, докладом [2, с. 198-199, 205, 208-209, 215; 4, с. 74-76]. Челобитные письма персидского посла Али (Ази) Хосрова, адресованные государю царю Федору Ивановичу и шурину царя, боярину Борису Годунову, а также письмо с жалобой посла Пиркулы-бека относятся к просительному виду частнопубличных документов. Это – первое (1593 г., 6 статей челобитья), второе (1593 г., об отправке в Казань) и третье (1594 г., 2 статьи челобитья) челобитные письма, адресованные царю Федору Ивановичу, а также четвертое (1594 г., 2 статьи челобитья), направленное боярину Борису Годунову. К указанным документам относится «доклад» посла Пиркулы-бека с жалобой на переводчика и подьячего Степана Полуханова (1600 г.).
Имеются грамоты, составленные в Посольском приказе в ответ на эти прошения. Это – грамоты, содержащие статью о «пожалованье». Особенностью этих грамот является то, что они адресованы не персидским послам, а лично гилянскому царю Ахметю и шаху Аббасу I [3, с. 146-147, 158; 7, с. 78].
Как правило, в них оговариваются привилегии, данные иноземному купечеству. Так, в ответной грамоте царя Федора Ивановича (1590 г.) на челобитье гилянского царя Ахметя с послом Хозя (Хозь) Асаном
(1588 г.) содержится фраза: «И мы великий государь царь и великий князь Федор Иванович всея Русии самодержец пожаловали, велели именно беречи ваших гостей и торговых людей… и лишних пошлин имати не велели есмя» [3, с. 146].
В конце писем-грамот часто встречается фраза: «… посла твоего, пожаловав, отпустили …». Она не является указанием для определения документа как жалованной грамоты, т.к. не имеет договорнозаконодательного характера.
Послов иностранных государств (особенно восточных, нехристианских, государств) «жаловали» возможностью приложиться к царской руке или «видеть царские очи». В отдельных случаях послы и члены посольства одаривались государевым жалованьем.
Послы могли быть у царского стола в Грановитой палате Московского Кремля. Так, к царскому столу были званы персидские послы Бутак-бек и Анди-бек (Анди-Бек) (10 мая 1589 г.) [3, с. 127]. Гонец Кай «на отпуске» (16 июля 1592 г.) был пожалован 40 соболями «в 20 рублев», лисьей шапкой «в 5 рублев», сукном и «пансы-рем» «из казны» [3, с. 167].
В пятой «персидской» посольской книге [8] подробно описывается пребывание посла Али (Ази) Хосрова за столом у царя Федора Иоанновича (16 сентября 1593 г.) [3, с. 200-202]. «Пожаловал» царь посла через дьяка Андрея Щелкалова и «велел ему быти у себя у стола». За стол звал посла, находящегося в ответной палате, дьяк Василий Тараканов (Тороканов), а «являл» посла князь Василий Туренин [3, с. 202]. Стол был «в Грановитой в большой подписной палате». Слева от царя был виден Благовещенский собор, справа, в окне, – часы. В лавке у царя сидели бояре: князь Федор Иванович Мстиславский, князь Василий Иванович Шуйский, Степан Васильевич Годунов, Иван Васильевич Годунов «в нагольных шубах». Посол сидел «в кривом столе в лавке, что от Благовещенья, против другого окна палатнаго». Напротив него сидели «приставы Данило Ислен[т]ьев, Образец Вахромеев и Воин Оничков». В это же время приезжали к государю челобитники «от всех поморских городов», 73-х, «о торговле и о жалованной грамоте» [3, с. 202].
Царь Федор Иванович ответил гилян-скому царю Ахметю. Царская «любитель-ная» жалованная грамота (1592 г.) находится в составе первой «персидской» посольской книги [9, Л. 248-250]. Также она сохранилась в виде отдельного списка конца XVIII в. – начала XIX в. [10, Л. 2-3; 3, с. 158-159]. В ней присутствует статья, содержащая упоминание о пожаловании: «Мы пожаловали, вашим людем велели купити без запрещенья, и торг вашим лю-дем повольной в наших государствах дава-ти во всем велели есмя, и никоторого задержанья и убытков им чинити не велели». Грамота была составлена в Посольском приказе и выдана гилянскому послу Тюр-кемирю (Тюркемилю, Туркомилю).
Указание на пожалование могло содержаться в распорядительной документации, например, в наказе приставу дворянину Дмитрию Федоровичу Тургеневу, посланному в Нижний Новгород для встречи ки-зылбашских послов Бутак-бека и Анди-бека осенью 1589 г. [3, с. 10].
Распоряжение царя могло восприниматься как «пожалование», но не всегда под «пожалованием» подразумевалась выдача жалованной грамоты.
«Любительные» жалованные грамоты царя Федора Ивановича гилянскому царю Ахметю можно отнести к эпистолярно-договорно-законодательному виду: о «держании» в государевом «жалованье» царя Ахметя, о свободном въезде для ги-лянских торговых людей и о посылке грамоты астраханским воеводам, чтобы они с гостей и торговых людей царя Ахметя лишних пошлин не взимали (1590 г.) и о «дозволении» гилянским людям торговать в русском государстве и покупать черкесский полон «безо всякого запрещения» (1592 г.).
Большая часть дипломатической переписки представлена «любительными» грамотами. Эти грамоты могли также называться «извещением», «чеснейшим словом», «неисчетным поклоненьем».
По мнению Н.М. Рогожина, «любитель-ные» грамоты подтверждали мирные, дружественные отношения между госу- дарствами и содержали просьбу оказать содействие посольству [6, с. 11]. «Люби-тельные» грамоты – это грамоты государей с заявлениями о желании поддерживать мир и любовь между двумя державами. Они выражают желание иметь дальнейший обмен посольствами. Примером «любительной» грамоты является грамота царя Федора Ивановича шаху Аббасу I с гонцом Каем (1592 г.) [3, с. 169-170]. В основной части формуляра имеется «люби-тельная» статья: «Да и свыше того хотим быти, чтоб меж нас великих государей дружба и любовь множилась, и о всяком бы добре посланники меж нас на обе стороны ходили, и дорогу твоим людем в наши государства отворяем и поволной торг во всем им давати велели».
«Любительные» грамоты представляют трудность с точки зрения видовой классификации. В зависимости от содержания «любительные» грамоты можно отнести также к эпистолярно-удостоверительному виду.
К эпистолярно-удостоверительному виду относятся такие послания, в которых мог присутствовать элемент верительной грамоты. Это было характерно для дипломатических миссий, которые привозили грамоты о мирных и дружественных, т.е. «любительных» намерениях.
В первой русской грамоте царя Федора Ивановича шаху Аббасу I о взаимной дружбе, братстве, любви и ссылке (1588 г.) имеется статья, характерная для верительной грамоты: «А что он (посол) оучнет го-ворити, и ты б, брат наш, ему верил, и выслушав речь его, к нам отпустил, и с ним вместе к нашему царскому величеству прислал своих великих послов, которые бы могли меж нас доброе дело и братцкую любовь и докончание учинити, и на всякого недруга нам стояти заодин, и утвердити, и закрепити на веки» [11, Л. 3; 3, с. 4].
В русском переводе ответной грамоты (1590 г.) шаха Аббаса I царю Федору Ивановичу первая государева грамота названа «любительной»: «прислали естя от своего величества к нашему величеству свою лю-бительную грамоту» [12, Л. 2; 3, с. 128129].
В грамоте 1588 г. подтверждается желание иметь мирные и дружественные отношения между государствами. В ней содержится просьба оказать содействие посольству, возглавляемому посланником Григорием Васильчиковым: «… ты б, брат наш, нашего посланника принял и реч(ь) выслушал … и выслушав реч(ь) его, к нам о(т)пустил …» [11, Л. 3; 3, с. 4]. Этот документ можно отнести к верительным грамотам, поскольку тут говориться: «… ты б, брат наш, ему верил …».
Ответной на верительную грамоту царя Федора Ивановича была «любительная» грамота («любезное слово») персидского шаха Аббаса I, которая не содержала просьбы оказывать содействие посольству, но в ней упоминались должности и имена послов: «… послали есмя к вашему величеству посла своего великого, дворовых наших есаулов голову Бутак бека; а он у нашего величества во дворе человек великой и вернейший; да с ним в товарищах честнейшаго ч(е)л(о)в(е)ка своего Гади бека» (имеется ввиду, Анди-бек) [12, Л. 2 об.; 3, с. 129].
К эпистолярно-удостоверительному виду можно отнести верительные грамоты, отправленные в Персию:
-
1) с русским посланником, князем Григорием Васильчиковым и подьячим Афанасием Монастыревым (1588 г.);
-
2) с послом, князем Андреем Дмитриевичем Звенигородским и подьячим Дружиною Кузьминым (1594 г.);
-
3) с послом, князем Василием Васильевичем Тюфякиным и дьяком Семеном Емельяновым (1597 г.);
-
4) с послом, князем Александром Засе-киным, дворянином Темирем Засецким и дьяком Иваном Шараповым (1600 г.).
Персидские грамоты шаха Аббаса I не имеют аналогичной верительной статьи, но по своему содержанию относятся к верительным и «любительным» грамотам.
Трудности в определении вида вызывают «любительные» грамоты «с челобитьем», которые выступают в качестве приветствия или благодарения за «поминки» (подарки). В основном, это грамоты от шурина царя Бориса Федоровича Годунова к шаху Аббасу I.
Примером подобного документа является грамота Бориса Годунова к шаху Аббасу I, посланная с «поминками» с гонцом Каем (1592 г.): «… его величества брату высочайшему … Иранскому и Тиранскому, и Перситцким и Ширванские земли величеству государю шах Аббасову величеству царского величества слуга и коню-шей боярин и воевода дворовый и наместник Казанский и Астраханский Борис Федорович Годунов челом бъет» [3, с. 170171].
В основной части формуляра имеется статья: «И яз о том вида у всемогущего Бога милости прошу и радею сердечно и вперед радети хочю свыше прежнего … чтоб меж вас была совершенная дружба и любовь на веки неподвижно». В конце документа снова запись о челобитье: «Яз от вас великого государя шахова величества поминки платно принял с великою любовью … и челом бью кречет».
«Любительные» грамоты «с челобитьем» сочетают в себе просительный и рекомендательный виды частно-публичных документов.
Рассмотрев видовую принадлежность документов по сношениям России с Персией за период с 1588 г. по 1607 г., согласно классификации С.М. Каштанова, можно говорить о видовом разнообразии дипломатических источников.
Кроме того, наблюдается преобладание нескольких устойчивых линий «адресант-адресат»: царь Федор Иванович – шах Аббас, шах Аббас – царь Федор Иванович; шурин царя Борис Годунов – шах Аббас, шах Аббас – шурин царя Борис Федорович Годунов; царь Федор Иванович – гилян-ский царь Ахмет, гилянский царь Ахмет – царь Федор Иванович; царь Борис Федорович – шах Аббас, шах Аббас – царь Борис Федорович.
Выделяются и менее устойчивые линии «адресант– адресат»: гилянский царь Ахмет – шурин царя Борис Федорович, шурин царя Борис Федорович – гилянский царь Ахмет; шурин царя Борис Федорович – персидские ханы Фаргат и Мегди-гулы, персидские ханы Фаргат и Мегди-гулы – шурин царя Борис Федорович; персидский хан Фаргат – царь Федор Иванович; пер- сидский посол Ази Хосров – царь Федор Иванович; персидский посол Ази Хосров – шурин царя, боярин Борис Годунов; персидский посол Пиркулы-бек – царь Борис Федорович; шах Аббас – царь Димитрий Иванович (Лжедмитрий I).
В комплексе изучаемых источников можно выделить группу публичноправовых актов и группу частнопубличных документов. К первой группе относятся проекты договоров между Россией и Персией 1597 г. и 1600 г.
К частно-публичным документам можно отнести «любительные» грамоты «с челобитьем» от шурина царя, боярина Бориса Годунова шаху Аббасу, челобитные письма персидских послов Ази Хосрова и Пиркулы-бека, «любительные» грамоты, не содержащие элементов «пожалования» и статей, характерных для верительных грамот.
«Любительные» грамоты «с челобитьем» и письма относятся к дипломатической переписке и представляют группу публичных и частно-публичных документов. К дипломатической переписке можно отнести также все разновидности «люби-тельных» грамот по сношениям России с Персией, поскольку терминология, содержание, особенности формуляра позволяют рассматривать эти документы в качестве грамот-писем.
За исключением «докончальных» грамот и челобитных писем, дипломатические источники имеют сложную видовую природу, они сочетают в себе особенности актовых и эпистолярных источников. Предпринятая попытка классифицировать данные источники проводилась с учетом особенностей изучаемых источников.
Помимо указанного использования видовой классификации источников, отметим, что дипломатическая переписка и проекты договоров находятся в списках: 1) в составе посольских книг, 2) в делопроиз- водственных источниках Посольского приказа, представленных в форме столбцов, 3) в виде грамот XVIII в. Подлинные персидские грамоты тоже находятся в РГАДА, но датируются периодом после Смуты.
Дипломатические источники в виде грамот по сношениям России с Персией, в форме столбцов, и в составе посольских книг упомянуты в Описи Царского архива и архива Посольского приказа 1614 г. [13].
Попытка классификации предпринималась для реконструкции полного комплекса дипломатической переписки и договоров между Россией и Персией. Всего удалось установить пятьдесят шесть документов, к которым можно прибавить семь, упомянутых только в «Описи архива Посольского приказа 1614 года», составленной по указу царя Михаила Федоровича 16 ноября 1614 года окольничим, князем Даниилом Ивановичем Мезецким и дьяком Петром Даниловым [13, с. 91-92].
Изучение содержания договоров, грамот и писем необходимо с привлечением информации, содержащейся в статейных списках – отчетах послов, что было предпринято востоковедом П.П. Бушевым [14].
Наличие классификации облегчает работу с документами, но при этом возникают и определенные трудности. В силу своих особенностей исторический источник может с трудом «вписываться» в классификационную схему. Классификация позволяет выделить общие черты источников, но при этом приходится уделять вни- мание индивидуальным источниковым особенностям. Эти особенности связаны со свойством информативности источника и с функцией воздействия посредством передачи информации, а также со степенью восприимчивости и особенностью восприятия информации определенным человеком, исследователем.
Список литературы Классификация дипломатических источников по связям Россией и Персией за 1588-1607 гг. из фонда-коллекции РГАДА
- РГАДА. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 1. Книги и дела. 1588-1594 гг. 5 ед. хр.; Оп. 2. Грамоты. 1588-1607 гг. 13 ед. хр.; Оп. 3. Трактаты 1588-1600 гг. 5 ед. хр.
- Каштанов С.М. Русская дипломатика. - М., 1988. - 231 с.
- Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. 1. - СПб., 1890. - 453 с.
- Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. 2. - СПб., 1892. - 445 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - СПб., М., 1880. - Т. 1. А-З. - [4], LXXXIV, 723 с.