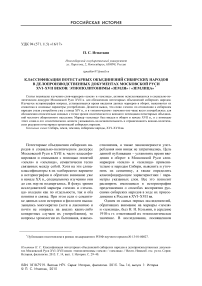Классификация потестарных объединений сибирских народов в делопроизводственных документах Московской Руси XVI-XVII веков: этнополитонимы "земля" / "землица"
Автор: Игнаткин Павел Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению слов-маркеров «земля» и «землица», активно использовавшихся в социально-политическом дискурсе Московской Руси XVII в. для обозначения потестарных объединений сибирских народов. Изучается историография вопроса, устанавливается время введения данных маркеров в оборот, выясняются их семантика и основные параметры употребления. Делается вывод, что слово «земля» по отношению к сибирским народам стали употреблять уже с конца XIV в., ив «политическом» значении оно чаще всего употреблялось для обозначения относительно мощных с точки зрения политического и военного потенциала потестарных объединений местного аборигенного населения. Маркер «землица» был введен в оборот в начале XVII в., и с помощью этого слова в его «политическом» аспекте указывалось на незначительность и ограниченность военно-политических ресурсов потестарных организаций сибирских народов.
Сибирь, земля, землица, сибирские народы, xvi-xvii вв.
Короткий адрес: https://sciup.org/147219228
IDR: 147219228 | УДК: 94
Текст научной статьи Классификация потестарных объединений сибирских народов в делопроизводственных документах Московской Руси XVI-XVII веков: этнополитонимы "земля" / "землица"
Потестарные объединения сибирских народов в социально-политическом дискурсе Московской Руси в XVII в. часто классифицировали и описывали с помощью понятий «земля» и «землица», семантически тесно связанных между собой. Хотя на эти слова-классификаторы в их «сибирском» варианте в историографии и обратили внимание уже в начале XX в., специальному изучению они до сих пор не подвергались. В фокус зрения исследователей маркеры «земля» и «землица» входили как по отдельности, так и оба понятия в связке. При этом если о семантике данных слов историки и филологи высказывались многократно (хотя и лаконично и почти не опираясь на анализ каких-либо конкретных случаев их употребления), то вопросы хронологии их бытования, взаимо- отношения, а также закономерности употребления ими никак не затрагивались. Цель данной публикации – установить время введения в оборот в Московской Руси слов-маркеров «земля» и «землица» применительно к народам Сибири, выяснить и уточнить их семантику, а также определить классифицирующие характеристики / параметры указанных слов. Все это позволит расширить имеющиеся в историографии представления о способах восприятия русскими сибирских народов в ходе их присоединения к России в XVI–XVII вв.
Одним из самых первых исследователей, обративших внимание на маркеры «земля» и «землица», был Н. Н. Козьмин, в середине 1910-х гг. отметивший их этнополитическое значение. В исследовании, посвященном истории енисейских киргизов, он указал, что в русских документах XVII в. «земли» и «землицы» в отношении изучаемой им этногруппировки обозначали группы мелких улусов или племен, объединившихся между собой [2010. С. 295]. В 1930-е гг. С. В. Бахрушин, также обратившись к изучению енисейских киргизов, подчеркнул политический смысл понятия «Киргизская земля», употреблявшегося в источниках XVII в., под которым в документах, по его мнению, подразумевался конгломерат различных «родов» и «землиц», возглавляемых ими. В отношении же слов «род» и «землица» он заметил, что определить точно, что подразумевалось в русских документах под этими названиями, невозможно: под ними фигурировало и целое племя, и род в узком смысле, и семья [1955. С. 176]. По мнению Л. П. Потапова, высказанному в начале 1950-х гг., под «землицами», входившими в состав Красноярского уезда XVII в. (аринская, ка-чинская, яринская, кашинская, камасинская, канская, братская, тубинская, саянская, кай-сотская «землицы»), понимались подразделения местного разноплеменного населения, в свою очередь делившиеся на улусы и волости [1952. С. 63]. Позже, уже в отношении тубаларов он отметил, что «волостями» или «землицами» в XVII в. русские обозначали их сеоки (роды. – П. И.) или их подразделения [1972. С. 53].
В 1960–1970-е гг. был высказан еще целый ряд конструктивных точек зрения о значениях слов «земля» и «землица», однако после, вплоть до 1990-х гг. в поле зрения исследователей эти маркеры не входили. Так, О. Б. Долгих, обратившись к изучению этнического состава Красноярского уезда XVII в., отметил, что в одних случаях за «землицами» скрывалось племя (аринская, качинская, камасинская «землица»), в других – конгломераты племен и родов даже разного этнического происхождения (удинская, тубинская «землица») [1960. С. 222– 223]. Филолог Н. Е. Попова указала, что в Сибири XVII в. «землицами» назывались области, заселенные новыми подданными из числа аборигенов, часто выходившими из повиновения [1963. С. 39–40]. Понятие же «земля», по ее мнению (на примере оборотов «Киргизская земля» и «Земля Сибирская»), употреблялось со значением «страна», «государство» [Там же. С. 41]. Сразу отметим, что в последующем все другие филологи, в чью сферу внимания входило слово «землица» применительно к аборигенам Сибири XVII – начала XVIII в., считали, что оно употреблялось в значении «территория», «край», «область», «местность» [Словарь русского языка…, 1978. С. 375; Словарь русской народно-диалектной речи…, 1991. С. 50; Словарь народно-разговорной речи…, 2001. С. 79; Исторический словарь…, 2003. С. 323; Майоров, 2011. С. 165], а также со смыслом «аборигенное население» [Словарь народно-разговорной речи…, 2001. С. 79]. В отдельных случаях дают также объяснения «страна», «государство» (в уменьшительном значении) [Словарь русского языка…, 1978. С. 375]. Однако предложенные ими интерпретации маркера «землица» отражают не все значения этого понятия. Как видим, его употребление в «политическом» смысле – как обозначение политических форм существования аборигенных этноколлективов Сибири – ими почти не учитывается.
Этнограф Ю. Б. Симченко в отношении Красноярского уезда XVII в. заметил, что «землицы» аборигенов, входивших в его состав, не являлись стабильными объединениями, образуя зачастую произвольные союзы племен и родов [1965. С. 148]. По мнению В. Г. Бабкова, аборигенные этносоциумы Сибири, обозначавшиеся «землями» и «землицами», были равнозначны большим и малым общностям коренного населения, сгруппированного не только по территориальному, но и по другим признакам, в которых в ряде случаев угадываются черты племенных микроэтносов [1973. С. 11]. Согласно точке зрения Ч. М. Таксами и В. А. Туголукова, понятия «земля» и «землица» имели чисто описательное (в этнографическом смысле) значение и обыкновенно употреблялись русскими на первом этапе их знакомства с коренным населением. Административно-податного или конкретного социального значения они не имели [1975. С. 79]. В последующем эту же точку зрения разделила Е. П. Коваляш-кина [2005. С. 120] и А. С. Хромых [2012. С. 199].
Начиная с конца 1990-х гг. с резким увеличением исследовательского интереса к изучению средств описания русскими аборигенов Сибири акцент в интерпретации значений данных понятий изменился. Так, С. В. Соколовский, приведя в пример словар- ные данные, собранные в XIX в. В. И. Далем, одним из первых акцентировал внимание на широкий диапазон значений слова «земля» (при анализе понятия «туземец», употреблявшегося в XVIII–XIX вв. по отношению к аборигенным народам Сибири), закрепленных за ним в русском языке: «страна, народ и занимаемое им пространство, государство, владение, область, край, округ»; «участок поверхности земли нашей, по природным отношениям своим, или по праву владения, составляющий особняк» (цит. по: [Соколовский, 1998. С. 74–75; 2001. С. 46]). В отношении слова «землица» он предположил, что его распространение в Сибири было связано с использованием в XVI–XVII вв. уменьшительных суффиксов, отражавших как традицию канцелярского стиля (обращение к начальству предполагало самоуни-чижительность), так и формировавшейся иерархией и неравенством между победителями и покоренными аборигенами, чей образ жизни и географическая отдаленность от центра страны ассоциировались с незначительностью, малостью и, в некоторых контекстах, с пренебрежительным отношением [Соколовский, 1998. С. 77; 2001. С. 51]. По мнению Л. И. Шерстовой, понятие «землица» в XVIII в. употреблялось не только в географическом смысле, но отражало определенную этническую и политическую целостность. Именно в последнем значении этот термин встречается при характеристике сибирских раннегосударственных образований [2006. С. 382]. Д. М. Исхаков обратил внимание на устойчивый оборот «Сибирская земля», использовавшийся в русских источниках XVI в. наряду с выражениями «страна Сибирская» и «Сибирское царство» для обозначения Сибирского юрта, и указал на то, что эти названия передавали идею определенной консолидированости этнополитической общности, образовавшейся в рамках Тюменского и Сибирского ханств [2002. С. 12; 2009. С. 53]. А. С. Зуев отметил, что слова «земля» и «землица» являлись этнополитонимами и в XVII в. обозначали сообщества сибирских аборигенов (преимущественно оседлых, бродячих или кочевых групп таежной и тундровой зон), еще не подчиненных или находившихся в процессе подчинения [2011. С. 89].
Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени в отношении слов-маркеров «земля» и «землица» в их
«сибирском» варианте высказано достаточно много суждений, но целостная картина о хронологии, семантике и основных параметрах употребления отсутствует.
Анализ источников позволяет выделить две основные зоны употребления слов «земля» и «землица» в отношении аборигенов Сибири, отличающиеся хронологией и широтой распространения – Западную (территориально от Урала до Верхнего Приобья), Южную и Восточную (от Верхнего Приобья и далее на восток до Тихого океана) Сибирь. Сразу отметим, что если понятие «земля» использовалось в Московской Руси как в делопроизводственных материалах, так и в памятниках книжности, то слово «землица» употреблялось в сугубо деловой письменности и было не характерно для нарративных видов источников (включая сибирские летописи). В целом следует отметить, что слово «земля» (фиксируется уже в XI в.) в языке Древней, а позже и Московской Руси употреблялось для передачи целого ряда значений, взаимосвязанных между собой (земная твердь, земная поверхность, владение, угодье, земля как место обитания людей, страна, государство, край, население какой-либо определенной территории и др.) [Срезневский, 1893. Стб. 972–975; Львов, 1975. С. 179, 181; Словарь русского языка…, 1978. С. 375–377; Словарь древнерусского языка…, 1990. С. 371–376]. Понятие «землица», известное с XII–XIII вв., использовалось как слово с уменьшительным значением, образованное от слова «земля» в значении – обрабатываемая земля, пашня, земельное владение, имение, угодье [Срезневский, 1893. Стб. 971; Кочин, 1937. С. 126; Попова, 1963. С. 40; Словарь русского языка…, 1978. С. 375; Словарь древнерусского языка…, 1990. С. 370]. При этом разница во времени введения их в оборот в качестве инструментов классификации сибирских этносоциумов была значительной: так, если слово «земля» стали употреблять уже с конца XIV в., то маркер «землица» – только с начала XVII в. Также подчеркнем, что слова-классификаторы «земля» и «землица» применялись по отношению как к кочевым и бродячим аборигенам Сибири, так и к этносам, ведущим оседлый образ жизни. Употребление и распространение этих слов никак не зависело от хозяйственно-экономического уклада жизни «сибирских иноземцев».
В отношении хронологии понятий «земля» и «землица» следует заметить следующее.
По отношению к отдельным народам Урала и Зауралья классификатор «земля» стали употреблять, по крайней мере, уже с конца XIV в. Так, в «Житии Стефана Пермского», созданном в обозначенное время, неоднократно используется оборот «Пермская земля», а также приводится этнографический перечень «местом и странам, и землям и иноязычником, живоущим вкроуг около Перми», куда, например, были зачислены народы, проживавшие и в СевероЗападной Сибири – югра, вогулы и само-едь [Житие…, 1897. С. 9]. Слово «земля» здесь, скорее всего, передает широкий круг значений: под ним может пониматься и территория, и население, и политическая организация местных народов. В связи с активизацией русско-сибирских отношений в Московском государстве в XV, а особенно во второй половине XVI в. частотность употребления слова «земля» по отношению к западносибирским этносоциумам резко возросла. В это время в источниках упоминается целый ряд «земель», соответствовавших определенным потестарным объединениям сибирских татар, манси, хантов, селькупов и ненцев, располагавшихся в данном регионе: «Сибирская», «Югорская», «Кодская», «Пелымская», «Сургуцкая», «Ля-пинская» и др. «земли». В связи с присоединением этих политических образований к России в конце XVI – начале XVII в. обозначать их по «землям» прекращают. В последующем, в XVII в. слово «земля» в значении «потестарное объединение» употребляли только по отношению к тем из аборигенов Западной Сибири, которые были не покорены / слабо подчинены русским и обладали автономией (например, ненцы). К западносибирским автохтонам, достаточно прочно подчиненным Москве (сибирские татары, манси, ханты, селькупы), маркер «земля» в указанное время применяли уже без связи с их раннеполитическими объединениями, используя его в значении «территория», «пространство, занимаемое тем или иным народом». Исключение составляет выражение «Сибирская земля» / «земля Сибирская», которое с рубежа XVI–XVII вв. стало служить родовым понятием для наименования всех русских территорий, расположенных за Уралом. Правда, оно тогда употреблялось не столько в политическом, сколько в географическом смысле.
Маркер «землица» для обозначения большинства аборигенов Западной Сибири (сибирских татар, манси, хантов, селькупов) в изучаемое время вообще не употреблялся. Изредка в XVII в. его использовали по отношению к башкирам и ненцам. Отмеченное обстоятельство связано, скорее всего, с тем, что большинство указанных народов в XVI в. либо входило в состав Сибирского юрта («Сибирского государства / царства / земли / страны»), либо находилось от него в зависимости. Кроме того, почти все указанные этногруппировки с самого начала их присоединения к России, последовавшего в конце XVI в., были преобразованы в русские «ясачные волости». Понятие же «землица» в его «политическом» значении, как будет показано ниже, употреблялось преимущественно для обозначения независимых потестарных объединений сибирских аборигенов, а поэтому для классификации большинства западносибирских этносов с точки зрения их политико-правового статуса оно не подходило.
Для характеристики политического состояния аборигенов Южной и Восточной Сибири маркер «земля» стали использовать с рубежа XVI–XVII вв., и в связи с длительностью и многоэтапностью подчинения местного населения это слово употреблялось на протяжении всего изучаемого времени. В данном регионе понятие «земля» активно использовали по отношению ко всем без исключения народам, проживавшим там: «Кузнецкая», «Киргиская», «Саянская», «Мацкая», «Тюлкина», «Канская», «Камасинская», «Ка-чинская», «Маторская», «Тубинская», «Те-леская», «Братцкая», «Балаганская», «Гу-ляшская», Лалагирская», «Шелганская», «Тунгуская», «Ламская», «Яколская» / «Якутцкая», «Даурская» «земля».
Что же касается классификатора «землица», то в русский социально-политический дискурс для обозначения сибирских народов он был впервые введен в оборот именно в обозначенном регионе в начале XVII в. – при продвижении русских на юго-восток Западной Сибири. Один из наиболее ранних случаев употребления данного слова, выявленный нами, зафиксирован в царском наказе 1604 г. основателям Томска Г. Писемскому и В. Тыркову, которым после обустройства на новом месте вменялось в обязанность собрать информацию о народах, проживавших в междуречье Верхней Оби и Верхнего Енисея («чяты», «киргизы», «телесы», «кузнецы») с целью последующего их обращения в русское подданство. В Москве этнополитические объединения этих еще неподчиненных и почти неизвестных народов, классифицированные на «волости» и «орды», были также обозначены и «землицами»: «и в волости и в чяты и в киргизы и в орды и в телесы и х кузнецом х князьком и мурзам и к ясашным людем посылати им служивых людей… чтоб они были под государевой царскою высокою рукою… а которые будут ис тех из дальних землиц лучие люди похотят о своих нужах о каких ехать к Москве государю царю и великому князю Борису Федоровичю всея Ру-сии бити челом и князьков и мурз к Москве отпускать…» [Бояршинова, 1953. С. 43]. Этот же наказ был повторен в отписке кет-ского воеводы П. Бельского в Томск в том же 1604 г.: «велено вам по государеву указу в Томи город поставить и приводить под государскую высокую руку те землицы и волости, которые и посямест не под царскою высокою рукою» [Миллер, 1999. С. 404]. В следующем царском наказе Г. Писемскому и В. Тыркову от 1605 г. требования о сборе информации о коренных народах повторились: им также наказывалось «собрать вести о землицах вверх по Оби и другим рекам». В этом же документе к «землицам» совершенно ясно были отнесены и телеуты, которых следовало уговорить подчиниться власти Москве: «и послали б вы в дальние землицы в телеуты добрых и просужих служилых людей с толмачами и с царским жалованьем и звать их под высокую царскую руку» [Модоров, 1996. С. 370]. Обращает на себя внимание то, что слово-классификатор «землица» впервые было введено в оборот именно там, где границы и сфера влияния бывшего Сибирского ханства заканчивались (Верхнее Приобье), и употреблено именно по отношению к тем этносам, которые в число его поданных не входили.
Далее, при продвижении русских по Восточной Сибири, по «землицам» классифицировались все без исключения проживавшие там этносы.
Значения, содержащиеся в словах «земля» и «землица», во многом совпадали. Выделим черты сходства.
-
1. Прежде всего, о близости значений маркеров «земля» и «землица» свидетельствует широко распространенное в источниках чередование этих слов в отношении одних и тех же этногруппировок, постоянно встречаемое даже в одном и том же документе: «Братцкая земля / землица», «Даурская земля / землица», «Киргизская земля / землица», «Саянская земля / землица», «Якутцкая земля / землица» и др. С другой стороны, не исключено, что дрейф предпочтения между понятиями «земля» и «землица» обуславливался также и смысловыми различиями, содержавшимися в указанных словах. Можно предположить, что русские, не бессистемно, а, наоборот, целенаправленно варьировали эти понятия, стремясь поставить ударения на разных значениях, содержащихся в каждом из них. Как будет сказано далее, употребление суффикса - иц ( а ) подчеркивало особое отношение говорящего к объекту высказывания.
-
2. Регулярно в источниках понятия «земля» и «землица» употреблялись в значении определенной территории, о чем ясно свидетельствует целый ряд характеристик, описывающих их как пространство: в «земли» и «землицы» можно было приехать, основать там населенный пункт или город, завести пашню, там проживали люди, обитали звери и т. д.
-
3. Под сибирскими «землями» и «землицами» изначально также подразумевались и представители аборигенного населения края, на что указывает наделение этих понятий отчетливыми антропологическими характеристиками и употребление их в значении «люди». К примеру, «Сибирская земля» в летописных известиях середины XVI в. могла «видеть» «великую Божию силу», «вдаваться» в «волю» Ивану IV [Степенная книга…, 2008. С. 371], «Сибирскую землю» можно было привести к «правде» [Лицевой летописный свод…, 2010. С. 127]. «Земли» способны выплачивать ясак (1605 г.) [РИБ, 1875. Стб. 163, 164], не оказывать поддержки (1608 г.) [Там же. Стб. 176], ходить в военные походы (1612 г.) [Миллер, 2000. С. 263], кочевать (1621 г.) [Там же. С. 306], строить каменное укрепление (1626 г.) [Прибыльные дела…, 2000. С. 82], раскаиваться в содеянных преступлениях (1645 г.) [Там же. С. 156]; «земли» могут быть переведены на другую территорию (1690 г.) [Русско-монгольские отношения, 2000. С. 254].
-
4. Маркеры «земля» и «землица» также чрезвычайно активно употребляли для обозначения политических / потестарных объединений аборигенного населения Сибири, независимых от России или неокончательно интегрированных в ее политическую систему. Об этом свидетельствует целый ряд наблюдений за употреблением данных понятий и их контекстами. По замечанию А. С. Зуева, слова «земля» / «землица», будучи этнополитонимами, обязательно дополнялись прилагательными, фиксировавшими либо их политический статус (через привязку к имени их предводителя или правителя), либо их этническую принадлежность [2011. С. 89], что указывает на независимость таких объединений или на их особое политико-правовое положение в составе России (неполная подчиненность). Кроме этого, источники совершенно отчетливо указывают на связь понятий «земля» и «землица» с политически консолидированными объединениями (в случае «земли» – даже крупными) сибирских аборигенов. К примеру, оборот «Сибирская земля» в середине XVI – начале XVII в. коррелировал со словами «государство» [СГГД, 1819. С. 132; Памятники дипломатических сношений…, 1851. Стб. 939, 1042–1043], «царство» [Там же. Стб. 922, 939, 1042–1043; 1852. Стб. 466, 988–989; Посольская книга…, 1979. С. 130], «юрт» [Памятники дипломатических сношений…, 1887. С. 479– 480; Санин, 1998. С. 12, 13–14] и наполнялся не географическим, а политическим смыслом, являясь обозначением Сибирского ханства. Целый ряд «земель», размещаемых русскими в середине XV – начале XVII в. в Северо-Западной Сибири («Югорская», «Кодская», «Пелымская» и др. «земли»), как уже говорилось выше, совпадал с соответствующими этнополитическими образованиями обских угров. При этом, поскольку указанные политические структуры к началу XVII в. были присоединены к России, разделены и трансформированы в российские административно-податные единицы («во-
- лости»), в более позднее время маркер «земля» к ним уже не употреблялся.
«Землицы» в свою очередь можно «подзывать» к набегу (1619 г.) [Миллер, 2000. С. 292], они «живут» «по сторонним речкам» и «ясаку с себя не платят» (1631 г.) [Миллер, 2005. С. 232]. Однако следует заметить, что в значении «люди» изучаемые классификаторы употреблялись реже, чем со смыслом «территория».
Значение независимости или неокончательной подчиненности, заложенное в понятиях «земля» и «землица», также подтверждается тем фактом, что русские с самого начала четко отделяли этнотеррито-риальные образования сибирских аборигенов, уже подчиненных и обозначенных «волостями», от этносоциумов, классифицируемых по «землям» и «землицам», указывая тем самым на существенные смысловые различия, лежавшие между этими понятиями. Приведение той или иной группы аборигенного населения Сибири в русское подданство (даже номинально) включало идеолого-политический механизм по их виртуальному освоению, заключавшемуся в лексическом переноминировании групп аборигенов и колонизируемых территорий, присоединяемых к России. Процесс переклассификации вновь подчиненных аборигенных сообществ запускался с момента объясачивания и принесения «шерти» русскому правителю и заключался в переформатировании их «земель» и «землиц» или в «ясачные волости» (для аборигенов, ведущих оседлый образ жизни), или в учете их по «родам» и «улусам» (для кочевого или бродячего населения). При этом на статус новых подданных указывало то, что их вместе с тем определенное время продолжали маркировать также «землями» и «землицами». В источниках содержится значительное количество фактов, наглядно иллюстрирующих связь между процессом объ-ясачивания и принятия русского подданства сибирскими аборигенами, с одной стороны, и их вербальной переклассификацией – с другой.
Весьма показательны в этом отношении сведения, сообщенные в отписке в Москву енисейского воеводы С. Шеховского от 1631 г. о службе атамана М. Перфильева. В описаниях заслуг последнего только что подчиненные тунгусские «землицы» сразу же начинают фигурировать как «волости». В документе сообщается, что М. Перфильев привел «вновь под твою царскую высокую руку вверьхь по Иниму реке новую землицу налягов… Да он же, Максим, тебе, государю, служил, привел де вновь под твою царскую высокую руку новую волость мунгулеи… да верхних тунгусов… Да он же де тебе, государю, служил, привел вновь под твою царскую высокую руку новую волость ардынцов… да верхних шаманских тунгусов…». Из итогов этой деятельности казачьего предводителя, доложенных С. Шеховским при классификации им новых подданных, можно проследить быстроту, с какой только что покоренные «землицы» аборигенов начинали рассматриваться «волостями»: «И всего де он, Максим, в прошлом во 136-м году собрал вновь твоего государева ясаку с новых волостеи с наля-гов, и с мугулеи, и с верхних тунгусов, и с ардынцов, и с шаманских тунгусов десять сороков дватцать восемь соболеи, да трит-цать недособолеи, да три шубенка тунгус-ких собольи». Подводя итог, источник, балансируя между двумя понятиями «волость» и «землица», в первом случае подчеркивает подчиненность этих тунгусов Москве, а во втором – указывает на их недавнее независимое состояние: «Да ныне де тех новых волостеи тунгуские люди тебе, государю, ясак платят по вся годы беспе-реводно, а прежде ево, Максима, тех новых землиц тебе, государю, ясаку не имывано» [Миллер, 2005. С. 172–173].
Непрочная закрепленность сибирских народов в российском подданстве позволяла русским называть «землицами» даже давно объясаченное население. К примеру, целый ряд аборигенов Южной Сибири (аринцы, качинцы, камасинцы, канские татары, ту-бинцы саяны, кайсоты, енисейские киргизы), объясаченных, но не особенно надежных или даже открыто враждовавших с русскими на протяжении всего XVII в., в источниках фигурировали в указанное время преимущественно как «земли» / «землицы», маркером же «волость», несмотря на их формальное русское подданство, их обозначали не так часто. На Северо-Западе Сибири крупное племенное объединение ненцев «карачейская самоядь», оказывавшее в середине XVII в. сопротивление русским и фактически не подконтрольное Москве, также было обозначено «землей» («Большая Карачейская земля», 1653 г.) [Прибыльные дела…, 2000. С. 233, 234].
О значениях независимости и непокорности, содержащихся в маркерах «земля» и «землица», свидетельствует и их лексическая валентность с набором слов, передававших идею не подчиненности и противостояния. Так, Н. Е. Попова отметила, что прилагательное «немирная» всегда употреб- лялось со словом «землица», а «волость» в подобном контексте не встречается [1963. С. 39]. Добавим также, что маркер «земля», а в особенности же слово «землица» регулярно объединяли и с другими маркерами, передававшими значения неподчинения, сопротивления или новоприобретенности: «непослушные», «непокорные», «новые не-ясашные», «новые», «новоприбылые», «но-воприискные» и др.
Отличия, существовавшие между понятиями «земля» и «землица», употреблявшимися по отношению к сибирским народам, сосредотачивались в основном в зоне значения «политическое объединение», формировавшего важнейшую семантическую нагрузку в обоих этих словах.
Разница между изучаемыми словами-классификаторами заключалась в том, что если слово «земля» в «политическом» смысле в основном использовалось для обозначения крупных и достаточно мощных политических объединений, то маркер «землица» отражал качественные и эмоциональные оттенки незначительности. Так, по отношению к весьма значительным и прочным политическим образованиям сибирских татар («Сибирская земля»), черных калмыков («Калмыцкая земля»), монголов («Мунгаль-ская земля») слово «землица» или вообще никогда не употреблялось, или его использование для их классификации было не характерным. При этом различие изучаемых слов-маркеров не лежало в области размеров территории. Многие сибирские «землицы», если их рассматривать с точки зрения занимаемой ими площади, могли быть весьма значительны (к примеру, «Киргиская», «Братская» «землица»). Следовательно, при употреблении слова «землица» в сибирском делопроизводстве исходили, скорее всего, из качественных, а не количественных характеристик. Это полностью согласуется с наблюдениями В. А. Червовой, указавшей на то, что диминутивный суффикс -иц(а) в русском языке XV–XVII вв. чаще всего выступал в оценочной функции, в меньшей степени он использовался для передачи размерной и объективно-количественной характеристик [1968. С. 22–23]. Учитывая сказанное, а также принимая во внимание значения, весьма твердо закрепленные за словом «землица» в русском языке того времени (земельное владение, имение, угодье), следует заключить, что данный маркер в его «политическом» значении, с точки зрения русских XVII в., выполнял роль слова, суживающего набор характеристик, которыми обладало понятие «земля» (крупное потестарное объединение, страна или даже государство), и передавал значение незначительности того или иного потестарного образования сибирских аборигенов (территория, владение, подвластное тому или иному «князцу»), в первую очередь с его политической точки зрения, используясь для описания границ военно-политических ресурсов местных этногруппировок, а не для указания обширности территории их обитания.
Таким образом, понятия «земля» и «землица» являлись полисемантичными и чаще всего применялись в отношении сибирских народов в значении «территория», «потес-тарное объединение» и «население». Различие между изучаемыми словами заключалось в том, что понятие «землица», являясь уменьшительным от слова «земля», в одних и тех же значениях с ним передавало качественные и оценочные характеристики незначительности. Для структурирования географического и этнополитического пространства Зауралья слово «земля» стали использовать, по крайней мере, уже с конца XIV в. В «политическом» значении оно чаще всего употреблялось для обозначения относительно мощных с точки зрения политического и военного потенциала потестар-ных объединений местного аборигенного населения. Маркер «землица» был введен в оборот гораздо позже – только в начале XVII в., и с помощью этого слова в его «политическом» аспекте указывалось на незначительность и ограниченность военнополитических ресурсов потестарных организаций сибирских народов.
Список литературы Классификация потестарных объединений сибирских народов в делопроизводственных документах Московской Руси XVI-XVII веков: этнополитонимы "земля" / "землица"
- Бабков В. Г. Территориально-племенные общности обских угров и нарымских селькупов (XVII-XIX вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1973. 22 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Избранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Ч. 2: История народов Сибири в XVI-XVII вв. 299 с.
- Бояршинова З. Я. Основание города Томска//Вопросы географии Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1953. Сб. 3. С. 21-48.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 623 с.
- Житие Святого Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1897. 119 с.
- Зуев А. С. Российское государство и на-роды Сибири: характер и этапы взаимоотношений во второй половине XVI -начале XX в.: Учеб. пособие/Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 188 с.
- Исторический словарь Восточного Забайкалья (по материалам нерчинских документов XVII-XVIII вв.)/сост. Л. М. Любимова, Г. А. Христосенко. Чита, 2003. Т. 1. 350 с.
- Исхаков Д. М. О методологических аспектах исследования проблемы становления сибирско-татарской этнической общности//Сибирские татары: Сб. ст./Под ред. С. В. Сусловой. Казань, 2002. С. 7-16.
- Исхаков Д. М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. Казань: Татар. кн. издво, 2009. 142 с.
- Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепции государственной политики и областническая мысль. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 326 с.
- Козьмин Н. Н. Избранные труды. Хакасы. Туба. Князь Иренак. Д. А. Клеменц и историко-этнографические исследования в Минусинском крае. Абакан: Журналист, 2010. 311 с.
- Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. 487 с.
- Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. М.: ООО «Фирма» «АКТЕОН», 2010. Кн. 22: 1553-1557. 558 с.
- Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М.: Наука, 1975. 367 с.
- Майоров А. П. Словарь русского языка XVIII века: Восточная Сибирь. Забайкалье. М.: Азбуковник, 2011. 584 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 796 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2005. Т. 3. 598 с.
- Модоров Н. С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и культурные отношения (XVII-XIX вв.). Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. ун-та, 1996. 399 с.
- Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб.: Тип. II отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1851. Ч. 1: Сношения с государствами европейскими. Т. 1: Памятники дипломатических сношений с империей Римской (с 1488 по 1594 г.). 1620 стб.
- Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб.: Тип. II отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1852. Ч. 1: Сношения с государствами европейскими. Т. 2: Памятники дипломатических сношений с империей Римской (с 1594 по 1621 г.). 1542 стб.
- Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским/Под ред. Г. Ф. Карпова. СПб.: Тип. Елеонскаго и Ко, 1887. Т. 2. 705 с.
- Попова Н. Е. О некоторых группах лексики красноярских деловых документов XVII -начала XVIII в.//Учен. зап. Красноярск. гос. пед. ин-та. 1963. Т. 25, вып. 3. С. 30-49.
- Посольская книга по связям России с Англией. 1613-1614 гг./Подгот. текста и вступ. ст. Н. М. Рогожина; под ред. и с предисл. В. И. Буганова. М.: Изд-во Ин-та истории СССР, 1979. 244 с.
- Потапов Л. П. Краткие очерки истории этнографии хакасов (XVII-XIX вв.). Абакан: Хакоблгосиздат, 1952. 217 с.
- Потапов Л. П. Тубалары Горного Алтая//Этническая история народов Азии/Отв. ред. С. М. Абрамзон, Р. Ф. Итс. М: Наука, 1972. С. 52-66.
- Прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII -начала XVIII в.: Сб. док./Сост. М. О. Акишин. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 399 с.
- Русская историческая библиотека. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. 2. 656 с.
- Русско-монгольские отношения. 1685-1691: Сб. док./Под ред. Н. Ф. Демидовой. М.: Вост. лит., 2000. 488 с.
- Санин О. Г. Грамоты царя Кучума к Ивану IVикм осковским боярам//Тобольский хронограф: Сб./Под ред. Ю. П. Прибыльского. Екатеринбург: Уральский рабочий, 1998. Вып. 3. С. 10-14.
- Собрание государственных грамот и договоров. М.: Тип. Селивановскаго, 1819. Ч. 2. 612 с.
- Симченко Ю. Б. Тамги народов Сибири XVII века. М.: Наука, 1965. 227 с.
- Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): В 10 т. М.: Рус. яз., 1990. Т. 3. 511 с.
- Словарь народно-разговорной речи г. Том-ска XVII -начала XVIII века/Под ред. В. В. Палагиной, Л. А. Захаровой. Томск: Изд-во ТГУ, 2001. 335 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв./Под ред. С. Г. Бархударова. М.: Наука, 1978. Вып. 5. 392 с.
- Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII -первой половины XVIII в./Под ред. В. В. Палагиной, К. А. Тимофеева. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 180 с.
- Соколовский С. В. Понятие «коренной народ» в российской науке, политике и законодательстве//Этнографическое обозрение. 1998. № 3. С. 74-89.
- Соколовский С. В. Образы других в российской науке, политике и праве. М.: Путь, 2001. 235 с.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1893. Т. 1. 1420 стб.
- Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: Тексты и комментарии: В 3 т. М.: Языки славян. культур, 2008. Т. 2. 568 с.
- Таксами Ч. М., Туголуков В. А. Административные волости, улусы и роды у на-родов Сибири (XVII -начало XX в.)//Социальная история народов Азии/Под ред. А. М. Решетова, Ч. М. Таксами. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1975. С. 74-99.
- Хромых А. С. Сибирский фронтир. Встреча цивилизаций от Урала до Енисея (последняя треть XVI -первая четверть XVII века): Моногр./Краснояр. гос. пед. ун-т. им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2012. 312 с.
- Червова В. А. Функции уменьшительных суффиксов имен существительных в русском языке XV-XVII вв.//Материалы и исследования по сибирской диалектологии и русской лексикологии (Материалы VIII зональной конференции вузов Сибири и Дальнего Востока)/Под ред. Н. А. Цомакион. Красноярск: Красноярский рабочий, 1968. С. 6-28.
- Шерстова Л. И. Глава 2. Этническая история (алтайцы)//Тюркские народы Сибири/Под ред. Д. А. Функа, Н. А. Томилова. М.: Наука, 2006. С. 380-391.