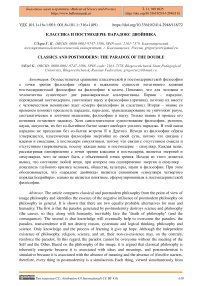Классика и постмодерн: парадокс двойника
Автор: Эзри Г.К.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Осуществляется сравнение классической и постмодернистской философии с точки зрения философии образа и выявление сущности негативного влияния постмодернистской философии на философию в целом. Показано, что для человека и человечества существуют две равновероятные альтернативны. Первая – парадокс, порожденный постмодерном, уничтожает науку и философию (причина), поэтому их вместе с человечеством неминуемо ждет «смерть философии» (и следствие). Вторая – знание со временем поможет преодолеть парадокс, пара-докс, трансцендирование не уничтожит разум, систематическое и логичное мышление, философию и науку. Только знание и процесс его познания оставляют надежду. Хотя самостоятельное существование философии, религии, науки, искусства, их без со-бытийное бытие может наоборот усилить парадокс. В этой связи парадокс не преодолим без со-бытия встречи Я и Другого. Исходя из философии образа утверждается, классическая философия энергийна по своей сути, потому что связана с идеями и смыслами, а постмодерн симулятивен, потому что связан с отсутствием смысла и отсутствием (перво)начала, посему каждая вещь в постмодерне – симулякр. Каждая вещь, рассматривая одновременно с точки зрения классики и постмодерна, является энергией и симулякром, чего не может быть с объективной точки зрения. Исходя из этого делается вывод, что состояние любой вещи, при котором она одновременно энергия и симулякр – показатель глубокого кризиса человека, общества, культуры, науки и философии. При этом обосновывается, что «парадокс двойника» является синонимом «симулякра четвертого порядка Бодрийяра», однако не является понятием, сформулированным в постмодернистской философии.
Классика, постмодерн, двойник, симулякр, парадокс двойника
Короткий адрес: https://sciup.org/14133821
IDR: 14133821 | УДК: 101.1+16+1:001; 001.8+101.1::316+1(09) | DOI: 10.33619/2414-2948/118/72
Текст научной статьи Классика и постмодерн: парадокс двойника
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 101.1+16+1:001; 001.8+101.1::316+1(09)
Классическая философия энергийна по своей сути, потому что связана с идеями и смыслами, а постмодерн симулятивен, потому что связан с отсутствием смысла и отсутствием (перво)начала, посему каждая вещь в постмодерне — симулякр. Каждая вещь, рассматривая одновременно с точки зрения классики и постмодерна, является энергией и симулякром, чего не может быть с объективной точки зрения. Выражаясь терминологией Делеза и Гваттари [5], вещь в таком случае является одновременно «параноидальной» и «шизофреничной». Возможен ли диалектический синтез в таком случае, ведь классика и постмодерн на первый взгляд представляются противоположностями? Думается, что нет, диалектический синтез невозможен, поэтому состояние вещи определению более не подлежит. Данное состояние любой вещи – показатель глубокого кризиса человека, общества, культуры, науки и философии. Итак, целью настоящей статьи является сравнение классической и постмодернистской философии с точки зрения философии образа и выявление сущности негативного влияния постмодернистской философии на философию в целом.
Состояние вещи, при котором она одновременно является «параноидальной» и «шизофреничной», противоречит здравому смыслу и логике. Однако нет ли в этом какого-то скрытого философского смысла? Что происходит с вещью или системой, которая находится в таком состоянии? Очевидно, коллапсирует и саморазрушается. А что будет после такого коллапса? Попробуем в настоящей работе ответить на эти вопросы. Естественно, нас интересует философия. И, конечно, нас интересует возможна ли в таком случае «смерть философии».
Логика и ее роль в мышлении
Любая система знаний должна быть, во-первых, непротиворечивой, во-вторых, логичной и систематичной, в-третьих, соответствовать практике, в-четвертых, должна объяснять, а не просто описывать, служить цели прогнозирования будущего, предсказания. Соответственно, чем ближе некая теория к данному идеалу, тем более она научна. Но не существует ни одной непротиворечивой теории и науки: везде есть противоречащие друг другу законы, например, в физике теория относительности Эйнштейна для макрообъектов и квантовая физика для микромира. Каждая теория, если обладает предсказательной силой, естественно, учитывает известную на момент ее создания практику. Практика, конечно, важный, но не единственный критерий истины, однако, естественно, что без ее учета добиться истины невозможно. Но учесть практику можно совершенно по-разному: можно следовать известным фактам, а можно, что называется, «опередить свое время».
Вот именно здесь начинается проблема логики. Логика всегда требует исходить из известного, а далее дедуктивно или индуктивно постигать что-то новое. Данная стратегия представляется весьма эффективной, если необходимо обобщить известные факты, когда наука развивается эволюционно. Но когда требуется «опередить свое время», выйти за пределы известной практики, в дело вступают гениальность и интуиция, предлагая решение, которое сначала кажется алогичным, но по мере развития теории и практики становится видна как раз логичность предложенного решения, открытия.
У ученого, когда он видит трудную и неразрешимую проблему может быть три стратегии выхода из сложившейся ситуации. Первая. Из известного знания логически выводить неизвестное. Такая стратегия характерна для аналитико-позитивистского способа мышления в широком смысле слова. Вторая. Действовать «на авось», «методом тыка», т.е. пробовать все варианты на практике, не видя абсолютно никакой разницы между ними: один из вариантов должен оказаться верным. Как представляется, такой способ мышления более характерен для постмодерна в широком смысле слова. Третья. Гениально прозрение.
Первая стратегия слишком трудоемка и медленна, медлительна, вторая ненадежна и опасна. Только третья стратегия представляет собой серединный, «царский» путь, ведущий к подлинным вершинам научного знания. Выбор стратегии решения научных проблем определяется не только уровнем интеллектуального развития, но и философскими предпочтениями ученого в области логики, казуальности, детерминизма. В конечном счете, и гений может искать истину с помощью логики или перебора вариантов без понимания смысла сделанного. Гениальная идея может прийти в голову и человеку, который не мыслит на 100% логично, но занимается достаточно долго одной проблемой и пытается вникнуть в ее суть.
Логичность, казуальность, детерминизм показывают взаимосвязь явлений, их последовательную связь. Поэтому в дальнейшем рассуждении вместо трех понятий «логика», «казуальность», «детерминизм» будет использовано одно – «логика». Мышление каждого человека отличается по отношению к логике (в выше названном смысле). Соответственно, предлагаем классифицировать мышление по отношению к логике, выделив три его вида.
Сильный логицизм – панлогизм, закономерность, необходимость. Антилогицизм — полное отсутствие логики, спонтанность, случайность. Слабый логицизм – плюрализм логик, ситуативность их применения в зависимости от научной и философской необходимости и целесообразности, умеренная ориентация на здравый смысл и авторитетность мнения, признание права на существование любой обоснованной логической системы.
Данное описание возможных отношений к логике противоречиво, допускает неоднозначность, что предполагает необходимость ответа на ряд вопросов для уточнения классификации и качества описания различных описаний возможных отношений к логике. Это следующие вопросы. Может ли быть слабый логицизм редуцирован до антилогицизма? Существует ли еще один вид отношения к логике между антилогицизмом и слабым логицизмом? Существует ли принципиальная разница между всеми возможными описаниями слабого логицизма и возможно ли его иное описание? Возможен ли дуализм антилогицизма и логицизма, либо логика учитывает случайные события? Каковы описательные возможности логики?
Фактически, все вопросы сводятся к взаимоотношениям детерминизма и индетерминизма. Решение данного вопроса попробуем найти в антиномиях чистого разума Канта, диалектике Гегеля и решении вопроса о соотношении материального и идеального в сознании человека Маркса. Чисто логически, позитивистски данный вопрос не может быть решен. Третья антонимия Канта показывает, что мир природы жестко детерминирован, но сознание человека свободно, поэтому оно способно тоже детерминировать события — «свободная причинность» [7, с. 278-285].
Отсюда диалектический вывод о том, что детерминизм и индетерминизм в синтезе, единстве дают свободу, которая, не нарушая казуальных, логических и т.д. цепей, позволяет, как принято считать в аналитической философии, реализовывать свою автономию и выбрать одну из множества альтернатив [3, с. 18].
Но, с другой стороны, как показал Маркс, вопрос о бытии человека необходимо решать дуалистически: тело человека материально, а сознание, его содержание идеально. Идеальное не супервентно материальному и не эпифеноменально, хотя, в данном случае, идеальное и производного от материального. Как показал А. С. Чупров в статье «Единство и многообразия форм бытия человека», Я человека трансцендентно и предшествует мышлению [19].
Генезис любой логики – вещь неоднозначная, да и единой логики на сегодняшний день не существует: формальная, математическая др. логики. Также логика мышления зависит от научной школы и особенностей той или иной науки. Это ясно. Данное обстоятельство не способно релятивизировать слабый логицизм, т.к. оно полностью им учтено. Проблемой является существование логики, не подкрепленное авторитетом науки. Например, логика, возникающая в повседневной жизни людей, зависящая от случайных обстоятельств типа времени и места ее использования, а также «логика» действий психически больных людей и т.д. Постмодернистская («не карательная») психиатрия вообще предполагает не лечить больных людей, а понимать «логику» их действий, потому что их «перекодировка» приведет к утрате ими свободы самовыражения.
Релятивизирует слабый логицизм именно логика, не имеющая достаточного авторитета. Единственный выход из данной ситуации — деление слабого логицизма на два вида: сильный и слабый. Соответственно, сильный слабый логицизм хоть и признает многообразие логик, но требует, чтобы они были научными и авторитетными. Слабый слабый логицизм не предъявляет столь жестких критериев к логике: как и в первом случае, использование той или иной логики определяется ситуативно, но логика может и не быть научной и авторитетной. В данном случае нечто является логикой, если считает логикой само себя, такое самонаименование является проявлением свободы самовыражения этого нечто. В данном случае, фактически, «логичность» удержать практически невозможно, поэтому данный тип логицизма наиболее близок к антилогицизму. Источником слабого слабого логицизма и антилогицизма является постмодернистская философия.
Наличие слабого слабого логицизма показывает, с одной стороны, возможность сведения слабого логицизма к антилогицизму за счет размытия самой логики и ее концептуального строя, с другой стороны, подтверждает возможность сближения детерминизма и индетерминизма. В случае слабого слабого логицизма получается во много противоречивая, странная ситуация: часть «логик» является логиками, а другая — нет. В таком случае теряют смысл критериальное и интуитивное различение логик и нелогик, потому что к «логике» не предъявляется никаких требований. Невозможность различения логики и нелогики приводит к их отождествлению: они становятся логиками по имени и нелогиками по существу.
Возможность дуализма логицизма и антилогицизма и возможность учета логикой случайных событий — это вопрос, с одной стороны, лингвистический, а, с другой стороны, сущностный. В первом случае логицизм и антилогицизм сочетаться не могут, т.к. с понятийной точки зрения логицизм и антилогицизм, детерминированное и случайное событие — различные группы понятий: логицизм и антилогицизм по-разному определяют отношения детерминированных и случайных событий. Во втором случае вопрос должен быть решен сущностно, т.е. диалектически. Отношения детерминизма и случайности определяются диалектикой логицизма и антилогицизма. Борьба, единство и взаимопроникновение логицизма и антилогицизма порождают сильный логицизм, а синтез – слабый логицизм в различных вариантах.
О. Л. Сузько в своей диссертационной работе отметила: «У. Селларс обнаружил, что аксиомы классической эпистемологии неверны. Анализируя иерархию познания, философ пришёл к выводу, что мы можем получить либо систему, основания которой повисают в воздухе (как в случае с фундаментализмом), либо закольцованную систему, где конец цепляется за начало (как в случае с философией Гегеля)» [16, с. 63].
В этом смысле детерминистские системы кажутся обреченными на неминуемый провал, а индетерминисткие не обладают никакой объяснительной силой. В таком случае аналитическая школа предлагает компромиссный, около диалектический вариант – сведение всех законов природы и культуры к вероятностному характеру в духе квантовой физики. Продолжая мысль Селларса исследователь отметила: «Альтернативным автор видит научный подход, постоянно редактирующий сам себя: «...наука является рациональной не потому, что имеет какое-то основание, а потому что является сомокорректирующим предприятием, которое может рискнуть любым своим утверждением, если не всеми сразу»» [16, с. 63-64].
В. Д. Волков отметил в этом же духе следующее: «Изменения высокоуровневых событий не происходят без изменений низкоуровневых событий. Существует очевидная регулярность. Если допустить, что низкоуровневые события являются причинами, а высокоуровневые события — следствиями, то по той же самой логике высокоуровневые события являются причинами, а низкоуровневые события — следствиями. Следствие является причиной, а причина — следствием. Порочный круг можно разорвать, но только допустив асимметрию в отношении разных уровней свойств. Скажем, утверждая, что каузально эффективными всегда являются низкоуровневые свойства. … Физика считается самой фундаментальной наукой именно потому, что изучает элементарные частицы и законы их взаимодействия» [3, c. 81].
И также: «… даже если фундаментальная физика и показывает наличие индетерминизма в мире, специальные науки, напротив, все больше и больше подтверждают детерминизм. Биология, генетика, нейрофизиология, психология выявляют все больше регулярностей, которые определяют поведение живых организмов.... Т.е. в какой-то момент можно будет создать механизм, программу, способную симулировать все аспекты когнитивной деятельности и поведение. И в отношении нее можно будет делать точные предсказания» [3, с. 149].
То есть редукция всех наук, включая и философию, останавливается в аналитической философии не с помощью логики, а на основании практического, опытного наблюдения о том, что законы всех наук и философии, а не только физики, дают достоверный результат на практике, в деятельности. А это уже аргумент, не идущий прямо из логики и казуального движения мысли.
С этой точки зрения во многом правы Ницше и постмодернистская философия, говоря о вечном возвращении, что концептуализировано в постмодерне как симулякр, ризома, складка. Фактически, постмодерн сводит все движение философской мысли в круг (в каждой философской системе есть свой недостаток, который вызывает движение к следующей философской системе, в этом круге, как и в диалектике, последнее следствие является причиной начала всего движения), из которого нельзя уйти никуда, кроме самого никуда. Как отметил А. С. Чупров в заглавии одной из своих критических статей: «Современность постмодерниста или «Некуда бежать»» [19].
Стало быть, постмодернистская реальность является просто тюрьмой для мыслящего разума, в которой все алогично, индетерминировано, не имеет объяснений, а причины вообще не порождают следствий. Современность постмодерниста – безвременье и беспамятство, потому что еще Ницше доказывал вредность истории и пропагандировал в своих произведениях неисторичное и внеисторичное бытие как способ борьбы с иллюзией вечности идей, представлений, которые являются лишь следствием, а их причина – эпоха, конкретное историческое время, их породившее [9; 10].
Итак, любая логика и диалектика как два способа мышления, используемые сама по себе, в чистом виде неминуемо ведут к regressus in infinitum et regressus in indefenitum. Мир чистой логики не является regnum gratiae, поэтому в нем невозможно, чтобы quodlibet ens est unum, verum, bomum. То есть до конца честное логическое мышление должно было бы признать или невозможность доказательства с помощью логики чего бы то ни было, ведь познавательная сила логики ограничена, почему некоторые вещи, доказанные ей, подтверждаются на практике, а другие являются крайне неправдоподобными и противоречащими практики. Или согласиться со всеми выводами логики, даже если с ними невозможно согласиться, или объявить логику ненужной и утратившей доверия – два простых и абсолютно логичных варианта. Однако, специалисты по логики не делают ни того ни другого. Вместо этого они разрабатывают различные варианты усовершенствования логики и различные мысленные ходы, чтобы в рамках имеющихся в логики познавательных возможных доказать необходимые им вещи. Это, безусловно, правильный путь, если необходимо добиваться обоснованных суждений без или с учетом практики. Но, с другой стороны, как отмечено выше, это непоследовательная позиция.
Сущность парадокса
С поверхностной точки зрения парадокс связан, с одной стороны, с тем, что обоснованные, логичные суждения не всегда являются истинными. А, с другой стороны, попытка создать обоснованную, доказанную систему мысли приводит либо к системе суждений без доказанных оснований (логика), либо системе суждений, в которой последнее из следствий является причиной начало нового круга в движении мысли и реальности (диалектика) (собственно, это два способа получения необоснованных суждений, отмеченные Селларсом). Хотя, при этом, диалектика и логика, сами по себе, в своем чистом, оригинальном виде к исследуемому в настоящей статье парадоксу не ведут. Однако, когда возникает противоречие двух значений, двух смыслов одного концепта, парадокс становится возможен. Для объяснения сложившейся ситуации парадокс должен стать пара-доксом (от греческих слов «отклонение» и «общепринятое мнение»), т.е. должен быть тем, что выходит за пределы господствующего мнения, находиться около него, но также отклоняется и нарушает его. В каком-то смысле парадокс сам является пара-доксом и наоборот. Это означает, что доказательства чего-то необходимо выйти за его пределы, рассмотреть, оценить его со стороны, но это действие, в свою очередь может привести к нарушениям в работе изучаемого объекта, его порче.
Дструкция и деконструкция тех или иных философских систем не всегда ведет к желаемому результату: критический разбор дополняется и уничтожением самих так изучаемых философских систем. В этой связи исследователь В. А. Емелин отметил: «Многие исследователи отказывают в признании постмодернизму, аргументируя свою позицию тем, что он не приносит ничего кардинально нового, а лишь «паразитирует» на достижениях минувшего, заново их переделывая, компилируя, переосмысливая и переиначивая, но, при этом, не переходя на другой качественный уровень, позволивший бы говорить о новой стадии в культуре» [6].
То есть постмодерн является пределом классики, через пара-докс ведущий ее к парадоксу. Вместо многовекторного и многолинейного процесса становления классическая философия (как и вся философия в целом) превращается лишь в вечное возвращение, в круг, в котором античная философия деконструирует саму себя, запуская движение. Это движение заканчивается постмодерном, а, затем, постмодерн вновь запускает движение в философской мысли за счет показа возможности деконструкции античной философии, деконструкция происходит по ходу движения и развития всей философской мысли. И так без конца.
По сути, данный парадокс мы можем обозначить как парадокс двойника. Оригинал классической философии и ее постмодернистский двойник вступают в борьбу друг с другом. Итак, парадокс проявляется следующим образом. Во-первых, изменился смысл круга и кругового движения (круг Аристотеля и Гегеля уступил место кругу Ницше и Делеза). Во-вторых, в движении в круге Ницше и Делеза участвуют не оригиналы классических философских систем, а их двойники, т.е. происходит подмена, фальсификация, профанация. В-третьих, из круга исчезли смысл и значение. В-четвертых, не смотря на постмодернистский плюрализм, в данном круге множественность концепций сочетается с единичным вектором их движения. В-пятых, произошло нарушение связи исторических эпох: двойник классической философии внеисторичен и дефективен. В-шестых, деструкция и деконструкция — составные части парадокса. В-седьмых, парадокс пара-доксален (относительно классики), ибо низвергая классику, он выходит за ее пределы. В-восьмых, парадоксу необходимо стать пара-доксальным (относительно самого себя).
Данный парадокс — парадокс двойника — с точки зрения отношения к противоположностям является двойником диалектики, отсюда различие в сущности кругов и характере их движения. В этом смысле причина кризиса науки, философии, культуры не сам по себе постмодерн, а созданный им парадокс, изменяющий качественные характеристики философской мысли и ее движения, поэтому двойник классики — это своеобразный временной остаток от нее после встречи с постмодернистской философией. Остаток, потому что классическая философия в постмодернистской экспликации по сущности, по духу не соответствует своему историческому оригиналу. Временной, потому что, во-первых, даже остаток классики, пусть и в карикатурном виде содержит в себе черты «классической» эпохи, во-вторых, остаток оказался в чуждой ему философско-культурной контемпоральности, которая ему несовременна. Социальное и индивидуальное время классики и постмодерна – это два различных времени, две различные истории, во многом даже противоположные друг другу.
С учетом данных обстоятельств, двойник в данном парадоксе является «обратным» оригиналом; кроме того, выражаясь в терминах в неоплатонической философии, двойник образуется в следствие «ниспадения» идеи в чувственный мир. Энергия сущности несет на себе образ идеи, в чувственном мире энергия может потерять связь с оригиналом, сделав образ материальным, но любая чисто материальная вещь по природе порочна. Копия, энергийно несвязанная с оригиналом, становится материальной, неоформленной, потому порочной по природе. В этом смысле классика принадлежит миру энергий, на практике, в истории исследователи взаимодействовали с энергией классики, а постмодерн предлагает порочный материальный вариант классики. Пример такого «ниспадения» - запрет на трансцендирование, признание в-мирности и строгой материальности вещей. Отсюда сознание и его содержанию утрачивают свою идеальную природу, становясь из понимающих, мыслящих сущностей, вычислительными аппаратами, логическими устройства, теряя, тем самым, свой человеческий характер.
Парадокс двойника не является аргументом-двойником, который описан исследователем Д. Б. Волковым [3], в силу следующих обстоятельств. Во-первых, аргумент-двойник существует в рамках аналитической школы, а парадокс двойника — на стыке классики и постмодерна. В-третьих, аргумент-двойник используется для доказательства необходимого тезиса, а концепт «парадокс двойника» лишь показывает кризис, современные проблемы науки, философии, культуры. В-четвертых, аргумент-двойник является порождением логики доказательства, а парадокс двойника – деструктивной и деконструктивной деятельности постмодерна.
Парадокс двойника также не связан с аргументом зомби двойником австралийского философа Д. Чалмерса (см. о зомби Д. Чалмерса, например, в [16, с. 33-34, 74, 84-86, 95]). Во-первых, зомби двойник – порождение аналитической школы и логики. Во-вторых, зомби двойник, в отличие от человека, способен вычислять ответ, человеку понимание принадлежит изначально, что, собственно, и пытался подтвердить пример данного философа. В-третьих, аргумент исследователя Д. Челмерса утверждает сознание, а не уничтожает его. То есть аргумент зомби двойника, как и аргумент-двойник, наоборот, пытаются избежать парадокса.
Симулякр и парадокс двойника: общее и различное
Первая особенность парадокса двойника заключается в том, что он является симулякром, но не рядовым симулякром, а симулякром целой философской эпохи, ее двойником, обеспечивающим ее подмену, фальсификацию, профанацию. Вторая особенность: как и симулякр, является плохой, порочной копией, безэнергийной, бессущностной вещью, но охватывает больший топологический, пространственновременной масштаб: не одна конкретная вещь, а целая эпоха и значительная часть пути развития философии. В этой связи, парадокс двойника, во-первых, структурно состоит из симулякров, во-вторых, является симулякром более высокого уровня, симулякром в масштабе целой исторической эпохи.
Третья особенность: симулякр и парадокс двойника являются фикциями онтологического порядка, но парадокс двойника, будучи симулякром классики, подменяет содержание всей философии в масштабе целой исторической эпохи. Четвертая особенность парадокса двойника заключается в том, что он, в некотором смысле, явился итогом эволюции симулякра. В таком случае можно говорить о четвертом порядке симулякров, что полностью соответствует логики Бодрийяра.
Вслед за подделкой, производством, симуляцией начинается эпоха парадокса, окончательного осуществления постмодерна. Если симуляция регулируется кодом (структурным законом ценности), то парадокс двойника оперирует метакодами и целыми структурами (состоящими из симулякров), изменяющими представлениями о целых эпохах сразу, экономика не просто соединились с политикой, сделав все подчиненным экономическим законом, но, после чего, как и пролетариат при коммунизме исчезла, метакоды и метаструктуры коллапсируют. (По учению Маркса пролетариат, когда исполнит свою историческую роль, в ходе своей борьбы с буржуазией при капитализме и социалистической диктатуре, постепенно исчезает как нечто исторически старое и отжившее). Соответственно, после этого метакоды и метаструктуры тоже превращаются в исторически отжившие формы. В таком случае в будущем ничего другого, кроме исполнения мечты Ницше о внеисторическом существовании, быть не может. Все теряет какой-либо смысл, становясь одинаково незначащим ничего. Со-бытие встречи классики и ее постмодернистского двойника и есть парадокс двойника, который ведет к коллапсу истории и внеисторическому существованию.
А. В. Панкратовой был исследован симулякр четвертого порядка. Здесь исследователь соотнесла этапы симуляции с этапами эволюции образа. Подделка – образ как отражение реальности. Производства – образ как маска и искажение базовой реальности. Симуляция – образ как маска отсутствия базовой реальности. Четвертая стадия развития симулякра – образ как собственный симулякр, не имеющий отношения к какой-либо реальности [13].
Но Бодрийяр ниже на той же страницы дал пояснение к своему видению эволюции образов: он разделил образы на два вида. Первая группа знаков — знаки, находящиеся в мире с базовой реальности, вторая – в мире без базовой реальности [2, c. 23].
Бодрийяр отметил следующее. «Переход от знаков, которые скрывают что-то, к знакам, которые скрывают, что нет ничего, означает решительный поворот. Первые отсылают к теологии истины и тайны (что еще является частью идеологии). Вторые воздвигают эру симулякров и симуляции, где нет больше Бога, чтобы отличить своих, нет больше последнего Суда, чтобы отделить ложное от истинного, реальное от искусственного воскрешения, так как все уже мертво и заранее воскрешено» [2, c. 23].
То есть, в таком случае логично соотносится первый этап эволюции образов с античной и средневековой эпохой (до Возрождения), второй – с эпохой подделки (от Возрождения до промышленного переворота), потому что подделать, исказить что-либо можно только в мире с базовой реальностью. Третий этап эволюции образа с эпохой производства, а четвертый этап — с симуляцией. Четыре этапа эволюции образа — три порядка симулякра, ведь симуляция образа, с точки зрения Бодрийяра, не изначальна.
Действительно, как отметила А. В. Панкратова, «Симулякр четвертого порядка – отсутствие знака, отсылающее к отсутствию содержания. Бодрийяр в «Символическом обмене» останавливается на описании симулякра третьего порядка, в «Симулякрах и симуляции» в некоторых местах касается четвертого порядка симулякров, однако не расписывает детально симуляцию на этом уровне» [13].
Но далее исследователь остановилась только на отсутствии содержания у симулякра четвертого порядка, рассмотрев его в данном значении с культурологической точки зрения с соответствующими примерами.
Однако, если следовать за логикой Бодрийяра, то можно найти более полное и глубокое описание симулякра четвертого порядка, уточнив значение третьего и других порядков. Для этого обратимся к работе Бодрийяра «Символический обмен и смерть» [8].
В разделе о трех порядках симуляции французский исследователь отметил следующее от трех порядках симуляции. «В симулякре первого порядка отличие никогда не отменяется: в нем всегда предполагается возможность спора между симулякром и реальностью (их игра достигает особой тонкости в иллюзионистской живописи, но и вообще все искусство живет благодаря зазору между ними). В симулякре же второго порядка проблема упрощена путем поглощения видимостей — или же, если угодно, ликвидации реальности; так или иначе, в нем встает реальность без образа, без эха, без отражения, без видимости; именно таков труд, такова машина, такова вся система промышленного производства в целом, поскольку она принципиально противостоит театральной иллюзии» [1, c. 121].
И, также, «таков генетический код – неподвижный, словно пластинка, которую заело, а мы по отношению к нему не что иное, как элементы звукоснимающего устройства. Вместе с детерминированностью знака исчезает и вся его аура, даже самое его значение; при кодовой записи и считывании все это как бы разрешается. Таковы симулякры третьего порядка, при котором мы живем, таково «мистическое изящество бинарной системы, системы нуля и единицы», откуда выводится все сущее, таков статус знака, где кончается сигнификация, — ДНК или операциональная симуляция» [1, c. 128].
Данный аспект в статье А. В. Панкратовой отражен, но, как мы полагаем, исследователь при соотнесении эволюции образа с соответствующим этапом симуляции смешал симулякры третьего и четвертого порядка: четвертый им был определен как завершающий этап третьего.
Прямой намек на симулякр четвертого порядка (но без обозначения порядка) Бодрийяр сделал до раздела о трех порядках симуляции во введении и первом разделе о конце производства. Он отметил следующее: «Как бороться против ДНК? Уж конечно же, не путем классовой борьбы. Может быть, изобретать симулякры логически (или алогически) высшего порядка, более высокого, чем нынешний третий, выше всякой детерминированности и недетерминированности, — но будут ли это еще симулякры? На более высоком уровне, чем код, пожалуй, оказывается одна лишь смерть, обратимость смерти. Один лишь бес-порядок символического способен прорваться в код» [1, с. 47-48].
И далее: «Поскольку именно в высшей точке ценности мы ближе всего к амбивалентности, поскольку именно в высшей точке связности мы ближе всего к глубочайшему срыву, вечно грозящему дублируемым знакам кода, — именно поэтому необходимо превзойти систему в симуляции. Следует обратить смерть против смерти — этакая радикальная тавтология. Сделать из собственной логики системы неотразимое оружие против нее. Против тавтологической системы единственно действенной будет стратегия своего рода патафизики, «науки о воображаемых решениях», то есть научной фантастики на тему обращения системы против нее самой в высшей точке симуляции, стратегия обратимой симуляции в рамках гиперлогики разрушения и смерти» [1, с. 48-49].
И здесь французский философ дал следующее пояснение: «Смерть всегда есть одновременно и то, что ждет нас в конце системы, и символический конец , подстерегающий самое систему. Чтобы обозначить финальность смерти, внутренне принадлежащую системе, повсюду вписанную в ее операциональную логику, и радикальную контрфинальность, вписанную вне системы как таковой, но всюду преследующую се, у нас нет двух разных терминов – в обоих случаях с необходимостью выступает одно и то же слово «смерть». Подобную амбивалентность можно различить уже во фрейдовской идее влечения к смерти. Это не какая-то неоднозначность. Этим просто выражается то, как близки друг к другу осуществленное совершенство системы и ее мгновенный распад» [1, с. 49].
Таким образом, определение четвертой стадии развития симулякра как образа, который есть собственный симулякр, не имеющий отношения к какой-либо реальности, данное А.В. Панкратовой, не является строго принадлежащим симулякру четвертого порядка. Оно характеризует симулякр третьего и четвертого порядка с одной лишь разницей: симулякр третьего порядка лишь движется к этому, а симулякр четвертого порядка начинает с этого свой путь. Отсюда, задача симулякра третьего порядка – завершить распад системы, превратить коды в пустые знаки, не значащие ничего, окончательно уничтожить бытие. А симулякр четвертого порядка — смерть системы, ее исчезновение, если при симулякре третьего порядка сосуществовало несколько безэнергийных реальности, то при симулякре четвертого порядка ничего не может быть.
Как отмечено выше, из постмодернистской реальности «некуда бежать», разве что в никуда. Этим никуда и является симулякр четвертого порядка, «побег» на эту стадию симуляции означает парадокс двойника и коллапс системы, ее смерть. Как отметил Бодрийяр, смерть имеет реальное и символическое значение [1]. Встреча этих двух значений смерти и есть парадокс двойника в философии, когда встречается классика и ее постмодернистский двойник. То есть парадокс двойника есть встреча реального («классика»)
и символического («постмодернистский двойник классики») значения при попытке «убежать» из постмодерна.
Бодрийяр отметил еще одну важную вещь. «В ходе бесконечного самовоспроизводства система ликвидирует свой миф о первоначале и все те референциальные ценности, которые она сама же выработала по мере своего развития. Ликвидируя свой миф о первоначале, она ликвидирует и свои внутренние противоречия (нет больше никакой реальности и референции, с которой ее можно было бы сопоставлять) — а также и свой миф о конце, то есть о революции. В революции проявлялась победа родовой человеческой референции, первичного человеческого потенциала» [1, с. 131]. Вот это и есть, выраженное в терминологии французского философа, обозначенные выше, во-первых, пробегание философской мысли (от античности до постмодерна) по кругу с бесконечным (само)повторение, и, во-вторых, борьба классики и ее постмодернистского двойника, в-третьих, коллапсирование системы при попытке «сбежать» из постмодерна. (Данное бесконечное (само)повторение началось в связи с появлением постмодерна с его идеей деструкции и деконструкции, в итоге все философские системы начали деструкцию и деконструкцию друг другу, после деконструкции платонизма в рамках постмодернистской философии, круг начинается заново).
Преимуществом концепта «парадокс двойника» перед концептом «симулякр четвертого порядка» является его более обобщенный характер, непринадлежность постмодернистской философии, за счет чего постмодерн и симуляция могут быть исследованы «со стороны», что дает большие описательные возможности, отсутствие в нем, в отличие от порядков симуляции и симулякра четвертого порядка, неизбежности наступления. Парадокс может случиться, а может и не случиться.
Причины парадокса
Сложившаяся ситуация (парадокс и пара-докс науки и философии) имеет ряд возможных причин. Как представляется, наиболее важные среди них: проявления теоремы Геделя о неполноте на практике, недостатки разума, недостаток знаний, недостаток веры, несовершенство человека (на уровне сущности). То есть речь идет либо о фундаментальной характеристике человека и мира, состоянии данности, т.е. о принципиальной ограниченности познавательных возможностей и любых теорий, либо о кризисе, который может быть преодолен в будущем, т.е. о необходимости новой научной революции.
Фактически, сами парадокс и пара-докс являются лингвистическим дополнением к теореме Геделя, которая, в некотором смысле условно, применяется не только к арифметике, но и любой логической системе. Помимо идеи необходимости выхода за пределы некоторой сложности для ее доказательства предлагается идея возможности порчи доказываемой (а, в данном случае, еще и критикуемой системы) от неумелого использования «испанского сапога». То есть предполагается, что неправильное трансцендирование может быть вредно для науки и философии.
Собственно, сама мысль о том, что существуют некоторые аксиоматические, самоочевидные суждения явно не чужда и позитивистско-аналитической философии, ведь, в конечном счете, не все представители данного направления, не смотря на ревизию понятий, спешит отказываться от свободы воли, сознания, ответственности и т.д. С другой стороны, сама логика по отношению к аналитической философии является чем-то самоочевидным, что, хоть и требует доработки и навыка в использовании, но наравне с фактами, событиями является единственным источником получения доказанных и истинных понятий, суждений и умозаключения. Как геометрия Евклида имеет 5 аксиом, так и любая религиозная система имеет свою догматику, так же и любая философия система имеет некоторые исходные положения, которые служат доказательством всех теорий, принадлежащих философии, религии или науки. То есть любая система имеет аксиоматические суждения и в этом смысле пара-доксальна.
Пара-доксальность, таким образом, является неотъемлемой чертой человеческого мышления. Любопытство, познавательный интерес присущи многим. Пара-доксальность делает жизнь человека со-бытийной и со-бытием. Как считала С. З. Агранович, любая мысль человека – мысль о самом себе, мире, своем месте в нем и своей смертности. В своих лекциях исследователь отметила следующее: «Личностью быть тяжело, нужно делать выбор. Личность знает страшную вещь — она умрет. Человек этого еще не знает, главное для него вести себя правильно, сказано — сделано». Кроме того, «Миф – первичная форма сознания и одна из главных, которыми пользуется человек. Миф возникает в тот момент, когда человек становится человеком, когда начинается антропосоциогенез. … инстинкты стали затухать, нужно было заменить их на понимание. А чтобы что-то понять, надо разделить. Самое простое – бинарное разделение» [8]. Смерть пугает человека, поэтому человек, если не впадает в депрессию и пессимизм от отчаяния и безысходности стремится узнать что-то новое, чтобы, в конечном итоге, преодолеть свою смертность. Первый способ постижения мира — религия. В каком-то смысле религию можно считать «бунтом против человеческой смертности». Современная наука выполняет во многом такую же роль с ее технологиями омоложения, сохранения здоровья, борьбы со старостью, увеличения продолжительности жизни и желанием в обход религии победить смерть и обрести жизнь вечную.
Другая проблема, относящаяся к знанию и разуму — возможность множественных интерпретаций. С одной стороны, данное обстоятельство внушает оптимизм, т.к. предполагается свобода мысли, слова, различные пути к истине; авторитетность, большинство не играют решающей роли. С другой стороны, множество мнений, которые невозможно различить, потому что критерии делегитимированы, да и не имеют, как правило, особого смысла, затрудняют продвижение к истине, а, возможно, и вовсе преграждают ей путь, т.к. все мнения считают себя истинными. Это нормальное постмодернистское состояние, квазиреальность которого состоит из одних симулякров. Учитывая данные обстоятельства, диалектика не может показать путь к истине, она лишь заключает, что путь к истине тяжел и не дает гарантий, что человечество успеет ее познать.
Следующая причина выше отмеченного парадокса – недостаток веры. Веры в реальность, в классическую философию, в познавательные возможности человека, даже истинность постмодерна и т.д. (Хотя как постмодерн может быть истинен, если он истину и ложь превращает в симулякр, тем самым, делая симулякром и себя?). Скорее постмодерн должен «верить» в классическую и аналитическую философию, иначе ему будет не на чем «паразитировать».
Обстоятельства, ведущие к парадоксу, которые были исследованы выше, относятся к внутрифилософским проблемам субъективного и объективного характера. Философия — довольно сложная система знания, поэтому ей, по теореме Геделя о неполноте, нужна какая-либо система аксиом, метатеория, исходя из которой в философии должны строится дедуктивные и индуктивные вывода. Вариантов источника метатеории может быть два. Первый — какая-то предфилософия, например, представления, почерпнутые из античных мифов и позже рационализированные, либо заведомо какие-то рациональные умозаключения. То есть, в таком случае, метатеория принадлежит самой философии в широком смысле. Второй — один из трех других способов познания мира – искусство, религия, наука. Причинами парадокса также могут быть и какие-либо внешние для философии обстоятельства.
Философия, как отметила Д. Э. Гаспарян в работе «Неклассическая философия», за весь период своего существования была и частью религию, и искусством, и одной из наук [4]. Далее, как предположила исследователь, философия должна стать собой. Действительно, философия побывала в трех ипостасях. В Средние века именовалась «служанкой богословия», с появлением позитивизма в XIX в. и до сего дня в рамках аналитической школы философия является наукой. С появлением постмодернистской философии философия начала превращаться в жанр литературы.
Философия, таким образом, успела сменить, начиная с античной три метатеории: искусство, религию и науку. Однако проблемой остается возможность способов познания мира полноценно существовать, будучи самой собой. Одиночество, отсутствие со-бытия в бытии способа познания мира видимо делегитимирует его, лишая метатеории, достаточного основания. Без со-бытия встречи Я и Другого нет жизни, существования, бытия. Поэтому, во-первых, можно говорить, что каждый способ познания мира существуют только наравне с Другими способами, и, во-вторых, что у каждого способа познания мира один Другой способ познания мира играет роль необходимой метатеории. На современном Западе наука является метатеорией философии, а философия — метатеорией науки. По сути, аналитическая философия и есть проект превращения философии в науку. Наука и философия взаимно обогащают друг друга.
Искусство стремится быть философичным, отстаивать определенную систему ценностей. Постмодернистская философия – метатеория современного западного искусства и наоборот. Что будет метатеорией религии, зависит от особенностей ее догматической системы, религия может являться метатеорией философии, науки и искусства в религиозных странах и для верующих людей. Однако, как представляется, в истории философии было две попытки построить философию, исходя из нее самой.
Первая — античность, с ее попыткой превратить религию в философию. Такое положение вещей обеспечивалось доминированием философии в науки и религии. Однако, все же, философия имела религиозную (мифологическую) подоплеку. Данное обстоятельство определило неоднозначный, двойственный характер метатеории философии — смесь философии, религии, науки, отчасти и искусства.
Вторая — СССР и советская философия. Метатеория философии состояла из философии и науки.
В двух данных случаях философия действительно была метатеорией самой себя, но не в чистом виде. Поэтому можно говорить о том, что были попытки в истории создать чистую философию, но они завершились, не состоявшись. В этой связи представляется проблематичным самостоятельное существование философии как философии. Это равносильно, чтобы человек был человеком в отсутствии общества, и чтобы общество было обществом в отсутствии человека. В силу данных обстоятельств парадокс не может являться лишь внутренним делом философии, тем более что он имеет как внутренние, так и внешние причины, которые равносильны по содержанию, но различны по форме. Это подтверждает, что парадокс является кризом человека, общества, всего человечества, культуры, науки и философии.
Особенности человеческого мышления и сознания
Во многом на теореме Геделя о неполноте выстроил свою идею несводимости человеческого ума к машине Тьюринга, компьютера Р. Пенроуз, он отличил человеческое понимание (в уме происходят квантовые эффекты, связанные с суперпозицией состояний) от компьютерного вычисления (основано на выявлении всех возможных вариантов, правильность которых оценивается на основе критериев, данных человеком-программистом)
-
[15] . То есть теорема Геделя о неполноте в философском ее понимании ведет к проблеме человеческого разума, сознания и мышления. Понимание, а, значит, осознанный выбор, отсекающий множество бессмысленных альтернатив, является важнейшей особенностью человеческого и сознания.
Главная проблема понимания — границы понимания: человек способен понимать все или оно возможно в системе, с логикой которой человек заранее, хотя бы немного, знаком. Вероятно, верен второй вариант, потому что человеческий мозг, как, собственно, и компьютер, не способен думать без исходных данных. Но получение исходных данных — это необязательно всеохватывающий набор фактов, как правило, многие факты упущены, поэтому необходимо прикидочно построить логичную систему, в рамках которой дальнейшие выводы будут верны. Пока система не построена, человеческий мозг не сможет анализировать предложенную информацию. Ключевым моментом понимания является способность построить истинную логичную систему за минимально возможный период времени при минимуме информации.
Присутствие старого в новом в сознании человека через понимание – указание на границы познавательных возможностей человеческого разума и логики в широком смысле этого слова. Указание границ познавательных возможностей разума – одна из естественных тем классической философии. В частности, «Критика чистого разума» [7] и некоторые другие работы Канта критического периода — это, как раз, и была попытка определить границы возможностей разума. Но неклассическая и постнеклассическая философия перешла от критики разума к его деконструкции и деструкции. Разуму было отказано в его прежних привилегиях, разум перестали считать судьей в научных и философских проблемах.
Другая особенность человеческого сознания и мышления — его интенциальный характер. Субъект всегда направлен на объект. Весь процесс познания интенциален, со-бытиен. Без встречи субъекта и объекта выход за свои границы субъекта невозможен. Однако, благодаря мышлению, памяти и воображению объект может находиться в сознании человека, в таком случае можно говорить о внутреннем самодвижении и саморазвитии человека, выработки определенной системы бытия в мире. Здесь присутствуют два механизма бытия личности, выявленные В.С. Мухина: обособление и идентификация [12]. Пусть интенциальность направленна на со-бытие, она существуют между этими двумя категориями: при со-прикосновении с Другим всегда есть опасность как утратить свое Я, так и заменить Другого на Я. Здесь сокрыта диалектика взаимоотношений Я и Другого.
Надежда и ужас знания
Действительно, недостаток знания тоже может являться серьезной проблемой. Во многом, вопрос о недостатке знания — это вторая сторона ОВФ. Но возможна и иная интерпретация данной проблемы (не сточки зрения итогов познавательной деятельности): знаний не хватает в данный момент, а будущем необходимые знания будут получены. Совокупность всех знаний в таком случае должна помочь человеку строить истинные (в абсолютном смысле) понятия, суждения и умозаключения. Но, по всей видимости, познать всего нельзя. Не потому, что человек не способен, а потому что человечеству может просто не хватить времени: у человека нет даже всего времени во Вселенной, люди появились, когда Вселенная уже существовала, и исчезнут, когда Вселенная еще будет существовать. Посему знания человека накладываются на онто-эмоциональный компонент человеческого существования — диалектику надежды и ужаса. В этом смысле до конца рационален только компьютер, а про человека можно сказать лишь ecce homo.
Кроме того, ограниченность человеческого знания отчасти следует и из теоремы Геделя о неполноте: человек никогда не может быть убежден, что ему удалось постичь нечто фундаментальное в природе, то, что лежит в основании всего знания. В этом смысле гарантией истинного знания не может служить и редукция всех наук и знаний к квантовой физике и квантовому миру. В конечном счете, человечеству сегодня неизвестно как интерпретация квантовой физики с ее двумя противоположными процессами (одним строго детерминированным и другим, который приобретает определенность только после измерения) является единственно верной. Р. Пенроуз перечислил некоторые из возможных интерпретаций: копенгагенская интерпретация, множественность миров, декогеренция, вызываемая окружением, согласованные истории, волна-пилот, новая теория с объективными R [14].
Кроме того, логике не известно состояние суперпозиции, в котором пребывает т.н. кот Шредингера. Этот кот является «живым» и «мертвым» одновременно. Получается, что кот не находится в одном из двух состояний, пока его состояние не измерить. А измерение, как принято считать в физике, в данном случае превращает объекты «квантовые» в «классические». Например, это проявляется в корпускулярно-волновом дуализме, т.е., если свет не измерять, то он ведет себя как волна, а, если измерять, как частица света — фотон. В данном случае всегда остается вопрос: такое положение — это недостаток знания или фундаментальная онтологическая характеристика нашего мира [14]?
Если аналитическая философия редуцирует все к квантовой физике, а в самой квантовой физике наблюдается недостаток некоторого фундаментального знания, то, значит, в логике и философии тоже наблюдается недостаток знания. Аналогичная ситуация и в других науках. Не смотря на то, что они дают проверяемое на практике знание, науки знают еще не все из того, что могли бы узнать, исходя из собственной методологической базы, т.е. продолжается оставаться высоким их исследовательский потенциал, а это означает, что в философии и логики тоже сохранился исследовательских потенциал. Но наличие исследовательского потенциала не означает возможности решить все существующие проблемы, т.к. существует ограничение, показанное Геделем в своей теореме о неполноте.
А.В. Павлов в работе «Философия современности и межвременья» [11] отметил, что в современном мире происходит постепенный процесс делигитимации знания. Причину данного процесса отметил французский философ-постмодернист в работе «Состояние постмодерна». По его мнению, делигитимация знания связаны с падением доверия к механизмам его получения и распространения. Модерн и Просвещение заканчиваются как проект, поэтому исторически сложившиеся методология, картина мира, научные и образовательные институты вступают в противоречие с современным уровнем развития культуры. По сути, постмодернистская культура стремится уничтожить модернистские науки и философию [11].
Вообще, постмодернистская парадигма частой, ситуативной, спонтанной смены идентичностей, фактически, предопределяет возможность быть кем-либо, следовательно, в постмодернистскую эпоху уже не может вестись речь о дилетанте и профессионале. То есть люди с большим талантом и необходимыми умениями с образованием и без него должны быть попросту уравнены, в постмодернистскую эпоху профан, дилетант и профессионал должны исчезнуть: сетевое интернет-образование должно решить проблему с отсутствием образования за очень короткий период, а компьютерные базы знаний проблему с недостатком знаний прошедших ускоренное обучение. Кроме того, многие, даже интеллектуальный функции, может взять на себя и компьютер.
Раз многие не предполагают разницы в мышлении компьютера и человека — оно строится на логике, — предполагаются стандартные и однозначные методы и технологии, то компьютер может справиться с таким решением задач. Но в таком случае могут исчезнуть такие категории как «профессиональное творчество», «профессиональное мастерство», «профессиональный опыт» и т.д. В конечном счете, постмодерн предполагает идентичность как один способов свободного самовыражения, поэтому, в таком случае, действительно, нет разницы между человеком и машиной, профаном, дилетантом и профессионалом. Постмодерн, одним словом, — эпоха профанации.
Бесконечное движение по кругу, вечное возвращение и повторение философской мысли – это кризис не только современной философии и науки, но культуры и знания. «Безвременье» по терминологии А. В. Павлова [11] и «Некуда бежать» по терминологии А. С. Чупрова [19]. Данный парадокс, данное движение по кругу не является диалектикой в классическом смысле этого смысле. Это, как отмечено выше, regressus in infinitum et regressus in indefenitum. Для становления постмодерна понадобился пара-докс, поэтому для прекращения постмодернистской эпохи понадобится еще один пара-докс. Но проблема в том, куда этот пара-докс приведет: либо к новой культуре и цивилизации, как считает А.В. Павлов [11], либо к «Закату Европы», т.е. самодеструкции западной постмодернистской культуры и уничтожению западного образа жизни. Однако оба варианта могут не сбыться: новая эпоха, наступившая вслед за постмодерном, может лишь закрепить произошедшее раннее изменения. Соответственно, может появиться новая религиозная система плюралистически-оккультного толка, появления которой предрекает православие (постмодерн станет религией, в которой уживутся все религии, потеряв, однако, свои догматические, основополагающие различия, различаться будет же только обрядность).
-
А. В. Павлов предположил, что вслед за современной и контемпоральной (проще говоря, сегодняшней) эпохой должна смениться и парадигма рациональности [11]. Исторически, после каждого кризиса в науке и философии, происходила научная революция, знаменовавшая собой смену парадигмы научной рациональности. Каждый раз смена рациональности приводила к новому подъему науки. Но каждый новый этап непременно заканчивался вновь кризисом. С диалектической точки зрения вполне нормальный процесс, но смена рациональности никогда не приводила и не привет к постижению всех знаний сразу. То есть смена парадигмы рациональности дает временный эффект. Не смотря на революционный и скачкообразный процесс развития научного знания (смена эволюционных и революционных периодов), процесс приобретения нового знания протекает очень медленно.
Однако время человечества ограниченно, поэтому, по всей вероятности, всего познать невозможно. Это делает человечество уязвимым как перед объективным (окружающая среда в широком смысле) и субъективным (своей психикой) миром. Знание, познание, как показано выше, со-бытийно. Знание – это встречи человека с будущим в настоящем, поэтому знание – это надежда на лучшее будущее. Отсутствие знания – ужас от отсутствия самого по себе будущего у человечества. Бытие человека и всего человечества разворачивается в диалектике ужаса и надежды, незнания и знания.
Постмодерн, как и любая другая эпоха, сменится новой. Но за постмодерном как философией в контексте всего времени ничего нет, только понимание беспомощности человека перед бесконечностью, перед бездной знания, которое человек может не успеть познать. Поэтому постмодерн — это пессимизм. Постмодерн превратил классическую философию в довольно удручающий двойник самой себя, подменил оригинал двойником. Свобода воли сменилась на свободу самовыражения, единство свободы и ответственности на невозможность вменения ответственности в связи с отсутствием возможности автономного выбора из множества вариантов.
Временн о й характер существования двойника классики является еще и вр е менным, т.к. подделка, карикатура, образующаяся в результате «ниспадения» является порочной, посему не может просуществовать значительный период времени. Когда парадокс сменится парадоксом, постмодерн может смениться не новой классикой, а окончательно институированным постмодерном. Как отметил А. В. Павлов, сейчас модернистские институты наполняются постмодерниским содержанием [11]. Соответственно, окончание постмодерна как безвременья, по сути, межвременья, может привести к созданию постмодернистский институтов по форме и содержанию, хотя, естественно, посткризисная эпоха не будет именоваться постмодерном. Как представляется, А. В. Павлов хотел бы скорейшего наступления новой эпохи [11].
Конечно, классическая философия далека от идеала и совершенства, а разум самопротиворечив, но другого инструмента познания не существует. И вопрос не в парадигме научной рациональности, которая каждый раз заново назначает границы познающего разума. Другой надежды на лучшее будущее у человечества нет, кроме приобретения нового знания, познания. В этом смысле верить можно только в логос, логоцентричную философию. Поэтому ключ к познанию лишь классическая философия, либо, по крайней мере, логичная неклассическая философия, которая нацелена на познание. Ведь, в противном случае, как можно познавать с помощью той философии, которая утверждает невозможность и бессмысленность познания как такового? Использовать для познания такую философию крайне не прагматично, потому что это не даст никакого результата.
В конечном счете, классическая философия – это не мелочное исполнение предписаний и инструкций философов, которые жили не ранее чем век назад, не формализм. А творчество, созидание нового на основе понимания сущности, духа классической философии, со-бытие общения современного философа и философа, жившего не ранее чем век назад, апофатический, сокрытый процесс, но не мистика, а вполне рациональная деятельность.
Встреча классики и ее постмодернистского двойника в реальности
Естественно, что на практике четкую и однозначную черту между классикой и ее постмодернистским двойником провести не всегда возможно. То есть на практике, используя физический термин, классика и ее двойник существуют в суперпозиции: временной остаток соединяется с симулякром классики, полностью порожденным постмодерном. С другой стороны, проблемой является поиск конкретных проявлений парадокса двойника в истории и выявление различия между парадоксом и революцией. Кроме того, парадокс хронологически, событийно, но не сущностно может и совпасть с революцией.
Во-первых, парадокс принадлежит области культуры и философии, а не экономических отношений. Во-вторых, общество, подверженное парадоксу не может на уровне дискуссии устранить противоречие, поэтому появляются проблемы военного характер. В-третьих, в обществе появляется слишком много смыслов, за счет чего они обесцениваются. В-четвертых, в связи с обесцениванием смыслов появляется враждебная сила, смыслы у которой выглядят как классические. В-пятых, качественные и количественные характеристики парадокса зависят от размера территории, на которой произошла деградация смыслов и степени этой деградации.
Проблемы военного характера возникают, потому что, как отметил Бодрийяр, настоящим, имеющим смысл, остается только смерть. Терроризм связан со смертью, как с реальной, так и символической. Поэтому, как отмечал Бодрийяр в работе «Символический обмен и смерть», система не может существовать без терроризма [11]. Со временем, как отметила Д. Э. Гаспарян в работе «Неклассическая философия» [4], система инсинуирует оппозицию, она становится частью системы, для внесистеменой оппозиции остается только радикализм [4]. Отсюда вывод: в постмодернистскую эпоху системе остается лишь институировать радикализм, объявив его классикой, тем самым, используя ее двойник, порочить ее.
Как мы полагаем, парадоксы двойника в меньших масштабах происходили в истории неоднократно, но смыслы не размывались так сильно, как в постмодернистскую эпоху. Три примера. Хотя в истории было и множество других.
Первый. Римская империя, начиная с эпохи кризиса III в. н.э. После присоединения новой территории боги покоренных народов становились частью римского пантеона. Это означало профанацию религиозных смыслов, веротерпимость превращалась в исполнение гражданского долга. Против этого выступали христиане, для которых религиозные ценности были значимы. Соответственно, серьезное значение для римлян в таких плюралистических условиях имела только смерть, поэтому уничтожали христиан ради сохранения плюрализма. Христианство стало классикой, а римский политеизм, объединявший богов многих народов, имевший по-настоящему архаичную историю, превратился в симулякр классики, превратился в постмодерн локального масштаба. Дабы не допустить парадокса необходимо было сохранение единства, поэтому христианство стало господствующей в Риме религией. Но происходящий процесс «варваризации», смешение христианского и языческого, деградация римлян вели к новому парадоксу. В 476 г. Западно-Римская империя пала. Но масштабный парадокс удалось предотвратить: «варвары» становились христианами, хотя и в первое время борьба шла между католиками и арианами, но это была внутренняя борьба системы, поэтому более не было классики и ее двойника. Германцы заняли место римлян в управлении, принесли вместе с собой иные ценности, но все же произошел синтез, а не парадокс.
Второй. Константинополь (столица Византии) пал в 1453 году. Множественность смыслов была достигнута за счет унии православия и католичества, что разделило людей на ее сторонников и противников. Христианство, тем самым, начало размываться. Однако, в данном случае, тяжело отличить классику от ее симулякра, хотя, с точки зрения логики, больше черт симулякра классики было у турок, т.к. они разрушала сложившуюся систему, не смотря на начало появлении множественности в Византии, но Византия все еще не теряла «классичности». Так или иначе, парадокс начал происходить, но, как и в предыдущем случае он не закончился, а привел к появлению новой цивилизации. Византия выдержала «варваризацию» в античную эпоху, приход славян породил Болгарию, ослабив ее, турецкой экспансии Византия уже не выдержала.
Третий. Российская империя в 1917 г. и во время Гражданской войны. Вместе со свержением монархии процессы, происходившие в обществе, культуре и философии фактически начали создавать парадокс. Русская культура и философия того времени, как считает Н.А. Царева, была во многом схожа с постмодерниской [17]. Кроме того, было множество политических сил и терроризм. Первая Мировая усугубила проблему: профанированной оказалась смерть, жизнь человека начала терять свою ценность. В феврале 1917 г. создали квазипостмодернистскую ситуацию, роль двойника классики исполнил социализм, а, позже, во время Гражданской войны, большевизм, что привело к парадоксу, который опять не дошел до конца, ведь система не была до конца уничтожена, появилось Советское государство.
В современной Европе многие признаки намечающегося парадокса, отмеченные выше, проявляются все сильнее. В Европе и США смыслы и ценности размываются. Классика в
Европе и США ослабла, потому что ради сохранения относительного единства и порядка она подавляется, зато поддерживаются различные меньшинства постмодернистского толка. Европейская политика в дальнейшем может привести к парадоксу двойника. Завершится ли он или, как и ранее, остановится, не закончившись, либо приведет к коллапсу систему, прогнозировать сложно, но коллапс может начаться через некоторое время.
Итак, парадокс двойника может привести к двум различным последствиям: либо уничтожить систему («смерть философии»), либо перезагрузить ее, но со значительными изменениями. До настоящего времени пока случалось лишь второе. Но чем масштабнее коллапсирующая система, тем серьезнее последствия от парадокса двойника вне зависимости от того, завершился ли он или нет.
Заключение
Таким образом, для человека и человечества существуют две равновероятные альтернативны. Первая – парадокс, порожденный постмодерном, уничтожает науку и философию (причина), поэтому их вместе с человечеством неминуемо ждет «смерть философии» (и следствие). Вторая – знание со временем поможет преодолеть парадокс, парадокс, трансцендирование не уничтожит разум, систематическое и логичное мышление, философию и науку. Только знание и процесс его познания оставляют надежду. Хотя самостоятельное существование философии, религии, науки, искусства, их без со-бытийное бытие может наоборот усилить парадокс. В этой связи парадокс не преодолим без со-бытия встречи Я и Другого.