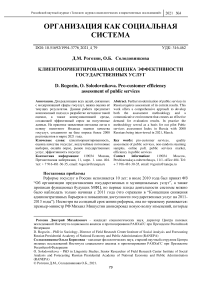Клиентоориентированная оценка эффективности государственных услуг
Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович, Солодовникова Ольга Борисовна
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Организация как социальная система
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Для реализации всех целей, связанных с модернизацией сферы госуслуг, важна оценка её текущих результатов. Данная работа предлагает комплексный подход к разработке методики такой оценки, а также коммуникативной среды, создающей эффективный спрос на полученные данные. На практике заявленная методика легла в основу пилотного Индекса оценки качества госуслуг, созданного на базе опроса более 2000 респондентов в марте 2021 года.
Клиентоориентированность, оценка качества госуслуг, неслучайные потоковые выборки, онлайн опрос, рынок государственных услуг, эффективность госуслуг
Короткий адрес: https://sciup.org/142231870
IDR: 142231870 | УДК: 316.462 | DOI: 10.51692/1994-3776_2021_4_79
Текст научной статьи Клиентоориентированная оценка эффективности государственных услуг
Постановка проблемы
Реформе госуслуг в России исполняется 10 лет: в июле 2010 года был принят ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, а также прописан функционал будущих МФЦ, но первые плоды деятельности системы можно было наблюдать только начиная с 2011 года (что отражено в “Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 20112013 годы”). Несмотря на солидный срок жизни реформы, она по-прежнему развивается: премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал новую волну изменений, которые коснутся как численности госаппарата, так и работы портала госуслуг, на период с 1 января по 1 апреля 2021 года [7].
На старте реформы отношение граждан к качеству оказания государственных услуг оставляло желать лучшего: так, согласно опросу ФОМ за 2012 год, 44% респондентов считали его плохим, 32% — хорошим, а 24% затруднялись ответить (вероятнее всего, избегая в реальной жизни столкновения с госаппаратом) [26]. В конце 2012 года 43% наших сограждан не получали и не хотели бы получать госуслуги через интернет [25] и скептически воспринимали нововведения, предпочитая личное общение любым формам опосредованной коммуникации. Весной 2020 года ситуация изменилась кардинально: дополнительный поток пользователей портала «Госуслуги» составил4,5 млн. граждан в месяц против 1,5 млн. в другие месяцы 2020-го года, число обращений на портал достигло 9 млн. человек ежедневно [24] и уже каждый второй сообщил, что хорошо бы и дальше развивать получение госуслуг в электронном формате [4]. Последний факт, как кажется, неоспоримо свидетельствует в пользу реформы: само время продемонстрировало её целесообразность и эффективность.
Парадоксы госуслуг
Однако поверхностная оценка результатов административного воздействия в данном случае может уводить от реальности — того эмоционального фона, который возникает у каждого гражданина в момент получения конкретной услуги и столкновения с госаппаратом. Этот фон во многом создает атмосферу доверия или недоверия к государству как таковому. Российские экономисты и социологи (Александр Аузан, Симон Кордонский) неоднократно подчёркивали, что наше общество характеризуется высокой социальной дистанцией между властью и человеком, а наиболее выигрышной стратегией поведения (вне зависимости от позиции, занимаемой конкретным игроком) является “уклонение” от прямого государственного вмешательства/интереса/воздействия [1; 9; 10, с. 118]. В этой связи сама необходимость обращения в “службу одного окна” за получением справки и проч. является вызовом для человека, так как “отвлекает” его от жизни, создаёт ненужную “волокиту” и т.д.
Парадокс, связанный с оценкой восприятия госуслуг, может быть сформулирован следующим образом: в отличие от бизнес-предложения, которое является реакцией на некоторые запросы/потребности пользователей/клиентов, предложение госуслуг не обусловлено конкретными потребностями или запросами самого гражданина. Позволим себе сильное утверждение: если бы, например, государственную границу можно было пересекать без получения загранпаспорта, как в начале XX века, большой процент соотечественников так бы и поступал, не обращаясь в профильное миграционное ведомство. Необходимость использования государственных услуг продиктована, как правило, не сознательным желанием самого гражданина (за исключением случаев обращения за медицинской помощью и т.д.), а требованием самого же государства. Так, сфера госуслуг оказывается вынужденной удовлетворять запросы, которая сама же и породила. Её существование и функционирование является объектом критического отношения уже вне зависимости от качества работы; таким образом, нуждается в проактивной позиции госведомств, направленной на апологетическое оправдание своего существования.
Развитие концепции социального государства ничего не меняет в этой ситуации: по-прежнему требуется объяснить, почему государство отвечает за те сферы, в которых доказали свою эффективность НКО и бизнес, и в чём его обслуживающая (а не только организующая и контролирующая) роль. Сам транзит подходов и методов организации работы из бизнеса, риторика клиенториентированности [5; 12; 19], замещение традиционных способов государственного управления бизнес-моделями [14; 15; 17] могут рассматриваться как формат оправдания государством своего места в качестве востребованного и эффективного контрагента, поставщика услуг.
В этой связи заимствованные из бизнеса способы оценки качества госуслуг, их эффективности имеют ограниченные возможности применения. Перед бизнесом не стоит задача оправдывать своё существование, тогда как перед сферой госуслуг она стоит по умолчанию: нужно не просто отвечать на запросы, но предвосхищать негативные реакции , менять плохие ожидания на противоположные. На языке бизнес-процессов, опять-таки, эта деятельность может быть разложена на составляющие [23, с. 63-70], которые легли в основу Индекса оценки качества госуслуг, предложенного Центром полевых исследований ИНСАП РАНХиГС:
— поддержание информированности (т.е. знания потребителем услуги, где и как он может её получить);
— своевременность оказания услуги;
— вежливость при работе с гражданином (на всех стадиях процесса);
— адекватность предоставления услуги (чтобы гражданин получил то, что хотел, и таким образом, каким ему это удобно).
Каждая из составляющих (в случае уместной реализации) снижает для конкретного человека неизбежные “издержки” обращения к госаппарату, способствуя росту доверия к государству.
Прозрачная оценка?
Сложности возникают с тем, как оценить все четыре фактора. В соответствии с Постановлением правительства РФ от 31 марта 2018 г. №395, мониторинг качества оказания госуслуг “Ваш контроль” образует уже целую систему, включающую в себя смс- и телефонные опросы, работу с терминалами и иные способы оценки пользователями работы МФЦ и профильных ведомств. Указано, что полученные по всем каналам “мнения граждан обобщаются и систематизируются с помощью автоматизированной системы «Ваш контроль», которая также в автоматическом режиме рассчитывает показатели эффективности деятельности должностных лиц, ответственных за предоставление услуг” [18]. В этом подходе, несомненно, подкупает цельность и масштаб работы с Big Data, но настораживает закрытость производства аналитики/получения результатов. Парадоксы работы госуслуг множатся: они не только удовлетворяют запросы, которые само государство и породило, но и оценивают свою работу, исходя из алгоритмов, известных только государству. Сфера, позиционирующая себя как изначально открытая гражданину, постепенно превращается в “чёрный ящик”. Особенно серьёзным этот вызов “непрозрачности” стал в период пандемии: вспомним, сколько споров породил сбор данных о “самоизолированных”, желавших получить временные пропуска на выход в магазин, установка камер видеонаблюдения и распознавания лиц и т.д. [20; 21]. “Автоматизированные системы в автоматическом режиме” собирают оценки, личные данные граждан и т.д. [11], эксплуатируя ресурс доверия последних к государству, добываемый с таким трудом в ходе вежливого, своевременного и эффективного отправления госуслуг. Возникает острый вопрос: происходит ли накопление этого доверия быстрее, чем его исчерпание? Остаётся ли гражданин в эмоциональном “выигрыше” от общения с государством или подозревает обман Большого брата?
Говоря обобщённо, эффективность госуслуг определяется тем, как они работают на имидж государства в глазах человека, на сокращение “социальной дистанции” между обществом и государством. А значит, автоматизация всех процессов уместна лишь до той стадии де-персонификации, на которой человек уже перестаёт быть человеком, гражданином, превращаясь в ресурс для “правильного документооборота”. Существующая система госуправления заточена под то, чтобы оценивать качество чего-либо посредством формально-задокументированных отчётов, но в общении с гражданами “бюрократизация”, подотчётность всего и вся сама по себе снижает качество (эффективность) этого общения. Таким образом, применяя неуместные системы оценки качества госуслуг мы рискуем повредить их работе, превратив нужды потребителя услуг в “параданные”, а бесконечные отчёты — в единственно интересные госмашине сведения.
Необходимо прорываться к “реальности”, делая саму оценку качества госуслуг настолько простой и прозрачной для пользователя, насколько это возможно. Автоматизация всех процессов имеет несомненные сильные стороны, снижая традиционные для нас непотизм/коррупцию и проч., но должна оставлять возможности для личного участия и голоса.
Зарубежный опыт
Заметим, что описанный круг проблем имеет не только российское, но и общемировое значение. Скажем, Ричард Бойл, глава исследовательского направления Института госуправления Ирландии (Institute of Public Administration) в последней статье, анализирующей десятилетие реформ госуслуг в этой стране (с 2011 по 2020), отмечает ключевую проблему всего сектора — падение доверия к государственным службам [30]. В рамках четырёх традиционных способов улучшения ситуации: работа с людьми, оказывающими госуслуги (повышение мотивированности, подготовленности и т.д.); работа с общественным мнением (через механизмы партиципации и т.д); межведомственная координация и коллаборация; посильная децентрализация и поиск доказательств эффективности собственной работы — он полагает последнее наиболее актуальным. В эпоху пост-правды сложности вызывает не столько проведение опросов и составление “индексов качества”, сколько “повышение эффективного спроса на качественные данные со стороны политиков и людей, принимающих решения”. Эффективным спросом доктор Бойл называет такой, который был бы связан с дискуссией вокруг любых результатов: организацией площадок, где данные разных отчётов сравнивались и публично обсуждались, чтобы уязвимые места и выигрышные стратегии каждой работы способствовали улучшению качества общей оценки.
Британские исследователи госуслуг в области здравоохранения, Петер ван де Грааф, Мэнди Читман, Сэм Редгейт с коллегами также сообщают о необходимости перехода от закрытых систем оценки и экспертизы к “совместному производству научных данных (...) для повышения эффективности принятия решений о государственных услугах в условиях жесткой экономии” [31]. Частью их программы является создание “общественных площадок/пространств для рефлексии”, участники которых превращали бы объективированные показатели/результаты работы конкретного регионального подразделения/ведомства в разделяемое всеми видение. Их определение “совместного производства научных данных” выглядит сложно, однако затрагивает все узловые сюжеты: его “можно одновременно представить как процесс, кодификацию и потенциал: контекстуальный процесс смены ролей и баланса сил, которые кодифицируют различные типы знаний на различных этапах в итеративных и высокоинтерактивных структурах, управляемых различными акторами, сетями и институтами, чтобы устойчиво внедрять совместно произведенные знания в свои организации и культуры, создавая общий язык и способность поглощать эти знания”. Попыткой внедрения этой технологии является Схема оценки практики здравоохранения (Public Health Practice Evaluation Scheme), действующая в стране с 2013 года. Заметим тут же, что и её эффективность оценивается неоднозначно (что, однако, не говорит плохо о технологии: важна не одна конкретная оценка, а сумма дебатируемых экспертиз, составляющих поле дискуссии).
Обсуждение английского и ирландского опыта тем более интересно, что именно британский режиссёр Кен Лоуч в 2016 году снял фильм, посвящённый неравному бою гражданина с максимально деперсонализированной и внешне эффективной системой госуслуг: “Я, Дэниел Блейк” получил золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. В центре киноленты — как раз просьба конкретного Дэниела Блейка, плотника предпенсионного возраста, отнестись к нему по-человечески, не оценивая по телефонной метрике его здоровье и не ставя его жизнь в прямую зависимость от уверенного использования интернета. В сравнении с другим участником Каннского кинофестиваля — российским фильмом “Левиафан” Андрея Звягинцева — картина Кена Лоуча открывает неутешительные перспективы “модернизации” госуправления: устранение коррупции, непотизма и произвола властей и служб далеко не всегда гарантирует больше безопасности и свободы для конкретного гражданина. Осуществление всякой реформы — динамический процесс, требующий критического анализа на каждой стадии.
Разрабатывая Индекс оценки качества госуслуг, Центр полевых исследований ИНСАП РАНХиГС видит задачу шире и хотел бы соответствующим образом поставить проблему: нужна не просто система оценки (более или менее идеальная) госуслуг, а появление инфраструктуры, площадки, где разные системы оценок взаимно проверяли бы друг друга, создавая эффективный спрос на такого рода знание.
Методика исследования
Опрос, лёгший в основу Индекса, был проведён в короткие сроки (с 23 по 27 марта включительно) на неслучайной потоковой выборке. Следует заметить, что потоки от разных коллекторов (их было в общей сложности 6) включались неравномерно: один из последних (и наиболее результативный) заработал только 26-го числа. Таким образом, достаточная норма для наполнения потока (около 4 дней) была выдержана не по всем коллекторам.
Всего опрошено 2110 человек. В опросе представлена наиболее образованная и критически настроенная аудитория. 76% имеют высшее образование, еще 10% – ученые степень.68% – экономически активны, имеют какую-либо занятость, на пенсии – 18%. Более четверти опрошенных (27%) указали, что имеют семейный доход 120 тысяч и более. Немногим более половины опрошенных за прошедший год выезжали за пределы своего региона, около 10% – за границу. 95% проживают в городе и многие – в Москве (35%) и Санкт-Петербурге (11%).
Результаты опроса не репрезентативны и не представляют население России, однако позволяют сформулировать значимые гипотезы и выделить характерные особенности восприятия качества государственных услуг различными социальными группами.
Работа в соцсетях
В Фейсбуке и Инстаграмме мы таргетировали опрос на максимально широкую аудиторию — “18+”. Было запущено три кампании, результативность каждой из которых оказалась низкой. Первая кампания при охвате 43611 интерфейсов (то есть устройств, персональных лент, в которых прошло наше объявление, включая ботов) дала только 1679 переходов к анкете (заметим, на этой стадии мы ещё не отсеиваем людей от ботов). Таким образом, доля переходов составила всего 4%, что можно считать крайне низким показателем и что вызывает обеспокоенность эффективностью (совмещённой с непрозрачностью!) работы алгоритма Фейсбука и Инстаграмм. Из этих 1679 анкет полностью заполненных оказалось только 273. Оценка параданных (время заполнения анкеты, спонтанность ответов, IP-адрес устройства и ОС, с которой был совершён вход) позволяет отсечь ботов и гарантировать, что данные анкеты заполнены конкретными людьми. Итого: мы получили 16% заполненных анкет от всего объёма переходов к опроснику, некий аналог “коэффицента кооперации”. Для сравнения: в прошлом году такая же кампания давала нам более 1000 заполненных анкет, причины падения “коэффицента кооперации” почти в 5 раз пока остаются неустановленными.
После первой кампании была запущена вторая, с другого аккаунта, но с теми же параметрами. Охват составил 42 577 интерфейсов, количество переходов возросло в 1,5 раза — до 2103, а заполненных анкет оказалось меньше — 207.
Третья кампания провалилась относительно даже первых двух: охват — 12036, переходов — 528, полных анкет — всего 14.
Таким образом, традиционным таргетированием нам удалось собрать чуть более 400 заполненных анкет, что совершенно недостаточно для значимых выводов.
Решением проблемы стало использование собственных и дружественных аккаунтов в соцсетях, связанное с “рукотворным” таргетированием. В частности, реклама анкеты в аккаунте Ивана Низгораева в Фейсбуке дала 316 переходов к опросу и 141 полную анкету (то есть коэффицент кооперации в данном случае возрос до 45%, что является в целом нормальным показателем). Аналогичные действия были предприняты на личной страничке Дмитрия Рогозина в “Одноклассниках” (параллельно с этим запустилось таргетирование в данной социальной сети). “Одноклассники” обеспечили 387 переходов и 141 полную анкету, то есть уровень кооперации в 36%.
Были задействованы также два “нишевых” коллектора: рассылка анкеты по сети Института прикладной урбанистики и медиапроекта “Стол”. Они, фактически, не сработали, дав в общей сложности менее 30 заполненных анкет (хотя уровень кооперации соответствовал норме).
Наконец, решающий вклад в исследование внесла Екатерина Шульман, сопроводив ссылку на анкету в своём Телеграмм-канале неформальным комментарием об опросе “родной академии”. Её пост просмотрело 27000 человек (что является эквивалентом “охвата” в Фейсбуке), а перешло к анкете 2033 человека (то есть доля переходов здесь также низка — 5,3%). Однако коэффицент кооперации очень хорош: 71%, то есть мы получили 1451 полную анкету.
По итогам работы со всеми потоками в соцсетях было собрано 2256 полных анкет, из которых меньше трети пришло с помощью простого таргетирования, а остальные были набраны “вручную”.
Качество выборки
Работа с неслучайным выборками требует выравнивания и взвешивания групп респондентов, обладающих схожими социо-демографическими параметрами, но пришедших от разных коллекторов. Это позволяет оценить надёжность выборки, а именно: насколько те или иные ответы характерны для конкретной социальной группы, а насколько они определяются спецификой площадки, посредством которой респондент перешёл к опросу. Взвешивание и выравнивание позволяет нам изучать не аудитории коллекторов, а совокупности опрошенных, имеющих схожие признаки.
На втором этапе работы с выборкой возникает необходимость внешней оценки надёжности, то есть сравнения наших данных с данными Росстата (на 1 января 2020 года). В данном исследовании (как и многих других, выполненных по схожей методике) смещения имеют характерный профиль.
Половозрастные пропорции нашей выборки, в целом, соответствуют пропорциям Росстата; единственное отклонение — некоторое преобладание женщин 35-50 лет (27% у нас против 17% у Росстата), что объясняется более высоким коэффициентом кооперации у женской аудитории. Что касается места проживания, то наша выборка сильно смещена в сторону столичного региона (41% опрошенных против 14% у Росстата), и в целом — в сторону городского населения (95% у нас против 75% у Росстата).
Однако самое большое отклонение от Росстата связано с уровнем образования наших опрошенных: 85% имеющих высшее образование у нас в сравнении с 30% в выборке статистического ведомства.
Таким образом, можно констатировать, что опрошенные нами принадлежат в целом к городской высокообразованной прослойке граждан, хорошо ориентирующейся в информационном пространстве, мобильной и, как правило, материально обеспеченной.
Парадоксы неслучайных выборок
Несмотря на то, что около подавляющее большинство социальных исследований в мире реализуется на неслучайных выборках [29; 33], методика работы с ними до сих пор вызывает сложности. В частности, в отчёте рабочей группы AAPOR зафиксирована растерянность исследовательского сообщества перед этим инструментарием: он, несомненно, полезен, но экспериментальных планов, позволяющих оценить его проблемные аспекты, по-прежнему недостаёт [2]. Алексей Чуриков, управляющий директор компании “инФОМ”, специалист по выборочным дизайнам, предложил оригинальный способ избежать методических сложностей, воспользовавшись “идеей статус-кво”, а именно: утверждением, что пока не доказано/не обнаружено существенных ошибок, вызванных работой с неслучайными выборками, обращаться с последними как со случайными. Сегодня этой позиции придерживается большинство игроков российского (и зарубежного) опросного рынка, однако она, несомненно, уязвима и рано или поздно потребует серьёзного методологического анализа.
Заметим, что даже беря в расчёт все допущения, при работе с неслучайными выборками требуется особая осторожность. В первую очередь, мы не можем говорить об абсолютных “процентах россиян”, предпочитающих тот или иной ответ на вопрос анкеты, а только о внутривыборочных различиях отдельных типов респондентов или поведенческих трендах той социальной группы, которая преимущественно представлена в данной выборке (в нашем случае: городские высоокообразованные граждане, хорошо ориентирующиеся в инфополе и т.д. — см. выше). То есть анализ опроса на неслучайной выборке граничит с областью социальной психологии и несколько отстоит от количественной социологии.
Большей эффективности при работе с такими выборками можно достичь, используя большие данные [6] и различные параданные [8; 13; 16], собранные в ходе исследования. В частности, если внутривыборочные группы сильно дифференцированы благодаря собранным параданным (не просто “женщины” или “женщины 55+”, а “женщины 55+, отвечающие на анкету медленно, часто затрудняющиеся ответить, предпочитающие телевизор газетам, проводящие лето не приусадебном участке и т.д.”), это позволяет сравнивать между собой ответы различных социальных групп с бОльшими на то основаниями. Надёжность таких сравнений, опять же таки, требует последующих сравнений с данными, основанными на других неслучайных выборках, образуя облако “больших данных”, взаимно верифицирующих результаты каждой последующей работы. О похожем алгоритме работы говорит профессор Сергей Чесноков, когда вводит в социологическую практику механизмы детерминационного анализа и комбинаторики [28].
В реальности такая модель максимально верифицированных исследований, основанных на неслучайных выборках, может реализоваться только при условии обнародования всеми игроками всей методической информации, сопровождавшей опрос. Она требует сбора, хранения и анализа максимального количества параданных. Однако сегодняшняя практика социологических исследований далека от этой максимы: как крупные полстеры, так и небольшие конторы предпочитают оставлять “свою кухню” в тени [22], а часто — уничтожать сложные для хранения параданные (в частности, записи телефонных разговоров) сразу после проведения опроса. Практика методического аудита ограничивается исключительно внутриведомственной (внутрикорпоративной) проверкой.
Очевидно, эта проблема сопряжена с той, о которой мы писали выше: мы нуждаемся не столько в проведении “качественных опросов”, сколько в создании инфраструктуры опросов, способной поддерживать стандарты качества посредством максимальной открытости методологии и общего аудита.
Пример работы с параданными
Перспективы неслучайных выборок при анализе поведенческих установок отдельных социальных групп, как уже было сказано, очень интересны. Даже в рамках данного исследования мы можем заметить характерные закономерности в ответах “молодых, высокообразованных и материально обеспеченных мужчин” в сравнении с ответами преимущественно женской и более возрастной группы респондентов. Первые заполняли нашу анкету, как правило, переходя на неё по ссылке Екатерины Шульман, вторые — чаще всего становились респондентами посредством традиционного таргетирования.
И тем, и другим свойственно в целом позитивное отношение к госуслугам, однако способ его демонстрации различен: более образованная и рефлексивная группа склонна выбирать вариант ответа “скорее согласен”, более возрастная и женская — “полностью согласен”. Можно утверждать, что “полностью согласных” по всему коллектору “Екатерины Шульман” всегда меньше, чем “скорее согласных”; и что обратное справедливо для другого типа респондентов. Подобные наблюдения способны внести коррективы в коммуникативные стратегии операторов госуслуг, дифференцировать предложения в зависимости от типа пользователя, на которого они направлены.
Результаты исследования
На прямой вопрос, приходилось ли нашим респондентам за последний год получать какую-либо государственную или муниципальную услугу, подавляющее большинство (85%) ответили утвердительно. Что интересно: даже те, кто решили, что ничего подобного не получали, после второго уточняющего вопроса (“Пожалуйста, посмотрите на список: возможно, Вы обращались за какой-нибудь из перечисленных услуг”) — в 56% случаев всё-таки могли указать одну из позиций. Какие услуги сразу не воспринимают как государственные? Во-первых, медицинские, во-вторых — налоговые; с другой стороны, есть коммерческие услуги, которые в сознании соотечественников оказываются “государственными” (сервисы в области ЖКХ, вызывающие критику). Налицо коммуникативная проблема, подрывающая имидж государства: недобросовестная работа коммерческих компаний (различного уровня подчинения) оказывается на совести акторов госуслуг. Интересно, что в итоге наибольший процент участников опроса (41%) сообщил о получении ими медицинских услуг — то есть данное исследование во многом замеряет удовлетворённость населения сектором здавоохранения. Не исключено, что смещение обусловлено проведением исследования в период длящейся эпидемии коронавируса.
Критерии оценки качества госуслуг
Мы предлагали респондентам оценить последнюю из полученных ими госуслуг по 4 параметрам (таблица 1):
— информированность (было ли человеку известно заранее, как и где получить услугу);
— своевременность (вовремя ли оказали услугу);
— вежливость (корректно ли предоставили услугу);
— адекватность (была ли услуга надлежащего качества, получил ли человек то, что хотел).
Таблица 1 – Оценка качества предоставленной государственной услуги, % по столбцу
|
Согласие с оценками |
Информированность: заранее было известно, где и каким образом получить услугу |
Своевременность: услуга была оказана вовремя, в оговоренные сроки |
Вежливость: услугу предоставляли вежливые и корректные специалисты |
Адекватность: услуга предоставлена надлежащего качества, как и требовалось |
|
Полностью согласны |
44 |
50 |
41 |
43 |
|
Скорее согласны |
36 |
25 |
33 |
32 |
|
Скорее не согласны |
12 |
10 |
10 |
10 |
|
Полностью не согласны |
6 |
11 |
5 |
10 |
|
Затрудняюсь ответить |
2 |
3 |
11 |
5 |
Подавляющее большинство опрошенных довольны качеством госуслуг: общий фон позитивный. Однако здесь важны нюансы.
Проблемные сферы госуслуг
Информированность населения об услугах находится на очень высоком уровне: 80% респондентов сообщили, что с этим нет проблем (см. таблица 1). Однако две услуги составляют существенное исключение — это сервисы, связанные со службой занятости и долговременным уходом/реабилитацией. Для сравнения: среди получателей госуслуг по поддержке безработных 36% не знали, как и где их получить (в среднем по выборке — 18%).
Своевременность оказания госуслуг также выявляет эти две проблемные сферы: в среднем по выборке о срывах сроков получения сервисов говорит только 21% опрошенных, а среди безработных таковых вдвое больше — 42%.
Критерий вежливости наиболее позитивен. Реформа госуслуг, несомненно, привела к тому, что чиновник по ту сторону “открытого окна” больше не ассоциируется с унижением посетителя. Интересно, что при оценке данного параметра 11% респондентов “затруднились ответить”: это объясняется распространённостью интернет-обращений, общей автоматизации процесса оказания госуслуг. Вопросы вежливости отходят на второй план, государство становится невидимым — что тоже может считаться позитивным трендом.
Оценка адекватности предоставления госуслуг требует более сложного анализа, однако 75% опрошенных вполне ей удовлетворены. В среднем по выборке только 20% респондентов полагают, что полученная услуга была неадекватна, при этом, опять же, среди безработных уже 41% сетует на неадекватность. Среди тех, кто обращался за услугами долговременного ухода и получением средств технической реабилитации — оценивающих итог обращения как неадекватный уже 50%.
Таким образом, мы выявили “проблемный сектор” госуслуг, который преимущественно связан с помощью социально уязвимым и незащищённым категориям граждан . Заметим: наша выборка в целом смещена в сторону более благополучных слоёв; что позволяет утверждать — любой случайный телефонный опрос выявит ещё больший “провал” в этом секторе.
Рейтинг оценки различных госуслуг
Рассчитаем индекс эффективности государственных услуг как сумму положительных ответов на четыре компоненты качества услуги (информированность, своевременность, вежливость и адекватность), то есть как сумму ответов «полностью согласен» или «скорее согласен». Индекс располагается на шкале от нуля до четырех, где ноль – нет согласия ни по одному из компонентов качества и четыре – согласие по всем четырем компонентам качества.
Больше половины опрошенных соглашаются со всеми четырьмя признаками качества оказанной им услуги, ещё 22% – отмечают наличие хотя бы трех качеств, 12% – двух. И только 10% опрошенных отмечают лишь одно качество и 5% – ни одного. Последние две группы опрошенных наиболее критично относятся к предоставленным им услугам (таблица 2).
Таблица 2 – Распределение значений индекса эффективности услуг на выборочной совокупности, % по столбцу
|
Значения индекса |
Частота |
Процент |
Накопленный процент |
|
0 – плохо |
107 |
5 |
5 |
|
1 – не удовлетворительно |
211 |
10 |
15 |
|
2 – удовлетворительно |
250 |
12 |
27 |
|
3 – хорошо |
471 |
22 |
49 |
|
4 – отлично |
1071 |
51 |
100 |
|
Всего |
2110 |
100 |
Поскольку Индекс оценки качества госуслуг формировался простым суммированием, каждый из четырёх критериев имеет равный вес (что, в частности, оправдано нашими предыдущими исследованиями [23]).
Минимальное значение индекса , как и следовало ожидать, наблюдается в двух областях:
-
2,3 балла — услуги долговременного ухода;
-
2,4 — услуги по поддержке безработных.
Максимальное значение индекса выявляет менее очевидный список услуг-лидеров:
-
3,27 — услуги миграционного учёта;
-
3,14 — получение документов на личный транспорт;
-
3,13 — медицинские услуги;
-
3,12 — получение выписок и справок.
Таблица 3 – Среднее значение индекса эффективности различных госуслуг
|
Услуги |
Среднее значение |
N |
Стандартная отклонения |
|
Запись на получение и получение медицинских услуг |
3,13 |
870 |
1,172 |
|
Запись на получение и получение образовательных услуг |
3,00 |
52 |
1,172 |
|
Оформление социальных пособий, выплат, льгот |
3,05 |
191 |
1,184 |
|
Услуги долговременного ухода и средства технической реабилитации |
2,30 |
10 |
1,567 |
|
Получение выписок, справок |
3,12 |
207 |
1,201 |
|
Оформление и оплата налогов, пошлин, штрафов |
2,90 |
261 |
1,219 |
|
Получение документов на личный транспорт |
3,14 |
81 |
1,202 |
|
Оформление документов по правовым или судебным вопросам |
3,01 |
209 |
1,275 |
|
Поддержка безработных |
2,40 |
45 |
1,388 |
|
Миграционные услуги |
3,27 |
79 |
1,071 |
|
Другое |
2,58 |
105 |
1,378 |
|
Всего |
3,04 |
2110 |
1,217 |
Чтобы объяснить высокую позицию услуг миграционного учёта, а также медицинских услуг (вызывающих частую критику — см. ниже), требуется проведение дополнительных исследований.
Доверие службам, а не людям
Мы поинтересовались, будут ли наши респонденты рекомендовать своим друзьям получать услугу в том же учреждении (идеальный вариант для оценки работы ведомства), у тех же сотрудников (проблемный ответ: выявляет коррупционный/субъективный фактор в работе) или посоветуют получить услугу где-то ещё.
Общий фон, опять-таки, позитивный: первый вариант “совета друзьям” выбрали 67% опрошенных, второй — всего 4% ( огромное достижение реформы: исчезновение “персонификации” поставщика услуг ), третий — 16%.
Примечательно, что рекомендательный потенциал предоставленной услуги, практически, не зависит от пола и возраста респондента. Женщины старшей возрастной группы чуть более критичны, молодые мужчины – чуть менее: 19% женщин старше 55 лет и 12% мужчин 18-34 лет против 16% в целом по выборке предполагают, соответственно, что будут искать иной способ получения услуги (таблица 4).
Таблица 4 – Рекомендательный потенциал предоставленной услуги по половозрастным группам, % по строке
|
Если к Вам обратятся друзья за советом, как лучше получить эту услугу. Что Вы им порекомендуете? |
Половозрастные группы |
Всего (n=2073) |
|||||
|
18-34 м (n=322) |
35-54 м (n=272) |
55+ м (n=151) |
18-34 ж (n=377) |
35-54 ж (n=589) |
55+ ж (n=362) |
||
|
Обратиться в то же учреждение |
69 |
71 |
66 |
69 |
65 |
64 |
67 |
|
Обратиться к тем же сотрудникам |
4 |
3 |
6 |
4 |
4 |
6 |
4 |
|
Найти другой способ получения услуги |
12 |
17 |
15 |
17 |
16 |
19 |
16 |
|
Другое |
5 |
3 |
4 |
4 |
7 |
2 |
4 |
|
Затрудняюсь ответить |
10 |
7 |
10 |
6 |
8 |
9 |
8 |
Наиболее высокая доля тех, кто рекомендовал бы друзьям иной способ получения услуги, приходится на пользователей медуслуг (21%). Учитывая в целом высокую позицию медуслуг в Индексе, этот факт представляется интересным.
Наиболее персонифицированными по выборке в целом оказались образовательные услуги (12% советовали бы обратиться “к тем же людям”).
А вот пользователи “самого проблемного сектора” госуслуг очень редко могли бы что-то иное рекомендовать своим друзьям: и это продиктовано не их удовлетворённостью, а незнанием альтернатив. Госсистема заточена на удовлетворение требований по запросу, однако группа людей в трудной жизненной ситуации не способна сформировать сам запрос — поэтому оказывается заранее уязвимой. Интересно, что к схожим выводам приходят и зарубежные коллеги: британские исследователи зафиксировали “разрыв” между качеством оказания большинства госуслуг и качеством оказания услуг в области паллиативной помощи, так как большинство людей оказываются заранее “неинформированными” о возможности их получения, а в момент наступления несчастного случая — неспособными справиться с разрешительными бюрократическими процедурами [32].
«Брак» в госуслугах
Несмотря на общую удовлетворённость госуслугами, 38% опрошенных сообщили, что за последний год сталкивались с получением услуги очень плохого качества, 49% – не сталкивались и 14% – затруднились с ответом. Лидером по производству “брака” здесь является медицина: 12% из описанных 38-ми недовольны именно ей. На втором месте, с большим отрывом, спектр самых разнообразных услуг –, объединённых в блоке “другое” – менее 3% опрошенных, а на третьем — квази-государственные сервисы (ЖКХ и проч.).
В целом жалобы на очень плохое обслуживание равномерно распределены между разнообразными государственными услугами. Упоминаемые ранее проблемные услуги долговременного ухода и поддержки безработных не выделяются в списке негативных воспоминаний.
Наиболее чувствительными и значимыми критериями брака в оказании государственных услуг опрошенные назвали несвоевременность и неадекватность их предоставления: 48% опрошенных полностью согласны и 23% скорее согласны, что сроки оказания услуги были неоправданно затянуты, и 38% полностью согласны и 32% скорее согласны, что услуга предоставлена плохого качества или вовсе не предоставлена (таблица 5).
Таблица 6 – Оценка брака предоставленной государственной услуги, % по столбцу
|
Согласие с оценками |
Неинформированность: отсутствовала какая-либо информация об услуге. Не было понятно, что делать |
Несвоевременность: сроки оказания услуги были неоправданно затянуты |
Невежливость: специалисты были грубы и невнимательны |
Неадекватность: услуга предоставлена плохого качества или вовсе не предоставлена |
|
Полностью согласны |
31 |
48 |
20 |
38 |
|
Скорее согласны |
32 |
23 |
23 |
32 |
|
Скорее не согласны |
22 |
15 |
30 |
16 |
|
Полностью не согласны |
9 |
6 |
16 |
8 |
|
Затрудняюсь ответить |
6 |
9 |
12 |
5 |
Реже всего упоминалась невежливость и невнимательность персонала: всего 20% опрошенных полностью согласны с этим утверждением и 43% скорее согласны. Реже всего с уверенностью критикуют невежливость молодые мужчины 18-34 лет: в среднем по выборке полностью не согласны, что персонал был невежлив 16% опрошенных, среди мужчин этой возрастной группы – 8%. Наименее критичны к вежливости мужчины старше 55 лет: в среднем по выборке полностью согласны с невежливостью персонала 20%, среди мужчин старшего возраста – 8%. Другими словами, мужчины меньше обращают внимание на вежливость специалистов, оказывающих государственные услуги.
Цена услуги
Финансовая нагрузка, связанная с получением госуслуг, воспринимается как посильная: 75% пользователей имели дело с бесплатными услугами, среди тех, кто что-то платил, 67% — отдали менее 2 тыс. рублей. При этом оценка “справедливости” стоимости госуслуг более драматична: 41% считают её справедливой, 30% — несправедливой, 28°% — затрудняются ответить. Такое распределение может быть связано как с сенситивным восприятием вопроса справедливости в российском обществе, так и с тем, что люди оценивали не саму стоимость услуги, а её “качество”, формируя альтернативный “индекс”. Однако, заметим, больших различий в ответах “бедных” и “богатых” опрошенных не зафиксировано.
Запрос на улучшение
42% опрошенных убеждены, что в оказываемых им госуслугах можно что-то улучшить ; только 31% придерживается противоположного мнения. Заметим: вопрос был открытым, то есть отвечавшие утвердительно посылали “наверх” не просто смутные сигналы об “улучшениях”, а выдвигали конкретные идеи.
Чаще всего о возможных улучшениях сообщали пользователи следующих услуг (таблица 7):
56% — миграционные сервисы;
50% — образовательные услуги;
43% — медицинские услуги.
Таблица 7 – Представление о необходимости улучшать услугу, % по строке
|
Услуги |
Как Вы считаете, необходимо ли что-то улучшить в оказанной Вам услуге, сделать её более удобной, комфортной для получения или ничего улучшать не нужно? |
||
|
Ничего улучшать не нужно |
Необходимо улучшить |
Затрудняюсь ответить |
|
|
Запись на получение и получение МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
29 |
43 |
28 |
|
Запись на получение и получение ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
29 |
50 |
21 |
|
Оформление СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, ВЫПЛАТ, ЛЬГОТ |
38 |
39 |
24 |
|
Услуги ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА и средства технической реабилитации |
10 |
40 |
50 |
|
Получение выписок, справок |
34 |
36 |
30 |
|
Оформление и оплата налогов, пошлин, штрафов |
31 |
40 |
29 |
|
Получение документов на личный транспорт |
40 |
36 |
25 |
|
Оформление документов ПО ПРАВОВЫМ ИЛИ СУДЕБНЫМ ВОПРОСАМ |
32 |
39 |
30 |
|
Поддержка безработных |
29 |
38 |
33 |
|
Миграционные услуги |
25 |
56 |
19 |
|
Другое |
20 |
59 |
21 |
|
Всего |
31 |
42 |
27 |
Анализ ответов респондентов на открытый вопрос: “Как Вы считаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы улучшить качество оказываемых государственных услуг?” — позволяет уточнить полученные данные.
Во-первых, подтверждается озвученная мысль о запросе на “ограниченную деперсонализацию”: действительно, большинство респондентов ратуют за дальнейшее развитие электронных сервисов, однако требуют дополнить их “ живыми людьми на горячих линиях ”, “ неформальной обратной связью ” и т.д. Рука об руку с этими пожеланиями идёт второй популярный призыв: “ работать не на процедуру, а на результат, на человека ”, то есть — отказ от маскировки реального предоставления услуги посредством “правильно выстроенного документооборота”.
По-прежнему актуален запрос на бОльшую информированность — причём не о самом факте наличия услуги или месте её предоставления, а о порядке её получения. Характерное замечание нашего опрошенного:
-
- “ Необходимо улучшить коммуникацию с заявителями. В процессе оформления возникают вопросы, которые некому задать. Вебинары, которые делают, низкого качества. Я пробовала слушать один, через пару минут связь со стороны спикера исчезла. И спикер или не заметил, или забил. Вместо вебинаров, запишите видео, чтобы его можно было посмотреть в любой момент ”.
Другой респондент предложил госведомствам завести свои Youtube-каналы, где бы максимально подробно разбирался механизм получения той или иной услуги, а также активизировать работу пуш-уведомлений (или смс-уведомлений) об этапах прохождения запроса с пояснениями, что делать в случае нежелательного хода обращения. Ещё один вариант формулировки похожего запроса:
-
- “ На официальных ресурсах прописать полный алгоритм получения услуги в случаях, отличающихся от стандартных (положенных) путей, а не в общих чертах (сейчас: "следует оплатить штраф от столько-то до столько-то рублей, в таких-то регионах может отличаться", "обращаться в МВД". То есть ни точной суммы, ни точного подразделения узнать в интернете невозможно, как и по телефонам) ”.
Проблемы вежливости персонала волнуют наших респондентов, преимущественно, при столкновении с низовыми сотрудниками Пенсионного фонда России и медицинских организаций. Для последних актуально также предложение “ наладить межведомственное взаимодействие ”: не требовать с людей бумажных справок/выписок, которые можно получить в рамках электронного обмена между отдельными подразделениями больниц и поликлиник.
Технические неполадки и недоработки, по всей видимости, являются частой проблемой при обращении к базе данных Росреестра (и данной организации как таковой), формальные отписки — при взаимодействии с ФНС и ФССП. Отдельное неодобрение опрошенных вызывает невозможность внешней критики ведомства:
-
- “ Сейчас за качеством оказания услуг следит сам орган, которых их оказывает. На то, что Росреестр отказывает дать выписку из ЕГРН, я могу жаловаться только в Росреестр. Нужен единый центр и инструмент реагирования на обращения ”.
Крайне интересно, что запрос на адекватную оценку работы ведомств и учреждений неоднократно фигурировал в открытых ответах респондентов: “ Должен быть механизм обратной связи, которым легко было пользоваться. Причем он должен быть публичным, чтобы все видели, что к этой организации (госоргану) есть такие претензии ”, “ делать опросы среди покупателей услуг. Нужна большая прозрачность ”, “ проектировать сервисы с самими пользователями ” и т.д. Наличие такого запроса, несомненно, является хорошей стартовой площадкой не только для появления очередного Индекса оценки госуслуг, а для создания открытой инфраструктуры “оценивания” работы бюрократии, о которой мы писали выше.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Высокая оценка качества госуслуг
Наше исследование зафиксировало высокую оценку качества госуслуг большинством участников опроса, несмотря на то что ряд стартовых условий должен был способствовать обратному результату. В частности, выборка смещена в сторону более высокодоходных и высокообразованных слоёв, хорошо ориентирующихся в информационном пространстве, лояльных по отношению к таким публичным интеллектуалам, как Екатерина Шульман: следовало ждать от них более критичной (а не только рефлексивной) позиции. Кроме того, 41% респондентов в качестве последней услуги, полученной ими от госведомств, указал медицинскую услугу.
Хорошо известно, что отношение к здравоохранению в стране традиционно критичное: скажем, опрос ФОМа 2019 года зафиксировал 53% опрошенных, считающих, что дела в российской медицине обстоят “плохо”, 35% — удовлетворительно и только 7% — хорошо [27]. Однако мы видим позитивный фон ответов. О чём он может свидетельствовать? Одна из гипотез подсказывает, что хорошо сработало само построение анкеты: мы спрашивали респондентов не об оценке госуслуг в целом, а об оценке ими вполне конкретной, последней из полученных госуслуг (и только потом об отрицательном опыте взаимодействия с госведомствами). Таким образом, мы старались снять традиционный для социальных обследований контекст “жалоб” населения, а также преодолеть инерцию памяти, концентрирующейся, как правило, на негативном опыте взаимодействия с государством. Также это помогало избежать излишней “медиатизации” вопроса. Однако, не исключено, что реальное объяснение лежит в другой плоскости: например, связано с общей эпидемиологической ситуацией, эмоциональной поддержкой медицинского персонала, сокращением числа плановых посещений больниц и т.д. Здесь требуется дальнейшая верификация.
«Провал» в области услуг для безработных и требующих реабилитации граждан
Несмотря на, в целом, положительную оценку услуг в области здравоохранения, граждане, нуждающиеся в средствах технической реабилитации, как правило, не удовлетворены результативностью своих обращений в госорганы. Столь же проблемно оцениваются госуслуги, рассчитанные на поддержку безработных. Можно было бы предположить, что наиболее критично оцениваются услуги, эффективность получения которых наименьшим образом связана с эффективностью документооборота — то есть человеку интереснее получить помощь, чем какое-либо формальное разрешение/документ. Однако как в таком случае объяснить лояльность опрошенных по отношению к системе образования и медицины в целом? Это тот случай, когда полученные выводы ставят дальнейшие вопросы.
Деперсонификация поставщика госуслуг
Опрошенные крайне редко готовы рекомендовать своим друзьям конкретного специалиста для получения той или иной услуги. Данный факт на современном этапе развития сферы госуслуг является скорее плюсом: он говорит о качестве работы всего аппарата, исключающем “человеческий фактор” и устраняющим трения между чиновниками/просителями, имевшие место на предыдущих этапах.
Однако эти результаты не соответствуют стандартным интуициям, связанным с критериями выбора, например, учителей и врачей для себя и своих детей. Можем ли мы говорить о том, что поставщики медицинских услуг, врачи и младший медицинский персонал в стране тоже становятся “деперсонифицированными”? Или мы всего лишь зафиксировали тот факт, что представители нашей выборки обращаются к врачам из госполиклиник за помощью, не слишком связанной с профессионализмом последних (открытие больничных, получение справок, выписка анализов и проч.), а лечиться предпочитают у кого-то ещё? Тем более что, согласно опросу ВЦИОМ 2019 года, россияне (даже на массовой выборке) критично относятся к действиям врачей: 41% опрошенных, например, перепроверял поставленный им диагноз [3]. Не исключено, что наш опрос замерил только удовлетворённость опрошенных услугой “коммуникации с медицинским ведомством”, а отнюдь не качеством врачебной помощи:
« Очередь. Пара часов у монитора или в коридоре, пара минут у врача. И там, взгляд на тебя, и в компьютер, всё, уходи, приём окончен. Никаких претензий, услуга оказана. Пришел, отметился и помер. Может так и надо, может так и правильно ».
Выводы
Итак, отменим несколько значимых наблюдений:
-
1. Наиболее распространённой госуслугой, которую получали наши респонденты, является медицинская помощь (41%), однако её не сразу идентифицируют в этом качестве; услуги в сфере ЖКХ, напротив, часто приписываются государству без формальных на то оснований.
-
2. Общее отношение к госуслугам позитивное: максимальное значение Индекса оценки качества госуслуг выявляет тройку лидеров (услуги миграционного учёта, получение документов на личный транспорт, медицина).
-
3. Услуги-аутсайдеры, набравшие менее половины из возможных баллов — это получение технических средств для долговременного ухода (2,3 балла) и поддержка безработных (2,4 балла). Очевидно, они являются наиболее проблемной сферой, особенно в отношении информированности клиентов о возможности их получения и адекватности предоставления услуги.
-
4. 42% респондентов предлагают улучшить что-либо в госуслугах. Исходя из открытых ответов, популярная идея — сделать систему устойчивой к ошибкам в том смысле, чтобы граждане могли выйти “на живого человека”, горячую линию или специальный инфо-канал, который бы проконсультировал их в любых непонятных/нестандартных ситуациях, затрудняющих предоставление услуги. Запрос на техническое улучшение сервиса есть в отношении работы Росреестра, на лучшую обратную связь — в отношении ФНС, на бОльшую вежливость и адекватность — в отношении поставщиков медицинских услуг.
-
5. Исследование оставляет ряд дискуссионных вопросов открытыми. Высокая оценка качества медицинских услуг, зафиксированная в данном Индексе, противоречит данным других опросов, констатирующих критическое отношение россиян к сфере здравоохранения. Необъяснённым до конца остаётся “провал” услуг, связанных с помощью безработным и нуждающимся в реабилитации гражданам. Заслуживает удивление также одобряемая деперсонализация поставщика услуг в таких сферах, как образование и здравоохранение.
-
6. Наличие дискуссионных вопросов и зафиксированный в открытых ответах респондентов запрос на более адекватную оценку работы госслужб и ведомств актуализирует задачу разработки Клиентоориентированной оценки госуслуг.
-
7. С точки зрения клиента, государственные услуги принципиально отличаются от коммерческих: последние ориентированы на удовлетворение естественного спроса, в то время как госуслуги — отвечают на запрос, который в большинстве случаев возникает не у самого клиента, а у государства в отношении клиента. Таким образом, само обращение к госуслугам может восприниматься гражданином как навязанное бремя, и задача всей сферы — преодолеть инерцию негативных ожиданий, а не просто оказать услугу.
-
8. Существующие методики оценки качества госуслуг основаны на больших данных (Big Data) и автоматизированы, однако они принципиально непрозрачны для человека и могут быть эффективны только при безусловном доверии гражданина к работе госслужб. Между тем, именно доверие является наиболее уязвимым ресурсом в отношениях с бюрократией.
-
9. На современном этапе требуется сделать саму методику оценки сферы госуслуг максимально эксплицитной, чтобы она работала на приобретение доверия в глазах граждан, а не на эксплуатацию последнего. Открытая оценка должна встречать эффективный спрос и со стороны чиновничьего корпуса.
-
10. Одним из механизмов открытой оценки госуслуг могут стать регулярные опросы на целевых выборках. Условием их достаточной надёжности является работа с параданными и обнародование всей методологии.
Список литературы Клиентоориентированная оценка эффективности государственных услуг
- Аузан, А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2017.
- Бейкер, Р., Брик, Дж., Бейтс, Н. и др. Отчёт рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013 / Американская ассоциация исследователей общественного мнения; Пер. с англ. Д. Рогозина, А. Ипатовой. М.: Общероссийский общественный фонд «Общественное мнение», 2016.
- ВЦИОМ. Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контрол // ВЦИОМ. Новости. 2019. 11 декабря. Электронный ресурс] https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kachestvo-mediczinskikh-uslug-zapros-na-zhestkij-kontrol [Дата обращения] 2.04.2021.
- ВЦИОМ. Пандемия пройдет. А что останется? // ВЦИОМ. Новости. 2020. 7 мая. [Электронный ресурс] https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pandemiya-projdet-a-chto-ostanetsya [Дата обращения] 31.03.2021.
- Давар, Н. Клиентоориентированность: смена фокуса с продукта на клиента. М.: Альпина Паблишер, 2019.
- Джапек, Л., Крейтер, Ф., Берг, М. и др. Отчёт AAPOR о больших данных: 12 февраля 2015 / Американская ассоциация исследователей общественного мнения; Пер. с англ. Д. Рогозина, А. Ипатовой, Е. Вьюговской; Предисловие Д. Рогозина. М.: Радуга, 2015.
- Интерфакс. Мишустин анонсировал стар реформы системы госуправления с 1 января // Интерфакс. 2020. 16 ноября. [Электронный ресурс] https://www.interfax.ru/russia/737259 [Дата обращения] 31.03.2021.
- Ипатова, А.А. Использование параданных в анализе телефонных опросов // Телескоп: журнал социологических и маркетингоых исследований. 2014. № 6. С. 34-41.
- Кордонский, С.Г. Рынки власти: административные рынки СССР и России. 2-е изд. М.: ОГИ, 2006.
- Кордонский, С.Г. Сословная структура постсоветской России. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008.
- Королев, Н. С москвичами перейдут на личности: Мэрия усилит сбор данных о горожанах // Коммерсантъ. 2021. 11 января. № 1. С. 7.
- Латышева, Л.С., Ойнер, О.К., Пантелеева, Е.К. Клиентоориентированность. Исследования, стратегии, технологии. М.: Изд-во «Инфра-М», 2020.
- Лебедев, Д.В. Параданные: определение, типы, сбор и возможное применение // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 2. С. 4-32.
- Леонтьева, В.В. Клиентоориентированный подход при оказании муниципальных услуг // Муниципалитет: Экономика и управление. 2018. № 2. С. 20-30.
- Лукьянова, А.В. Построение бизнес-моделей оказания государственных услуг в цифровой экономике // Modern Science. 2019. №7-1. С. 29-37.
- Мавлетова, А.М. Использование параданных в опросах для корректировки и оптимизации полевых работ в адаптивном дизайне // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 5. С. 105-119.
- Мальцев, А.Н. Клиентоориентированный подход в государственном и муниципальном управлении. Нижний Новгород: Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС, 2014.
- Минэкономразвития России. Механизм оценки качества государственных услуг будет распространен на руководителей МФЦ // Совершенствование государственного управления. 2018. 6 апреля. [Электронный ресурс] https://ar.gov.ru/ru-RU/presscentr/news/view/544 [Дата обращения] 1.04.2021.
- Мухачева, А.В., Димов, Э.В. Клиентоориентированность персонала: дефиниционные основы и оценочная практика // Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2018. № 41. С. 95108.
- Новый, В. Найти коронавирус: как власти могут развернуть систему слежки за контактами больных covid-19 // Forbes. 2020. 28 марта. [Электронный ресурс] https://www.forbes.ru/tehnologii/395903-nayti-koronavirus-kak-vlasti-mogut-razvernut-sistemu-slezhki-za-kontaktami-bolnyh [Дата обращения] 1.04.2021.
- Плющев, А. Комментарий: от сбора данных - к электронному контролю за населением // DW. 2020. 25 ноября. [Электронный ресурс] https://p.dw.com/p/3lnSe [Дата обращения] 1.04.2021.
- Рогозин, Д.М. Фабрики «темных» ответов, или четыре негативных свойства современных опт-ин онлайн-панелей // Социология власти. 2018. Т. 30. № 3. С. 38-53.
- Рогозин, Д.М., Шмерлина, И.А. Оценка эффективности государственных и муниципальных услуг: социальная критика и профессиональная экспертиза. М.: Издательский дом «Дело», 2014.
- Степанова, Ю. Государство строит многопортальную систему: общение с гражданами перетекает в интернет // Коммерсантъ. 2021. 1 апреля. № 56. С. 7.
- ФОМ. Госуслуги в интернете: Насколько распространена практика пользования госуслугами в интернете? / Доминанты. Опрос «ФОМнибус» 28 октября 2012 // Фонд «Общественное мнение». 2013. 12 марта. [Электронный ресурс] https://fom.ru/SMI-i-internet/10850 [Дата обращения] 31.03.2021.
- ФОМ. Оценка качества госуслуг: Довольны ли граждане тем, как их обслуживает государство? / Доминанты. Опрос «ФОМнибус» 29 апреля 2012 // Фонд «Общественное мнение». 2012. 16 мая. [Электронный ресурс] https://fom.ru/Politika/10439 [Дата обращения] 31.03.2021.
- ФОМ. Состояние здравоохранения и самые острые проблемы этой сферы: Общие оценки ситуации. Позитивные и негативные перемены / Доминанты. Опрос «ФОМнибус» 14 апреля 2019 // Фонд «Общественное мнение». 2019. 7 мая. [Электронный ресурс] https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14202 [Дата обращения] 2.04.2021.
- Чесноков, С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных. 2-е изд., испр. и доп. М.: Либроком, 2009.
- Battaglia, M.P. Nonprobability sampling // Encyclopedia of survey research methods / Ed. by P.J. Lavrakas. London: Sage, 2008. P. 523-526.
- Boyle, R. Hindsight, insight and foresight: Some reflections on reforming the public service // Administration. 2020. Vol. 68. No. 4. P. 7-26.
- Graaf, P. van der, Cheetham, M., Redgate, S. et al. Co-production in local government: process, codification and capacity building of new knowledge in collective reflection spaces. Workshops findings from a UK mixed methods study // Health Research Policy and Systems. 2021. Vol. 19. Article No. 12. [Online] https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-021-00677-2 [Date of access] 01.04.2021.
- Mcllfatrick, S., Slater, P., Beck, E. et al. Examining public knowledge, attitudes and perceptions towards palliative care: a mixed method sequential study // BMC Palliative Care. 2021. Vol. 20. Article No. 44. [Online] https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-021-00730-5 [Date of access] 2.04.2021.
- Sweetland, A. Comparing random with non-random sampling methods. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1972.