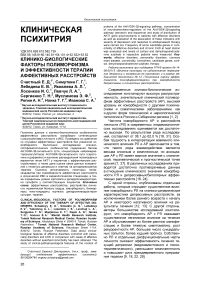Клинико-биологические факторы полиморфизма и эффективности терапии аффективных расстройств
Автор: Счастный Евгений Дмитриевич, Симуткин Г.Г., Лебедева Е.В., Яковлева А.Л., Лосенков И.С., Левчук Л.А., Сергиенко Т.Н., Муслимова Э.Ф., Репин А.Н., Нонка Т.Г., Иванова С.А.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая психиатрия
Статья в выпуске: 4 (93), 2016 года.
Бесплатный доступ
Получены данные о клинико-биологических особенностях аффективных расстройств, коморбидно сочетающихся с расстройствами личности и ИБС. Проведено их сравнение со случаями аффективных расстройств без указанной коморбидности. Выполнено исследование клинико-патофизиологических особенностей содержания белков Аkt1/GSK-3β-сигнального пути, концентрации нейромедиаторов-регуляторов Akt1/GSK-3ß-сигнального пути (серотонина и дофамина) и изучение распределения полиморфных вариантов генов AKT1 у пациентов с аффективными расстройствами, а также дана оценка связи данных показателей с тяжестью депрессии и ответом на антидепрессивную терапию. Оценены встречаемость некоторых генов-кандидатов при коморбидности аффективных расстройств и хронической ИБС в кардиологическом стационаре, а также определены уровни кортизола и дегидроэпиандростерона сульфата у соответствующих пациентов.
Аффективные расстройства, расстройства личности, ишемическая болезнь сердца, коморбидность, биомаркеры, гены-кандидаты, кортизол, дегидроэпиандростерон сульфат, терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14295944
IDR: 14295944 | УДК: 616.895:615:582.739
Текст научной статьи Клинико-биологические факторы полиморфизма и эффективности терапии аффективных расстройств
proteins of the Akt1/GSK-3β-signaling pathway, concentration of neurotransmitters-regulators of the Akt1/GSK-3β-signaling pathway (serotonin and dopamine) and study of distribution of AKT1 gene polymorphisms in patients with affective disorders as well as evaluation of the association of these indicators with severity of depression and response to antidepressant therapy were carried out. Frequency of some candidate genes in comorbidity of affective disorders and chronic CHD at heart station was evaluated and levels of cortisol and dehydroepiandrosterone sulphate in respective patients were measured. Keywords : affective disorders, personality disorders, coronary heart disease, comorbidity, biomarkers, candidate genes, cortisol, dehydroepiandrosterone sulphate, therapy.
Работа выполнена при поддержке РГНФ проект № 1406-00113 «Влияние культуры на субъективное переживание депрессии и экспрессию ее признаков» и в рамках медицинской технологии № 12 «Технология оценки эффективности психофармакотерапии при коморбидности депрессивных и личностных расстройств».
Современные клинико-биологические исследования констатируют высокую распространенность, значительный клинический полиморфизм аффективных расстройств (АР), высокий уровень их коморбидности с другими психическими и соматическими заболеваниями, как и других форм психической и наркологической патологии в России и Сибирском регионе [1, 2].
Частота коморбидности АР и расстройств личности (РЛ) в современных эпидемиологических исследованиях оценивается как достаточно высокая. По результатам ряда исследований, составляет от 38,1 до 62,0 % [16, 31]. Особая трудность в интерпретации взаимного клинического влияния РЛ и АР заключается в том, что такого рода взаимодействие является весьма сложным и комплексным, но ассоциация АР с РЛ имеет важное значение с клинической, терапевтической и прогностической точек зрения [7, 27]. В различных исследованиях приводятся достаточно противоречивые данные в отношении клинического значения коморбид-ности РЛ и депрессивных/биполярных аффективных расстройств [16, 24].
С одной стороны, опубликованы отдельные работы, которые отрицают существенное влияние коморбидного РЛ на клинико-динамические характеристики депрессивных расстройств, за исключением более раннего возраста к началу АР и некоторого негативного влияния на результаты лечения [12, 13]. С другой стороны, авторы большинства исследований констатируют, что коморбидность АР с РЛ оказывает существенное негативное влияние на течение АР и обусловливает их более раннюю манифестацию и более тяжелую симптоматику, рост рекуррентности АР, большее число суицидальных попыток, более худший прогноз. Собственно РЛ и отдельные дисфункциональные черты личности снижают эффективность лечения текущей депрессии (медикаментозного и психотерапевтического), уменьшают комплаентность и повышают риск преждевременного прерывания терапии [9, 18, 22, 29].
Недавно проведенное отечественное исследование показало, что РЛ достаточно часто встречается в случае АР (у 38 пациентов из 85), т. е. в 44,7 % случаев. При этом сопутствующее личностное расстройство оказывало влияние на особенности течения депрессии в структуре рекуррентного депрессивного и биполярного аффективного расстройства (БАР), что подтверждается более ранним началом АР, более длительным течением депрессивной фазы (при коморбидности АР с РЛ из кластера С по DSM-IV), более высокими показателями тяжести депрессии по шкале Бека и тревоги по шкале тревоги Гамильтона (HARS). Кроме того, анализ данных SCL-90 показал, что выраженность аффективной составляющей (подавленного настроения, тревоги) и дополнительных симптомов (враждебность, обсессивно-компульсивные симптомы, интерперсональная чувствительность) была значимо выше у больных с текущим депрессивным эпизодом с сопутствующей личностной патологией, чем в случае отсутствия коморбидности АР и РЛ [8].
Всё ещё остаются малоизученными молекулярно-биологические механизмы, лежащие в основе патогенеза формирования монополярного и биполярного типов течения, клинического разнообразия аффективных расстройств, опосредующие эффективность антидепрессив-ной и нормотимической терапии [14, 28]. В настоящее время считается, что протеинкиназы, задействованные в нейробиологических процессах, могут быть мишенями для новых методов фармакотерапии, прогноза и диагностики АР [15].
Одной из таких протеинкиназ является фермент киназагликогенсинтазы 3β (GSK-3β). GSK-3β регулирует активность более 50 белков-мишеней, принимающих участие в процессах метаболизма, клеточной пролиферации, апоптоза, клеточного цикла, эмбриогенеза, нейротрансмиссии, нейродегенерации, формирования нейрональной полярности, синаптической пластичности, циркадианных ритмов [26]. Роль GSK-3β в патогенезе АР активно изучается в последние 10 лет [3].
В настоящее время продолжаются поиски общей генетической основы расстройств настроения и коронарной болезни. Наиболее доказательными в этом направлении являются метааналитические и полногеномные ассоциативные исследования. Остаются актуальными данные близнецовых исследований, изучения полиморфизмов генов ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ) транспортера серотонина, интегрина бета-3 (ITGB3) , серотонинового транспортера, G-белка и других генов-кандидатов, а также взаимосвязь особенностей клинической картины с полиморфизмами этих генов.
И. А. Мелентьевым и др. [5] изучены клинико-инструментальные и психометрические связи инсерционно-делеционного (I/D) полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (АПФ, ACE) у больных ИБ: с нестабильной стенокардией (НС) и инфарктом миокарда (ИМ) в сравнении с практически здоровыми лицами. Показано, что аллель D встречался достоверно чаще, чем аллель I гена АПФ (р<0,02) у больных ИБС и в группах с перенесенным ИМ, и в этих же группах выявлялись достоверные отличия (р<0,05) от группы здоровых по частоте встречаемости генотипа DD. Худшие параметры ремоделирования левого желудочка (по данным эхокардиографии) ассоциировались с генотипом DD. Установлены связи аллеля D и генотипа DD гена АПФ с предрасположенностью к инфаркту миокарда и летальному исходу, а аллеля I и генотипов ID и II – с более благоприятным течением заболевания. При остром коронарном синдроме у больных c генотипом DD выявлялся значительно меньший временной интервал между первым ангинозным приступом и развитием инфаркта миокарда, чем у носителей генотипов ID и II гена АПФ. Психометрия показала, что больные с генотипом DD чаще (р<0,05) имели повышенный уровень общей враждебности и поведенческий тип А, чем носители генотипов ID и II. Удлинение сроков госпитализации у больных инфарктом миокарда с генотипом DD достоверно (р<0,05) коррелировало с выраженностью поведенческого типа А и различных компонентов враждебности.
Еще несколько исследователей [10, 11, 23] изучали вариации генов, регулирующих работу этих систем, и взаимодействие этих генов предрасположенности с другими факторами риска ИБС. За последние 10 лет ID полиморфизм 287-BP Alu-элементов в интроне 16 гена АПФ был широко исследован в спектре сердечно-сосудистых фенотипов. Большинство исследований показало положительную связь между генотипом DD и повышенным риском развития инфаркта миокарда, в то время как результаты при артериальной гипертензии, гипертрофии левого желудочка и кардиомиопатии являются спорными.
C. K. Naber et al. [23] продемонстрировали значительное взаимодействие аллелей гена АПФ D и гена белка Gβ3 T825-аллеля в группе из 585 пациентов с ишемической болезнью сердца: с предшествующим инфарктом миокарда и без него. Риск инфаркта миокарда, связанный с T825 аллелем, не был увеличен у носителей генотипа ACE II, но оказался значительно повышенным у носителей генотипа ID ACE, а в дальнейшем риск увеличивался у пациентов с генотипом ACE DD. Самое высокое отношение шансов было найдено у гомозигот обоих аллелей генов.
B. Bondy et al. [10, 11] сообщают о двух генах, представляющихся связанными с депрессией. Те же самые гены повышают риск инфаркта миокарда. Ген АПФ исследован на на-личие/отсутствие ID и G-белок β3-субъединицы (Gβ3) C825T полиморфизм у пациентов с униполярной депрессией и у лиц контрольной группы, сопоставимых по этническому составу и возрасту. Они обнаружили значительное увеличение Gβ3 T-аллеля и крайний разброс распределения генотипов полиморфизма ID ACE со снижением генотипов II в группе пациентов. Эффект комбинации ACE и Gβ3 генотипов у носителей аллеля АСЕ D (ID и DD) и Gβ3 TT-гомозигот с ID-DD-TT носителей показывает более чем пятикратное увеличение риска развития большой депрессии [20]. В исследовании оценки ACE ID полиморфизма показано, что частота аллеля D и генотипа DD была увеличена у японских пациентов с аффективными расстройствами. В то время как исследование 169 немецких пациентов в сравнении с контрольной группой не обнаружило существенной связи депрессии и полиморфизма гена АПФ [25]. Генотип ACE ID, как идентификатор коморбидно-сти, нуждается в изучении механизма его возможного влияния на активность фермента АПФ.
В ряде исследований было обнаружено, что носители аллеля1565C полиморфизма T1565C гена интегрина бета 3 (ITGB 3) отличаются низким порогом активации тромбоцитов и повышенным риском инфаркта миокарда [17].
По данным B. Janota et al. [19], при депрессии отмечено увеличение, уменьшение или относительная недостаточность дегидроэпиандростерона (ДГЭАС) и отсутствие положительного эффекта от его введения. Выявлена корреляция низкого сывороточного уровня ДГЭАС с увеличением сердечного риска у здоровых мужчин. У женщин-нонреспондеров обнаружены более высокие показатели кортизола сыворотке крови. Липидный профиль не менялся у депрессивных и здоровых женщин. Уровень сывороточного ДГЭАС отрицательно коррелировал с холестерином (общий и фракции ЛНП) у здоровых женщин, но не у женщин с депрессией. Защитное действие ДГЭАС от гиперхолестеринемии было подтверждено у здоровых, недепрессивных женщин. Пролонгированная гиперсекреция кортизола может вызывать разные метаболические нарушения: снижение массы мышечной ткани, резистентность клеток к действию инсулина, гипергликемию, снижение иммунитета и т. д.
Цель первого блока исследования заключалась в выявлении клинико-динамических особенностей аффективных расстройств, комор-бидно сочетающихся с расстройствами личности, в сравнении со случаями аффективных расстройств без указанной коморбидности.
Материал и методы . В исследование было включено 120 пациентов (в том числе 80 женщин в среднем возрасте 44,4±10,2 года и 40 мужчин в среднем возрасте 40,6±11,0 года) с текущим умеренным или тяжелым депрессивным эпизодом (ДЭ) в рамках единственного ДЭ – 42 человека, рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) – 39 человек, БАР – 39 человек.
Общая группа пациентов была разделена на две подгруппы. В первую подгруппу вошло 60 человек, из них 38 женщин (63,3 %), 22 мужчины (36,7 %), она состояла из пациентов с АР, сочетанными с РЛ, – основная группа. Вторая подгруппа так же состояла из 60 человек: 42 женщины (70 %), 18 мужчин (30 %) с АР без ко-морбидного РЛ – группа сравнения.
Выделенные группы были соотносимы по полу, возрасту и диагностической структуре (р>0,05). РЛ в первой подгруппе были представлены диагнозами: в 85 % (n=51) случаев – смешанное расстройство личности (F61.0), в 6,7 % (n=4) – пограничное расстройство личности (F60.31), в 8,3 % (n=5) – истерическое расстройство личности (F60.4).
У соответствующих пациентов проводилась межгрупповая сравнительная оценка следующих основных клинико-динамических характеристик: средний возраст к началу АР, средняя длительность депрессивного эпизода, среднее количество перенесенных аффективных эпизодов, тяжесть текущего депрессивного эпизода. Оценка синдромальной структуры текущего ДЭ с выделением ведущего психопатологического синдрома производилась с помощью клиникопсихопатологического метода.
Оценка тяжести текущего ДЭ производилась с помощью сокращенной версии шкалы SIGH-SAD [30], включающей в себя 17 пунктов шкалы депрессии Гамильтона и 7 пунктов по оценке атипичных депрессивных симптомов: социальный отход, увеличение веса, увеличение аппетита, гиперфагия, тяга к углеводам, гиперсомния, утомляемость.
Результаты исследования . Выявлено, что средний возраст к началу АР в основной группе и в группе сравнения составил 32,9±8,9 горда и 40,5±9,8 года соответственно (р<0,001), что свидетельствует о более раннем начале АР у пациентов с коморбидным личностным расстройством.
При анализе продолжительности депрессивного эпизода оказалось, что в основной группе эпизоды депрессии были более длительными (5,7±2,8 месяца), чем в группе сравнения (3,9±2,6 месяца) (р<0,05). Среднее количество аффективных эпизодов в основной группе составило 4,2±1,4, а в группе сравнения было ниже – 2,9±1,9 (р<0,01).
При межгрупповом сравнении были выявлены различия в синдромальной структуре текущего ДЭ. Так, в основной группе преобладал (p<0,05) депрессивно-дисфорический синдром (73 %) с наличием агрессивных или аутоагрессивных тенденций, в группе сравнения превалировал (p<0,05) депрессивный синдром с со-матовегетативными нарушениями (36,6 %).
При оценке тяжести текущего депрессивного эпизода средний суммарный балл по шкале SIGH-SAD до начала терапии в основной группе составил 31,2±8,2, а в группе сравнения – 25,2±7,5 (p<0,001). Полученные данные указывают на большую тяжесть текущего депрессивного эпизода в группе пациентов с сочетанным РЛ. Эти показатели свидетельствуют о большей тяжести депрессивных симптомов именно в случае коморбидности АР и РЛ по сравнению с пациентами, страдающими АР без коморбид-ного РЛ.
Таким образом, полученные результаты исследования показали, что наличие личностной патологии оказывает значительное влияние на клинико-динамические характеристики АР. В частности приводит к возникновению АР в более раннем возрасте, более длительной продолжительности депрессивных эпизодов, более частому повторению аффективных эпизодов, Кроме того, обусловливает большую тяжесть текущего ДЭ, а также высокий удельный вес депрессивно-дисфорического синдрома в структуре текущего ДЭ по сравнению со случаями АР без коморбидности с РЛ.
Целью следующего блока исследования было выявление клинико-патофизиологических особенностей содержания белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути, концентрации нейромедиаторов-регуляторов Akt1/GSK-3β-сигнального пути (серотонина и дофамина), изучение распределения полиморфных вариантов гена AKT1 у пациентов с аффективными расстройствами. На следующем этапе проведена оценка связи данных показателей с тяжестью депрессии и ответом на антидепрессивную терапию.
В данный фрагмент исследования были включены следующие группы: здоровые доноры (103 человека), пациенты с депрессивными расстройствами (106 человек, из них 60 пациентов с депрессивным эпизодом, 46 пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством), пациенты с БАР (16 человек). Тяжесть депрессивных симптомов оценивалась по шкалам SIGH-SAD (оценка атипичных и типичных депрессивных симптомов – HDRS-17) и CGI-S до начала, а также на 14-й и 28-й дни терапии. Эффективность терапии оценивалась по шкале CGI-I на 14-й и 28-й дни терапии. Уровень белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути в мононук-леарах периферической крови был определен методом иммуноблоттинга.
Для измерения концентрации нейромедиаторов-регуляторов Akt1/GSK-3β-сигнального пути (серотонина и дофамина) биспользован иммуноферментный анализ. Генотипирование по однонуклеотидным полиморфизмам (SNP) гена AKT1 проведено с помощью метода полимеразной цепной реакции в реальном времени.
Статистический анализ был проведен с использованием программы SPSS 20.0.
В результате проведенного исследования было выявлено, что у больных депрессивными и биполярным расстройствами наблюдается дизрегуляция Akt1/GSK-3β-сигнального пути, проявляющаяся в повышении общей GSK-3β (p=0,001), снижении общей Akt1 (р=0,006), снижении фосфо-серин-473 Akt1 (р=0,019). Показано, что тип аффективного расстройства характеризуется специфическими биохимическими признаками. Так, у пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством наблюдается высокий уровень общей GSK-3β по сравнению с больными с единственным депрессивным эпизодом (р=0,042). В то же время для больных депрессивными расстройствами характерен низкий уровень фосфо-серин-473 Akt1 по сравнению с больными БАР (р=0,019) [4].
У больных аффективными расстройствами выявлен ряд взаимосвязей тяжести, степени улучшения текущего депрессивного эпизода в ходе психофармакотерапии и уровней белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути в мононуклеарах периферической крови. Тяжесть текущего ДЭ до начала терапии, оцененная по шкале SIGH-SAD, в случае рекуррентного депрессивного расстройства статистически значимо положительно коррелировала с уровнем общей GSK-3β (r=0,601, p=0,039). Низкий уровень фосфосерин-9 GSK-3β у пациентов с единственным ДЭ статистически значимо коррелировал с низкой эффективностью антидепрессивной терапии на 14-й день лечения (r=-0,441, p=0,035). Низкая эффективность антидепрессивной терапии у пациентов с БАР на 28-й день лечения определялась низким уровнем общей Akt1 в мононуклеарах периферической крови (r=-0,599, p=0,031). Низкий уровень фосфо-серин-473 Akt1 у пациентов с единственным ДЭ статистически значимо коррелировал с низкой эффективностью антидепрессивной терапии на 14-й день лечения (r=-0,622, p=0,010), а у пациентов с РДР – на 28-й день терапии (r=-0,880, p=0,021).
Изучение содержания нейромедиаторов-регуляторов Akt1/GSK-3β-сигнального пути (серотонина и дофамина) в исследовательской выборке больных депрессивными расстройствами показало, что при рекуррентной депрессии выраженность типичных депрессивных симптомов коррелирует с низким уровнем серотонина (r=-0,528, p=0,029).
В то же время тяжесть атипичных депрессивных симптомов коррелирует с низким уровнем дофамина (r=-0,630, p=0,021).
Исследование ассоциации SNP гена AKT1 c ответом на антидепрессивную терапию показало, что полиморфизм rs1130214 гена AKT1 связан с меньшей эффективностью антиде-прессивной терапии на 28-й день. Пациенты с генотипом С/С имели более высокие значения по шкале CGI-I на 28-й день лечения (p=0,017). Вероятно, данный генотип ассоциирован с более слабым ответом на антидепрессивную терапию [21].
Таким образом, в ходе исследования была выявлена дизрегуляция белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути у больных АР. Обнаружено, что уровни белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути, концентрация серотонина, дофамина, а также SNP rs1130214 гена AKT1 взаимосвязаны с тяжестью депрессии и со степенью улучшения психического состояния пациентов с текущим ДЭ в ходе психофармакотерапии.
В текущем году было продолжено изучение проблем биологических основ коморбидности депрессивных расстройств и ИБС. Целью данного блока исследования явилась оценка в сравнительном аспекте встречаемости некоторых генов-кандидатов (гена рецептора 2C серотонина HNR2C ; гена интегрина бета-3 ITGB3 ; гена ангиотензин-превращающего фермента ACE ), уровень кортизола и дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭАС) в случае ко-морбидности аффективных расстройств и хронической ИБС в условиях кардиологического стационара.
Материал и методы . Обследованы пациенты (n=109), проходившие лечение в отделении реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Средний возраст всех пациентов составил 55,0±9,0 года. Из них 90,6 % мужчин (n=80), 9,4 % женщин (n=29). Средний возраст мужчин составил 56,3±8,0 года, средний возраст женщин – 55,7±9,9 года. В первую группу (n=32) вошли пациенты с хронической ИБС (90,6 % мужчин и 9,4 % женщин, средний возраст 56,4±7,4 года), без депрессивных расстройств. Вторая группа (n=77) представлена больными хронической ИБС и депрессивными расстройствами (шифр F3 по МКБ-10) (66,2 % мужчин и 33,8 % женщин, средний возраст составил 57,8±8,7 года).
Все больные заполняли опросники самооценки депрессии Бека и тревоги Шихана. С соблюдением условия информированного согласия лица с выявленными повышенными уровнями депрессии и тревоги по данным шкал самооценки в дальнейшем были осмотрены психиатром.
Концентрацию кортизола и ДГЭАС в сыворотке крови определяли методом иммунофермент-ного анализа с использованием автоматического микропланшетного спектрофотометра Epoch BioTek Instruments (США) и наборов реактивов фирмы ЗАО «АлкорБио» (Санкт-Петербург, Россия). Генотипирование по локусу Cys23Ser гена рецептора 2С серотонина HTR2C проводили с применением набора TaqMan® SNP Genotyping Assay и Real-Time ДНК амплификатора «StepOnePlus» фирмы Applied Biosystems (США). Полиморфизмы I/D гена ACE и 1565T-C гена ITGB3 определяли с помощью аллель-специфичной ПЦР с использованием праймеров НПФ «Литех» (Москва, Россия) и амплификатора T100 (Bio-Rad, США) и дальнейшей электрофоретической детекцией в 3 % агарозном геле с бромидом этидия. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Statistica, версия 8.0.
Результаты . Аффективные расстройства были представлены: 41,6 % – первичный депрессивный эпизод (n=32); 19,5 % – рекуррентное депрессивное расстройство (n=15); 9,1 % – биполярное аффективное расстройство (n=7), 29,9 % – дистимия (n=23). Выявлено преобладание пациентов с депрессивным эпизодом умеренной степени тяжести – 75,5 % (n=39). Пациенты с тяжелыми депрессивными эпизодами составили 19 % (n=10), с легкими депрессивными эпизодами – 5,5 % (n=5). Cо значимыми психотравмирующими ситуациями (тяжелая утрата, развод, тяжелое угрожающее жизни соматическое заболевание) манифестацию расстройства настроения связывали 84 % больных.
Уровень депрессии по данным шкалы самооценки депрессии Бека в первой группе составил 16 (15—19) баллов, во второй группе – 21 (18—24) балл (р<0,001), соответственно по шкале самооценки тревоги Шихана составил 20,5 (9—40) балла и 40,5 (28—52) балла (р<0,003). В 60 % случаев (n=46) депрессия приобретала атипичную спецификацию и коррелировала c менее высоким уровнем кортизола в крови (r=0,5). В первой группе уровень кортизола составил 465,3 (364,5—550,0) нмоль/л, во второй группе – 473,0 (370,7–658,0) нмоль/л (р>0,05).
В первой группе уровень ДГЭАС оказался достоверно (р=0,04) более высоким (Ме 1,84 (1,18—2,2) мкг/мл), чем во второй группе (Ме 1,02 (0,62–1,7) мкг/мл). В общей группе у женщин ДГАЭC имел значение 1,08 (0,7—1,77) мкг/мл, у мужчин ДГАЭС равен 1,71 (0,94—1,23) мкг/мл. У мужчин в первой группе ДГЭАС равен 1,84 (1,18—2,17) мкг/мл, а у женщин – 1,84 (1,2—2,2). Во второй группе ДГЭАС у мужчин составил 1,02 (0,62—1,73) мкг/мл, а у женщин – 1,01 (0,62—1,73) мкг/мл.
В таблице 1 отражены частоты исследуемых генов в исследуемых группах, которые не различались (p>0,05). Однако в первой группе генотип GG гена HRT2C коррелировал c генотипом TT гена ITGB3 (r=0,47). Во второй группе аллель C гена ITGB3 связан с большей выраженностью депрессии аффективного расстройства (r=0,35), а генотип II (ID) гена ACE показал высокую корреляционную связь с повышенным уровнем кортизола (r=0,54).
Таблица
Частоты генотипов по группам обследования
|
Частоты генотипов |
Первая группа |
Вторая группа |
|
Ген HRT2C GG |
91,6 % |
81 % |
|
GC |
0 |
10,3 % |
|
CC |
8,4 % |
8,6 % |
|
Ген ITGB3 TT |
76,5 % |
62,1 % |
|
TC |
23,5 % |
37,9 % |
|
CC |
0 |
0 |
|
Ген ACE DD |
23,5 % |
19,3 % |
|
ID |
52,9 % |
45,2 % |
|
II |
23,5 % |
35,5 % |
Таким образом, у больных хронической ИБС преобладают хронические расстройства настроения (первичные депрессивные эпизоды – 41,6 %). Группы различались по уровню ДГЭАC, выраженности тревоги и депрессии по данным шкал самооценки. Выявлено, что длительные аффективные расстройства, особенно в сочетании с тяжелым соматическим заболеванием (хронической ИБС), связаны с истощением секреции кортизола, являющегося регулятором углеводного обмена организма. ДГЭАС, имеющий нейропротективное, стресспротективное, антиапоптическое, антиоксидантное действия и защищающий организм от токсического действия высокого уровня кортизола, был достоверно ниже у больных с ИБС и аффективными расстройствами, чем у больных ИБС без расстройств настроения. Частоты генотипов рассматриваемых генов не различались в группах больных ИБС и ИБС с коморбидными аффективными расстройствами.
Выводы. Личностная патология значимо влияет на клинико-динамические характеристики АР и определяет более раннее проявление АР, лонгитудинальность депрессивных эпизодов и более частое повторение аффективных эпизодов, тяжесть текущего ДЭ, а также высокий удельный вес дисфорического синдрома в структуре текущего ДЭ по сравнению со случаями АР без коморбидности с РЛ. У больных АР выявлена дизрегуляция белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути. Обнаружено, что уровни белков Akt1/GSK-3β-сигнального пути, концентрация серотонина, дофамина, а также SNP rs1130214 гена AKT1 связаны с тяжестью депрессивного эпизода, а также со степенью улучшения в ходе психофармакотерапии.
У больных хронической ИБС встречаемость первичных депрессивных эпизодов среди аффективных расстройств составила 41,6 %. Группы с АР и без них различались по выраженности тревоги и депрессии, по данным шкал самооценки, по уровню ДГЭАC. Выявлено, что длительные аффективные расстройства, особенно в сочетании с тяжелым соматическим заболеванием (хронической ИБС), связаны c истощением секреции кортизола, являющегося регулятором углеводного обмена организма. ДГЭАС был достоверно ниже у больных ИБС и аффективными расстройствами, чем у больных ИБС без расстройств настроения. Частоты генотипов рассматриваемых генов не различались в группах больных ИБС и ИБС с сочетанными аффективными расстройствами.
Список литературы Клинико-биологические факторы полиморфизма и эффективности терапии аффективных расстройств
- Бохан Н. А., Семке В. Я. Коморбидность в наркологии. -Т омск: Изд-во Т ом. ун-та, 2009. -510 с.
- Бохан Н. А., Коробицина Т. В. Коморбидность алкоголизма и терапевтической патологии в общемедицинской практике//Психические расстройства в общей медицине. -2008. -№ 3. -C. 11 -17.
- Иванова С. А., Лосенков И. С., Бохан Н. А. Роль киназы гликогенсинтазы-3β в патогенезе психических расстройств//Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -2014. -Вып. 6. -С. 93-100.
- Лосенков И. С., Иванова С. А., Вялова Н. М., Симуткин Г. Г., Бохан Н. А. Содержание белков Akt1/GSK-3ß-сигнального пути в мононуклеарах периферической крови у больных с аффективными расстройствами//Нейрохимия. -2014. -Т. 31, № 3. -С. 240-245.
- Мелентьев И. А., Вершинин А. А., Колесникова Е. А., Мелентьев А. С., Малыгина Н. А., Костомарова И. В., 3айцев В. П. Клиническое течение ишемической болезни сердца, постинфарктное ремоделирование, психологический статус и сроки госпитализации у больных с различными генотипами гена ангиотензинпревращающего фермента//Российский кардиолог. журнал. -2006. -№ 3. -С. 6-16.
- Семке В. Я., Чухрова М. Г., Бохан Н. А., Куприянова И.Е., Рахмазова Л. Д. Психическое здоровье коренного населения восточного региона России. -Томск, Новосибирск: Изд-во «Наука», 2009. -360 с.
- Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б., Читлова В. В. Расстройства личности и депрессия//Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -2012. -Т. 112, вып. 9. -С. 4-11.
- Степанов И. Л., Ваксман А. В. Особенности течения циркулярных депрессий у больных с сопутствующим личностным расстройством//Социальная и клиническая психиатрия. -2013. -Т. 23, № 4. -С. 32-36.
- Степанов И. Л., Горячева Е. К. Комплексная оценка влияния структурно-психопатологических и личностных особенностей больных депрессией на их социальное функционирование//Психическое здоровье. -2011. -№ 11. -С. 44-48.
- Bondy B., Erfurth A., de Jonge S. et al. Possible association of the short allele of the serotonin transporter promoter gene polymorphism (5-HTTLPR) with violent//Mol. Psychiatry. -2000. -V. 5. -P. 193-195.
- Bondy B., Baghai T. C., Zill P. et al. Combined action of the ÀÏÔ D-and G-protein 63 T-allele in major depression: a possible link to cardiovascular disease?//Mol. Psychiatry. -2002. -V. 7. -P. 1120-1126.
- Brieger P., Ehrt U., Bloeink R. et al. Consequences of comorbid personality disorders inmajor depression//J. Nerv. Ment. Dis. -2002. -Vol. 190 (5). -P. 304-309.
- Charney D. S., Nelson, J. C., Quinlan D. M. Personality traits and disorders in depression//American Journal of Psychiatry. -1981. -Vol. 138. -P. 1601-1604.
- Chen Y., Lee H., Tong H. Force regulated conformational change of integrin aVâ3//Matrix Biol. -2016.
- Dunman S. R., Voleti B. Signaling pathways underlying the pathophysiology and treatment of depression: novel mechanisms for rapid-acting agents//Trends in neuroscience. -2013. -Vol. 35, № 1. -P. 47-56.
- Fan A. H., Hassell J. Bipolar disorder and comorbid personality psychopathology: a reviewofthe literature. To examine the prevalence of personality disorder comorbidity in bipolardisorder and examine the effects of this comorbidity on bipolar disorder patients//J. Clin. Psychiatr. -2008. -Vol. 69 (11). -P. 1794-803.
- Galasso G., Santulli G., Piscione F. et al. The GPIIIA PlA2 polymorphism is associated with an increased risk of cardiovascular adverse events//BMC Cardiovasc. Disord. -2010. -V. 10. -P. 41.
- Gocher S., Gupta L. N., Singhal A. K. et al. Major Depressive Disorder: Part-I: Personality and Phenomenology//Delhi. Psychiatr. J. -2010. -Vol. 13 (2). -P. 275-281.
- Janota B., Zauska M. The level of cortisol, DHEA, DHEA-s in plasma serum and the connection with the lipids and response to treatment in women with depression//Psychiatr. Pol. -2011. -Vol. 5 (6). -P. 861-873.
- Licinio J., Yildiz B., Wong M.-L. Depression and cardiovascular disease: co-occurrence or shared genetic substrates?//Molecular Psychiatry. -2002. -Vol. 7. -P. 1031-1032.
- Losenkov I. S., Vyalova N. M., Simutkin G. G. et al. An association of AKT1 gene polymorphism with antidepressant treatment response//The World journal of biological psychiatry. -2016 -Vol. 17, № 3. -P. 239-242.
- Mulder R. T. Personality pathology and treatment outcome in major depression: a review//Am. J. Psychiatr. -2002. -Vol. 159. -P. 359-371.
- Naber C. K., Husing J., Wolfhard U. et al. Interaction of the ÀÏÔ D allele and the GNB3 825T allele in myocardial infarction//Hypertension. -2000. -Vol. 36. -P. 986-989.
- Newton-Howes G., Tyrer P., Johnson T. Personality disorder and the outcome ofdepression:meta-analysis of published studies//Br. J. Psychiatr. -2006. -Vol. 188. -P. 13-20.
- Pauls J., Bandelow B., Rüther E. et al. Polymorphism of the gene of angiotensin converting enzyme: lack of association with mood disorder//J. Neural. Transm. -2000. -Vol. 107. -P. 1361-1366.
- Rayasam G. V., Tulasi V. K., Sodhi R. et al. Glycogen synthase kinase 3: more than a namesake//British Journal of Pharmacology. -2009. -Vol. 156, № 6. -P. 885-898.
- Rossi A., Marinangeli M. G., Butti G. et al. Personality disorders in bipolar and depressive disorders//J. Affect. Disord. -2001. -Vol. 65 (1). -P. 3-8.
- Rzezniczek S., Obuchowicz M., Datka W. Decreased sensitivity to paroxetine-induced inhibition of peripheral blood mononuclear cell growth in depressed and antidepressant treatment-resistant patients//Transl. Psychiatry. -2016. -Vol. 6 (5).
- Skodol A. E., Grilo C. M., Pagano M. E. et al. Effects of personality disorders on functioning and well-being in major depressive disorder//J. Psychiatr. Pract. -2005. -Vol. 11. -P. 363-368.
- Williams J., Link M., Rosenthal N. E. et al. Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating ScaleSeasonal Affective Disorder Version (SIGH-SAD). -New York: New York Psychiatric Institute, 1992.
- Zimmerman M., Chelminski I., Young D. The frequency of personality disorders in psychiatric patients//Psychiatr. Clin. North. Am. -2008. -Vol. 31 (3). -P. -405-420.