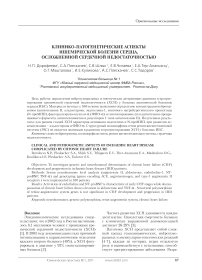Клинико-патогенетические аспекты ишемической болезни сердца, осложненной сердечной недостаточностью
Автор: Дорофеева Наталья Петровна, Плескачев Сергей Александрович, Шлык Сергей Владимирович, Чигаева Евгения Владимировна, Тер-Ананьянц Елизавета Арташесовна, Машталова О.Г., Куликова И.Е., Плескачев А.С., Тодоров Сергей Сергеевич
Журнал: Клиническая практика @clinpractice
Рубрика: Оригинальные исследования
Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.
Бесплатный доступ
Цель работы: определение нейрогуморальных и генетических детерминант развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Материал и методы: у 100 человек выполнено определение концентрации нейрогормонов (ангиотензина II, альдостерона, эндотелина1, мозгового натрийуретического пропептида (NпроМНП), фактора некроза опухолиα (ФНОα) и генотипирование (ген ангиотензинпревращающего фермента, ангиотензиногена и рецепторов 1 типа ангиотензина II). Полученные результаты: для ранних стадий ХСН характерна активация эндотелина и NпроМНП, при развитии декомпенсации – альдостерона и ФНОα. Структурный полиморфизм генов ренинангиотензиновой системы (РАС) не является значимым в развитии и прогрессировании ХСН у больных ИБС.
Нейрогормоны, полиморфизм генов, ренинангиотензиновая система, сердечная недостаточность
Короткий адрес: https://sciup.org/14338366
IDR: 14338366
Текст научной статьи Клинико-патогенетические аспекты ишемической болезни сердца, осложненной сердечной недостаточностью
Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что в 2002 году в России насчитывалось 8,1 миллионов человек с признаками хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1]. В 2003 году декомпенсация стала причиной госпитализации в кардиологические отделения каждого второго больного (49%), а ХСН фигурировала в диагнозе у 92% госпитализированных больных [2].
Частота развития ХСН удваивается каждое десятилетие. Однолетняя смертность больных с клинически выраженной декомпенсацией достигает 26-29% [3].
Патогенез ХСН представляет собой сложный каскад гемодинамических, нейрогумо-ральных и молекулярно-генетических реакций [4-7], каждая из которых, играя отдельную роль и взаимодействуя с остальными, способствует прогрессированию заболевания. Разра- ботка новых способов диагностики и прогнозирования течения ХСН с привлечением комплекса информативных показателей позволит значительно усовершенствовать лечебную тактику, улучшить качество жизни пациентов и снизить процент летальных исходов.
Целью настоящего исследования явилось определение нейрогуморальных и генетических детерминант развития и прогрессирования ХСН у больных ИБС.
Материал и методы
С целью изучения патогенетических аспектов развития ХСН обследовано 239 человек в возрасте от 40-78 лет (средний возраст 58,5±1,2 лет). Все пациенты – мужчины, находившиеся на стационарном лечении в кардиологических отделениях г. Ростов-на-Дону. Все больные ИБС были сопоставимы по возрасту, полу, величине функционального класса (ФК) стенокардии и ХСН. Средняя продолжительность ИБС составила 4,2±3,8 лет, ХСН – 1,7±1,9 лет.
Клинический диагноз ИБС и ХСН всем пациентам был установлен на основании общепринятых критериев и подтвержден при комплексном обследовании, включающем велоэрго-метрию, суточное ЭКГ-мониторирование, эхокардиографию, дистанцию шестиминутной ходьбы в условиях специализированного стационара.
Определение концентрации нейрогормонов и генотипирование выполнено у 100 человек однократно при госпитализации в стационар в контрольной группе здоровых лиц (10 человек), двух группах сравнения: с гипертонической болезнью (ГБ) (10 обследованных) и ИБС без клинических проявлений ХСН (20 обследованных) и трех основных группах ИБС, осложненной ХСН II-IV ФК (60 обследованных).
Критериями исключения больных из исследования являлись: инфаркт миокарда менее чем за 6 месяцев от начала исследования; уровень систолического АД 140 мм. рт. ст. и выше и/или диастолического 90 мм. рт. ст. и выше (кроме группы сравнения с ГБ); мерцательная аритмия; сахарный диабет; инсульт любой этиологии менее чем за 6 месяцев от начала исследования.
Исследование выполнено в соответствии с требованиями GCP и его проведение одобрено локальным независимым этическим комитетом при Ростовском государственном медицинском университете. Всеми пациентами подписано информированное согласие на участие в исследовании.
Статистическая обработка полученных дан- ных выполнялась с использованием программ "Microsoft Ехсеl 7.0" и "Statistica for Windows 6.0". Для непрерывных переменных достоверность различий оценивали по t-критерию Стъюдента, если признак характеризовал частоту явления, использовали критерий χ2. Статистические данные представлены в виде М±m. Достоверным считали уровень значимости р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
В укоренившихся представлениях о патогенезе ХСН нейрогуморальным системам всегда отводилась роль компенсаторных механизмов, постепенно теряющих свое предназначение по мере прогрессирования заболевания. На сегодняшний день доказано, что главенствующая роль в развитии ХСН принадлежит нейрогу-моральным нарушениям [4,6]. Однако вопрос о приоритетных нейрогормональных системах, ответственных за развитие сердечной недостаточности остается дискутабельным.
Результаты исследования уровней нейрогормонов представлены в таблице 1.
Ангиотензин II (АII) является ключевым компонентом ренин-ангиотензин-альдостеро-новой системы (РААС) [8,9]. В настоящем исследовании отмечено, что у всех наблюдаемых больных отмечалось снижение уровня циркулирующего АII по сравнению с здоровыми (р<0,05). При этом закономерно самые низкие значения АII зарегистрированы у больных ИБС без ХСН, что может свидетельствовать о высокой активности локального (тканевого) АII, синтезируемого кардиомиоцитами без участия ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), при бессимптомной дисфункции левого желудочка. Выявленный на фоне декомпенсации IV ФК достоверный рост показателя так и не превысил контрольных значений, что не позволяет рассматривать его в качестве маркера тяжести течения ХСН.
Полученные в работе данные противоречат большинству исследований, в которых содержание циркулирующего АII при тяжелой ХСН однозначно увеличивалось по сравнению с здоровыми лицами [10]. Указанные противоречия при клинически выраженной ХСН, по нашему мнению, могут быть связаны с небольшим количеством наблюдений, значительной вариабельностью индивидуальных значений АII, а также с различиями в длительности заболевания.
Обсуждаемые изменения концентрации циркулирующего АII не позволяют представить полную картину состояния РААС у больных
Таблица 1
|
Группы |
N |
АП (пкг/мл) |
АЛД (пкг/мл) |
ЭТ-1 (фм/мл) |
N-проМНП (фм/мл) |
ФНО-а (пкг/мл) |
|
Контроль |
10 |
229,1+12,2 |
144,7+10,4 |
0,1+0,02 |
505,6+26,9 |
28,4+2,9 |
|
ГБ+ХСН 0 |
10 |
187,2+13,2* |
85,4+8,1* |
0,2+0,03* |
549,8+27,8 |
32,6+4,6 |
|
ИБС+ХСН0 |
20 |
109,0+6,6 *v |
88Д±7,4 * |
1,0+0,1 *v |
626,7±27,9 * |
22,8+2,3 |
|
ИБС+ХСН II |
24 |
117,9+8,3 *v |
91Д±8?0 * |
1,5+0,2 *Vo |
1181,9+41,2 *Vo |
34,7+3,1 О |
|
ИБС+ХСН III |
24 |
142,6+11,3 *Vo |
86,7±5,9 * |
2,2+0,2 *Vo# |
1876,0+60,4 *v°# |
48,5+2,9 *Vo# |
|
ИБС+ХСН IV |
12 |
154,2+14,1 *o# |
210,7+13,1 * Vo # 0 |
2,9+0,3 *v°# |
4241,8+127,9 *Vo#0 |
34,7+4,1 O 0 |
Примечание:
N - количество обследованных; * - р<0,05 с контролем; V - р<0,05 с ГБ+ХСН 0; ° - р<0,05 с ИБС+ХСН 0; # - р<0,05 с ИБС+ХСН II; ◊ - р<0,05 с ИБС+ХСН III;
Концентрация нейрогормонов в плазме крови у больных ИБС
ИБС, осложненной ХСН, без анализа секреции другого ее эффектора – альдостерона (АЛД).
Выяснено, что значения показателя в группах сравнения и основных группах ИБС с II-III ФК ХСН практически не отличались и были достоверно снижены по сравнению с здоровыми лицами в среднем на 60%. Максимальный уровень альдостерона зарегистрирован у больных с самой тяжелой ХСН IV ФК, который превысил контрольные значения в 1,5 раза (р<0,05).
Указанные особенности секреции циркулирующего альдостерона свидетельствуют об «отставании» его активации от прогрессирующего увеличения тяжести ХСН, которое нивелируется только при выраженной декомпенсации у больных с постинфарктным кардиосклерозом.
Приведенные результаты, по нашему мнению, подтверждают многочисленные литературные данные, что функционирование РААС при развитии и прогрессировании ХСН определяется активностью локального альдостерона, синтезируемого кардиомиоцитами. Только на фоне выраженной декомпенсации циркулирующее звено альдостерона обеспечивает контроль за ремоделированием сердца.
Одним из ключевых звеньев сердечно-сосудистого континуума является эндотелиальная дисфункция, которой отводится ведущее место в патогенезе ХСН [11].
Анализ изменений концентрации эндотели-на-1 (ЭТ-1) в группах наблюдения показал, что у здоровых лиц данный нейрогормон присутствует в плазме периферической крови в небольших количествах. Возникновение ИБС без клинических проявлений ХСН сопровождается его достоверным ростом. Причем, у больных ИБС, начиная со стадии бессимптомной дисфункции ЛЖ, концентрация эндотели-на-1 статистически значимо возрастала, достигая максимального уровня при III и IV ФК ХСН, и, соответственно, в 20-30 раз превысила контрольные значения.
Таким образом, для эндотелина-1 при развитии ИБС характерно раннее повышение активности, прогрессирующее по мере увеличения тяжести ХСН.
Основным фактором, противостоящим РААС, симпато-адреналовой системе и вазопрессину является система натрийуретических пептидов, наиболее важную роль в которой играет мозговой натрийуретический пептид (МНП) [12-14]. Существует предположение, что концентрация в плазме N-концевого предшественника МНП (N-проМНП) является более надежным маркером ранней дисфункции миокарда, чем уровень собственно МНП [15,16].
Проведенный анализ показал, что в основных группах наблюдения с ИБС нарастание
ФК ХСН сопровождалось прогрессивным увеличением концентрации N-проМНП. У пациентов с IV ФК ХСН отмечался значительный рост показателя до значений, в 8 раз превышающих уровень здоровых лиц и в 2 раза – III ФК ХСН.
Таким образом, у больных ИБС концентрация в плазме предшественника МНП имеет достоверную зависимость от ФК ХСН. Определение в плазме крови концентрации N-концевого предшественника МНП является надежным диагностическим маркером ХСН у больных ИБС.
В дополнение к нейрогуморальной концепции патогенеза ХСН получила распространение теория цитокиновой активации, признанными маркерами которой считаются провоспалитель-ные цитокины и, в первую очередь, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) человека [17].
В проведенном нами исследовании статистически значимое повышение содержания ФНО-α зарегистрировано только в группе ИБС с III ФК ХСН. Развитие IV ФК ХСН привело к достоверному уменьшению концентрации ФНО-α до значений контрольной группы. Снижение концентрации ФНО-α в сыворотке крови больных с тяжелой ХСН может быть обусловлено возросшим уровнем интерлейкина-6, который значительно увеличивает количество рецепторов к ФНО-α. Дефицит ФНО-α на ранних стадиях заболевания и при манифестированной ХСН позволяет прогнозировать тяжелое течение заболевания, неблагоприятный прогноз и требует проведения специфической «цитокиновой» терапии.
Подводя итог разделу, посвященному оценке нейрогуморальной регуляции кровообращения у пациентов с ИБС, осложненной ХСН, необходимо отметить, что активация отдельных ней-рогуморальных систем происходит на разных стадиях декомпенсации. Отмечено, что для одних нейрогоромов – N-проМНП и эндотелина-1 характерно раннее повышение активности, нарастающее по мере увеличения тяжести ХСН, для других – альдостерона и ФНО-α присуще некоторое «отставание» активации, которое нивелируется только при III и IV ФК ХСН.
Широкое внедрение в клиническую практику комплексного определения в плазме крови концентрации ангиотензина II, альдостерона, эндотелина-1, N-концевого предшественника МНП и ФНО-α человека позволит значительно сократить время обследования больных с подозрением на ХСН в сложных дифференциально-диагностических ситуациях.
Последнее десятилетие XX века стало временем бурного внедрения молекулярно-генетических методов исследования в кардиологию. Идентифицирован полиморфизм десятков генов, претендующих на роль генетических маркеров ХСН, и, в первую очередь, основных компонентов ренин-ангиотензиновой системы (РАС): гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), гена ангиотензиногена (АТГ) и гена рецепторов 1 типа ангиотензина II (АТР1) [5, 7, 18, 19].
В настоящей работе распределение генотипов различных генов РАС во всех обследованных группах соответствовало равновесию Харди-Вайнберга, а частота встречаемости аллелей была аналогичной популяциям западно-европейских стран.
Сравнительный анализ распределения частот встречаемости генотипов и аллелей гена АПФ показал, что достоверных различий между всеми группами наблюдения получено не было (табл. 2). Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии зависимости между степенью тяжести ХСН и ID полиморфизмом гена АПФ у больных ИБС.
При анализе частоты встречаемости генотипов в каждой из групп наблюдения выявлено преобладание ID генотипа гена АПФ как в контроле, так и в двух группах сравнения с ГБ и ИБС без ХСН и основных группах ИБС, осложненной ХСН II-III ФК. Полученные результаты подтверждают отсутствие ассоциации ID полиморфизма гена АПФ с риском развития и прогрессирования сердечной недостаточности у пациентов с ИБС.
В доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют сведения об ассоциации М235Т полиморфизма гена АТГ с ХСН. В таблице 3 представлена частота генотипов и аллелей гена АТГ в группах наблюдения. Частота ММ, МТ и ТТ генотипов статистически значимо не отличалась между контролем, двумя группами сравнения и основными группами обследованных. При раздельном анализе каждой из включенных в исследование групп необходимо отметить пятикратное снижение гомозигот по Т аллелю среди здоровых лиц по сравнению с М гомозиготами, сопровождающееся достоверным изменением соотношения М и Т аллелей. Можно только предположить, что М аллель гена АТГ оказывает защитную роль в развитии ИБС. Однако, представленные результаты не позволяют считать структурный полиморфизм гена АТГ значимым в развитии ХСН у больных ИБС.
Таблица 2
|
Группы |
N |
Генотип |
Аллель |
||||||
|
II |
ID |
DD |
I |
D |
|||||
|
п |
част |
п |
част |
п |
част |
част |
част |
||
|
Контроль |
10 |
3 |
0,30 |
7 |
0,70 * |
0 |
0,00 |
0,65 |
0,35 |
|
ГБ+ХСН 0 |
10 |
2 |
0,20 |
7 |
0,70 * |
1 |
0,10° |
0,55 |
0,45 |
|
ИБС+ХСН0 |
20 |
4 |
0,20 |
13 |
0,65 * |
3 |
0,15 ° |
0,53 |
0,47 |
|
ИБС+ХСН II |
25 |
7 |
0,28 |
14 |
0,56 * |
4 |
0,16° |
0,56 |
0,44 |
|
ИБС+ХСН III |
25 |
4 |
0,16 |
14 |
0,56 * |
7 |
0,28° |
0,44 |
0,56 |
|
ИБС+ХСН IV |
10 |
3 |
0,30 |
5 |
0,50 |
2 |
0,20 |
0,55 |
0,45 |
Примечание:
N – количество обследованных; n – число обследованных с данным генотипом; част – частота;
* – р<0,05 с II генотипом; ° – р<0,05 с ID генотипом
Таблица 3
|
Группы |
N |
Генотип |
Аллель |
||||||
|
ММ |
МТ |
ГТ |
М |
Г |
|||||
|
п |
част |
п |
част |
п |
част |
част |
част |
||
|
Контроль |
10 |
5 |
0,50 |
4 |
0,40 |
1 |
0,10 * |
0,70 |
0,30 * |
|
ГБ+ХСН 0 |
10 |
4 |
0,40 |
3 |
0,30 |
3 |
0,30 |
0,55 |
0,45 |
|
ИБС+ХСН 0 |
20 |
5 |
0,25 |
8 |
0,40 |
7 |
0,35 |
0,45 |
0,55 |
|
ИБС+ХСН II |
25 |
6 |
0,24 |
16 |
0,64 * |
3 |
0,12° |
0,56 |
0,44 |
|
ИБС+ХСН III |
25 |
10 |
0,40 |
12 |
0,48 |
3 |
0,12 *° |
0,64 |
0,36 |
|
ИБС+ХСН IV |
10 |
2 |
0,20 |
5 |
0,50 |
3 |
0,30 |
0,45 |
0,55 |
Примечание:
част - частота; * - р<0,05 с ММ генотипом; ° - р<0,05 с МТ генотипом; ♦ - р<0,05 с М аллелем.
Распределение частот генотипов и аллелей гена АПФ у больных ИБС
Распределение частот генотипов и аллелей гена АТГ у больных ИБС
Лица без заболеваний сердечно-сосудистой системы и пациенты с ИБС были типированы на полиморфный маркер А1166С гена АТР1 (таблица 4). Как видно из полученных данных, по частоте встречаемости АА, АС и СС генотипов, А и С аллелей все основные группы больных ИБС, осложненной ХСН, достоверно не отличались от контроля и двух групп сравне- ния. Кроме того, не выявлено статистически значимых различий между пациентами с II-IV ФК ХСН на фоне ИБС.
Необходимо отметить, что СС генотип в обследованных группах или отсутствовал (в группе ГБ+ХСН 0), или встречался только у одного пациента (в группе контроля, ИБС+ ХСН 0, ИБС+ХСН II, ИБС+ХСН IV). В связи
Таблица 4
|
Группы |
N |
Генотип |
Аллель |
||||||
|
АА |
АС |
сс |
А |
С |
|||||
|
п |
част |
п |
част |
п |
част |
част |
част |
||
|
Контроль |
10 |
4 |
0,40 |
5 |
0,50 |
1 |
0,10° |
0,65 |
0,35 |
|
ГБ+ХСН 0 |
10 |
4 |
0,40 |
6 |
0,60 |
0 |
0,00 |
0,70 |
0,30 * |
|
ИБС+ХСН 0 |
20 |
12 |
0,60 |
7 |
0,35 |
1 |
0,05 *° |
0,78 |
0,22 * |
|
ИБС+ХСН II |
25 |
8 |
0,32 |
16 |
0,64 * |
1 |
0,04 *° |
0,64 |
0,36 |
|
ИБС+ХСН III |
25 |
9 |
0,36 |
14 |
0,56 |
2 |
0,08 *° |
0,64 |
0,36 |
|
ИБС+ХСН IV |
10 |
6 |
0,60 |
3 |
0,30 |
1 |
0,10 * |
0,75 |
0,25 * |
Примечание:
част - частота; * - р<0,05 с АА генотипом; ° - р<0,05 с АС генотипом; ♦ - р<0,05 с А аллелем
Распределение частот генотипов и аллелей гена АТР1 у больных ИБС
с чем, полученные достоверные различия частот встречаемости АС и СС генотипов, а также А и С аллелей гена АТР1 в каждой из указанных групп наблюдения нельзя считать убедительными.
Таким образом, в настоящем исследовании не выявлено связи между полиморфизмом гена АТР1 и риском возникновения и прогрессирования ХСН у больных ИБС.
В целом, проведенный анализ структурных полиморфизмов генов РАС не подтвердил участия ID полиморфизма гена АПФ, М235Т полиморфизма гена АТГ и А1166С полиморфизма гена АТР1 в развитии и прогрессировании ХСН у больных ИБС. Вероятно, полученные данные связаны с небольшим количеством наблюдений в обсуждаемых группах.
Выводы
-
1. На разных этапах прогрессирования хронической сердечной недостаточности у боль-
- ных ИБС имеется определенная последовательность активации отдельных нейрогумо-ральных систем.
-
2. ID полиморфизм гена ангиотензин-пре-вращающего фермента, М235Т полиморфизм гена ангиотензиногена и А1166С полиморфизм гена рецепторов 1 типа ангиотензина II не являются значимыми в развитии и прогрессировании хронической сердечной недостаточности у больных ИБС.
Повышение активности мозгового натрийуретического пропептида и эндотелина-1 начинается со стадии бессимптомной дисфункции левого желудочка и нарастает по мере увеличения тяжести хронической сердечной недостаточности.
Для альдостерона и фактора некроза опухо-ли-а характерно некоторое «отставание» активации, которое нивелируется только при III и IV функциональных классах ХСН.
Список литературы Клинико-патогенетические аспекты ишемической болезни сердца, осложненной сердечной недостаточностью
- Агеев Ф.Т., Даниелян М.О., Мареев В.Ю. и др. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения (по материалам исследования ЭПОХАОХСН)//Журнал сердечная недостаточность. 2004. Т. 5 (1). С. 47.
- Cleland J.G., Swedberg K., Follath F. et al. The EuroHeart Failure survey programme a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. Part 1: patient characteristics and diagnosis//Eur. Heart J. 2003. Vol. 24 (5). P. 442-463.
- Ho K.K., Pinsky J.L., Kannel W.B. et al. The epidemiology of heart failure: Fremigham Study//J. Am. Coll. Cardiol. 1993. Vol. 22 (suppl. A). P. 6A-13A.
- Bay M., Kirk V., Parner J. et al. NTproBNP: a new diagnostic screening tool to differentiate between patients with normal and reduced left ventricular sys tolic function//Heart. 2003. Vol. 89 (2). P. 150-154.
- Fatini C., Abbate R., Pepe G. et al. Searching for a better assessment of the individual coronary risk profile: the role of angiotensinconverting enzyme, angiotensin II type 1 receptor and angiotensinogen gene polymorphisms//Eur. Heart J. 2000. Vol. 21 (8). P. 633-638.
- Fuat A., Murphy J.J., Hungin A.P. et al. The diagnostic accuracy and utility of a Btype natriuretic peptide test in a community population of patients with suspected heart failure//Br. J. Gen. Pract. 2006. Vol. 56 (526). P. 327-333.
- Pfohl M., Koch M., Prescod S. et al. Angiotensin Iconverting enzyme gene polymorphism, coronary artery disease and myocardial infarction. An angiographically controlled study//Eur. Heart J. 1999. Vol. 20 (18). P. 1318-1325.
- Katz A. Maladaptive hypertrophy and the cardiomyoparty of overload: Familial cardiomyopathies/In: Katz A. (ed.): Heart failure: Pathophysiology, molecular biology and clinical management. Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins. 2000. P. 277-308.
- Latini R., Masson S., Anand I. еt al. The comparative prognostic value of plasma neurehormones at baseline in patients with heart failure enrolled in ValHeFT//Eur. Heart J. 2004. Vol. 25 (4). P. 292-299.
- Serneri G.G., Boddi M., Cecioni I. et al. Cardiac angiotensin II formation in the clinical course of heart failure and its relationship with left ventricular function//Circ. Res. 2001. Vol. 88 (9). P. 961-968.
- Zaman A.G., Helft G., Worthley S.G., Badimon J.J. The Role of plaque rupture and thrombosis in coronary artery disease//Atherosclerosis. 2000. Vol. 149 (2). P. 251-256.
- Groenning B.A., Nilsson J.C., Sondergaard L. et al. Detection of left ventricular enlargement and impaired systolic function with plasma Nterminal pro brain natriuretic peptide concentrations//Am. Heart J. 2002. Vol. 143 (5). P. 23-29.
- Maisel A.S., Koon J., Krishnaswamy P. et al. Utility of Bnatriuretic peptide as a rapid, pointofcare test for screening patients undergoing echocardiography to determine left ventricular dysfunction//Am. Heart J. 2001. Vol. 141 (3). P. 367-374.
- McDonagh T.A., Cunningham A.D., Morrison C.E. et al. Left ventricular dysfunction, natriuretic peptides, and mortality in an urban population//Heart. 2001. Vol. 86 (l). P. 21-26.
- Gardner R.S., Ozalp F., Murday A.J. et al. Nterminal probrain natriuretic peptide. A new gold standard in predicting mortality in patients with advanced heart failure//Eur. Heart J. 2003. Vol. 24 (19). P. 1735-1743.
- Gustafsson F., Badskj J., Hansen F.S. et al. Value of Nterminal proBNP in the diagnosis of left ventricular systolic dysfunction in primary care patients referred for echocardiography//Heart Drug. 2003. Vol. 3. P. 141-146.
- Feldman A.M., Combes A., Wagner D. et al. The role of tumor necrosis factor in the pathophysiology of heart failure//Am. Col. Cardiol. 2000. Vol. 35 (3). P. 537-544.
- Терещенко С.Н., Джаиани Н.А., Моисеев В.С. Генетические аспекты хронической сердечной недостаточности//Тер. арх. 2000. Т. 72 (4). С. 75-77.
- Шляхто Е.В., Конради А.О. Блокирование ренинангиотензиновой системы при артериальной гипертензии: фармакогенетический подход//Артериальная гипертензия. 2002. Т. 4 (3). С. 24-27.