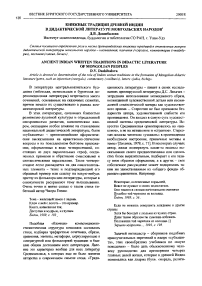Книжные традиции древней индии в дидактической литературе монгольских народов
Автор: Дашибалова Дарима Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению роли и места древнеиндийских книжных традиций в становлении жанров дидактической литературы монгольских народов - наставления, поучения («сургал»), комментарии («тайлбу-ри»), послания («захиа, бичиг»),
Короткий адрес: https://sciup.org/148178407
IDR: 148178407
Текст краткого сообщения Книжные традиции древней индии в дидактической литературе монгольских народов
В литературах центральноазиатского буддизма (тибетская, монгольская и бурятская дореволюционная литературы) встречается много сочинений, основанных на сказочных сюжетах, причем немало их существовало в рамках комментаторской литературы.
В этих литературах, связанных близостью религиозно-духовной культуры и определенной синхронностью развития, каноническим жанром, оказавшим особое влияние на становление национальной дидактической литературы, были «субхашиты» - древнеиндийские афористические высказывания на нравственно-этические вопросы в их повседневном бытовом приложении, оформленные в виде четверостиший, состоящих из двух параллельных строф, соединенных прямыми и обратными смысловыми и синтаксическими параллелями. Такое четверостишие легко распадается на два самостоятельных элемента - тезис и подтверждающий его образный пример или ссылку на какую-нибудь притчу из фольклора или литературы, которые в совокупности раскрывают тему высказывания. Очень точно и метко сказал о таком стихе тибетский автор Чжора Ензин:
Тема - железный замок с ладонь.
Ключ к ней с локоть - это пример.
Книга, написанная так,
Доступна и мудрым, и глупым.
Ёндон, 1989, с. 103.
Подобная «блочная» композиционностилистическая структура позволяла составлять стихи, подбирая трафаретные сочетания, образы, сравнения, эпитеты, метафоры, циркулирующие в литературной или фольклорной традиции и бывшие общим достоянием всех литераторов. Явление это характерно вообще для всех литератур Средневековья, в которых еще не было понятия авторства в современном смысле слова. «Тради ционность литературы - пишет в своих исследованиях древнерусской литературы Д.С. Лихачев -затрудняла использование неожиданного образа, неожиданной художественной детали или неожиданной стилистической манеры как художественного приема ... Стереотип не был признаком бездарности автора, художественной слабости его произведения. Он входил в самую суть художественной системы средневековой литературы. Искусство Средневековья ориентировалось на «знакомое», а не на незнакомое и «странное». Стереотип помогал читателю «узнавать» в произведении необходимое настроение, привычные мотивы и темы» [Лихачев, 1979, с. 71]. В некоторых случаях автор, желая подчеркнуть какие-то нюансы высказывания своего предшественника или сделать стих более выразительным, подбирает к его тезису иное образное оформление, а в других - свое собственное рассуждение может подкреплять таким же заимствованным из «общего фонда» образным сравнением. Например:
Некоторые, ослепленные гордыней, Вовсе не думают о своих недостатках. Они чванятся своими ничтожными знаниями Подобно той черепахе из колодца.
Ёндон, 1989, с. 56.
Если не можешь совершить хождение в другие страны
Хотя бы беседуй с людьми из чужих стран. Даже таким образом ты сумеешь избежать Положения той черепахи из колодца. [] Зерцало мудрости..., 1993, с. 198.
Задачей нитишастр - сборников подобных нравоучительных изречений в жанре «субхаши-та», этих своеобразных учебников по «науке поведения» - было дать обыкновенному человеку руководство для претворения четырех главных целей жизни, которые в древней Индии понимались как дхарма (букв, «мораль, религи-
Д.В. Дашибалова. КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ ------------------------------------------- ----------—-— 137
оз ное предписание, совесть, добродетель, закон, религия, вера»); артха (букв, «ценность, смысл, богатство, цель стремлений, целесообразность действий»); кама (букв, «любовь, страсть, удовлетворение желаний») и мокша (букв, «избавление, освобождение, окончательное спасение души»), которым соответствовали три системы знаний: дхармашастра, артхашастра и камаша-стра. Что касается «мокши», сошлемся на мнение индолога: «Теоретической основой поведенческого комплекса является учение о том, что правильное исполнение предписаний дхармы, а следовательно, артхи и камы должно привести к четвертой цели - достижению мокши -полного освобождения от плотских привязанностей и всяких связей с материальным миром» [Гусева, 1977, с. 229].
Проблемы, обсуждаемые в нитишастрах, настолько многочисленны и разнородны, что трудно охарактеризовать их в целом, С.К. Патхак выделил в них следующий ряд основных тематических разделов с дробными подрубриками, в которых раскрываются вышеперечисленные целевые установки - дхарма, артха, кама и, следовательно, мокша.
-
1. Отношение индивидуума с членами семьи: родители и дети; муж и жена; отношения с другими родственниками.
-
2. Отношения с другими членами общества: учитель и ученики; хозяин и прислуга; друзья и льстецы; враги; материальное благополучие и личные интересы, интересы общественного значения.
-
3. Политика и искусство управления государством; характеристика царя и его функций; требования к принцам, министрам, послам, придворному лекарю, повару и прочим чинам и должностям дворцового аппарата и государственной администрации; деятельность царя, направленная на умножение казны и на благо подданных.
-
4. Правила житейской мудрости: характеристика добронравного и образованного человека; характеристика подлых и невежественных людей; различение хорошего и плохого в поведении и поступках людей.
-
5. Этика и религия: общее определение того, что считается нравственным и этичным; перечисление поступков, обязательных в стереотипе поведения «хорошего» человека; перечисление поступков, запретных для «хорошего» человека.
-
6. Религиозно-философские учения общего характера: карма, ад, рай, перерождения; необходимость пресечения чувственной привязанно
-
7. Постулаты брахманизма.
-
8. Постулаты буддизма [Патхак, 1974, с. 56-57].
сти к объектам материального мира; религиозное перерождение и пути его достижения.
Из этого обзора основных тем нитишастр видно, что они, будучи всеобъемлющей наукой разумного поведения, стремятся охватить все сферы человеческой деятельности и оперируют при этом предельно широкими обобщениями. Объектом и адресатом высказываний являются не отдельные личности, а целые слои общества и типы людей, к которым прилагаются полярные оценки «хороший» и «плохой».
Высказывания на религиозную тематику в этих нитишастрах не дают еще возможности с полной уверенностью отнести тот или иной текст к определенной религиозной системе. Почти в каждой из них встречаются отголоски идей из вед, пуран, древнеиндийского эпоса, брахманизма и джайнизма, на фоне которых эпизодические молитвы Будде и термины буддийского вероучения воспринимаются как поздние интерполяции, часть которых, возможно, была внесена переводчиками - тибетцами, монголами, бурятами. «Поэтические сборники и антологии существовали в Индии, видоизменяясь и трансформируясь по воле переписчиков, интерпретаторов, собирателей и редакторов, легко переходя из устной традиции в письменную, без труда преодолевая жанровые границы» [Маланова, 1985, с.7-8]. В известной степени можно говорить об анонимности подобных антологий, так как их составители свободно черпали не только темы и образы, имеющие уже готовую литературную обработку, но и целые стихи, отвечающие идейной или тематической направленности их сборников из всех доступных им источников своего времени, как устных, так и письменных. Наличие такого «общего фонда» позволяло литераторам довольно оперативно реагировать на злобу дня целыми сборниками афористических изречений, составленными как по собственной инициативе, так и по заказу определенных лиц или групп.
В структурно-композиционном плане стихи нитишастр на религиозную тематику не вычленены, а рассеяны по всему тексту отдельными стихами или тематическими блоками. По содержанию это общие элегические высказывания о суетности и бренности жизни, неотвратимости прихода смерти, мечты о хорошей судьбе в будущих перерождениях, которые можно отнести почти к любой религии.
Эти особенности жанра и творческого метода авторов индийских нитишастр были пол-
138 костью переняты тибетскими и монгольскими литераторами, которые со временем начали составлять аналогичные сборники афористических высказываний на разнообразные темы. Со временем этот жанр завоевывает все большую популярность в монгольской литературе и начинает использоваться даже вне нитишастр, например, в историческом сочинении XVIII в. «Алтан Тобчи» после каждой главы встречаются резюмирующие стихи, близкие по форме и содержанию субхашитам.
Одаренных сажают на почетное место.
Глупым это место заказано.
Шапку принято надевать на голову.
А обувь - носить на ногах.
Балданжанов, 1970, с, 195.
К XVIII в. относится окончательная редакция монгольского сборника поучений «Ключ разума» («Оюун тулхуур»), Ц. Дамдинсурэн выделяет в этом сочинении три части. Первая, по его мнению, содержит поучения самого Чингисхана с более поздними добавлениями буддийского характера. Во второй части прослеживается влияние «Субхашиты», которое в третьей части ощущается наиболее сильно. В частности, «в ней кратко излагается сюжет об осле в леопардовой шкуре, имеющийся в «Субхашите». Там же есть упоминание сюжета о коте-наставнике из «Рашияну дусал», сочинения, которое, подобно «Субхашите», было широко распространено в Монголии» [Яхонтова, 1992, с. 139].
Парафразы классических субхашит встречаются даже в песне, сложенной хоринскими бурятами в 1891 г., по случаю посещения их мест наследником дома Романовых будущим царем Николаем II, например:
Могущественнейшей Империи Неблагомыслящие глупцы На берегу широкой реки Предпочитают вонючий колодезь Путешествие на Восток, 1992, с. 38.
Для сравнения из тибетской «Шастры о воде»:
Встретив такое Учение
Кто же станет на иную стезю?
Рядом с божественным Гангом
Кто же роет соленый колодец?
Жанр «субхашита» нашел благодатную почву в монгольской средневековой литературе благодаря своей близости к народной афористи ческой поэзии дидактического характера и претерпел ряд изменений в идейно-тематическом и формально-стилистическом ракурсах, вызванных к жизни необходимостью приспособления к иной языковой, культурной и политической среде. В частности, за счет заимствований из литературы буддизма и местного фольклора обогащается палитра художественных средств, более разнообразной делается и форма стихов. Строгий параллелизм строф четверостишия, особенно характерный для «Букета белых лотосов», соседствует с противопоставлением (в первой строфе содержится положительное решение темы, во второй - отрицательное), в результате чего развернутые метафоры, сравнения и ссылки второй строфы теряют свой обязательный характер. Одновременно получает распространение новая микроструктура - парные стихи, в которых противоположные решения темы разрабатываются в двух стихах, расположенных рядом. Отражая возрастающее могущество церкви, меняется в целом тон высказываний. Элегические сетования о пороках человеческой натуры вообще и такие же общего характера пожелания и рекомендации о его улучшении уступают место жестко сформулированным требованиям, регламентирующим разные стороны бытовой жизни.
Наряду с нитишастрами определенное влияние на формирование тибетской и монгольской церковной дидактической литературы оказал еще один жанр буддийской литературы -«послания», или же «письма» (монг. bicig, jakiya). Эти «послания» в основном адресовались буддийскими иерархами своим покровителям из числа царствующих особ, а также особо приближенным ученикам и по стилю больше напоминают адаптированные изложения богословских трактатов, нежели произведения эпистолярного жанра в современном понимании. «В одних излагаются лишь этические инструкции из Винаи, другие написаны в виде краткого конспекта по основным положениям буддийской доктрины и тяготеют по форме к научному трактату, третьи касаются отдельных вопросов буддийской теории и практики, по своей форме близки к комментариям; одни написаны в виде посланий или писем, другие - как проповеди или предсказания» [Введение в изучение..., 1989, с. 122]. Из-за академического стиля и сугубо богословского содержания эти произведения, рассчитанные на мирян, не получили такого широкого распространения, как нитишастры. Даже самое известное из них - «Послание другу» Нагарджуны, написанное для царя династии Сатаваханов Гаутамипутры, почти не имеет
Д.В. Дашибалоеа. КНИЖНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ В ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ --------------------—------------------;------- 139
прямого выхода в литературу популярного буддизма. Но тем не менее оно определило содержание и объем программы религиозного обучения и воспитания «ламрим» Цзонхавы и всей дидактической литературы школы гэлугпа на тибетском и монгольском языках. А.Г. Сазыкин находит, что жанр ««послание» как пророчества святых лам получил значительное распространение у монгольских народов в XIX - начале XX вв.» [Сазыкин, 1992, с. 54]. Однако приведенный им пример относится скорее к жанру «лундун», который монгольский тибетолог Л.Хурэлбатор склонен рассматривать как отдельный жанр дидактической литературы [Ху-рэлбатор, 1985, с. 98].
Переводы индийских нитишастр и «посланий», равно как и сочинения тибетских и монгольских авторов, написанные в подражание им, требовали от читателя определенного уровня знакомства с индийским фольклором и сюжетами из книжных источников, буддийской философией, догматикой и мифологией. Ссылки и намеки на них «были понятны лишь просвещенной элите, а простым мирянам, кому в первую очередь и адресовывались подобные дидактические сочинения, они ничего не говорили. Отсюда, видимо возникла необходимость ком-ментировать, расшифровывать эти намеки» [Ендон, 1981, с. 12]. Так, по мнению монгольского исследователя Д. Ендона, в тибетской, монгольской литературах появились «неканонические, полусветские сборники фабульных повествований - рассказов, сказок, притч» [Ендон, 1989, с.12], а также бытового и исторического анекдота, описаний всякого рода чудес и диковин, легенд и преданий, фрагментов житийной литературы, получивших в монгольской литературе название «тайлбури». Разнородные следы ее происхождения сохранялись в комментариях надолго, определяя и круг тем, и способы художественной обработки материала. Этот во многом демократический материал, отвечающий народным вкусам и пристрастиям, верованиям и представлениям, рассеивал ореол святости вокруг комментируемого текста и направлял его художественное богатство в русло национальной изящной словесности, приближая к пониманию простых мирян.
Внутренняя структура известных нам комментариев однотипна: комментируемое четверостишие, повествование (сказка, притча, краткий пересказ сюжета крупного произведения или богословский тезис, на который есть ссылка или намек в четверостишии) и мораль в стихотворной форме, иногда повторяющая несколько строк комментируемого стиха [Ендон, 1981, с.
12-13]. Порядок фабульных сюжетов в комментариях следует порядку комментируемых стихов нитишастр. Таким образом, структура ни-тишастры служит своеобразным обрамлением для внешне не связанных между собой примеров. В более поздней литературе ламаизма появляется и другой вид рамочной конструкции в виде программы ламрима, о котором будет сказано ниже. Разные комментарии к одной нити-шастре отличаются количеством фабульных примеров, что зависело от начитанности и развитости ассоциативного мышления составителя, а также степенью их художественной обработки. Особенно большого искусства требовали пересказы крупных произведений, поскольку автор должен был соблюдать какую-то пропорцию в пространстве своего текста между коротенькой притчей о льве, прыгнувшим на свое отображение, и, скажем, сюжетом «Рамаяны» или «Махабхараты», отсекая или же, наоборот, выделяя какие-то побочные линии развития сюжета.
Особенно большую популярность в монгольской литературе получили комментарии к «Капле рашияна» Нагарджуны и к «Субхаши-те» Гунга Чжалцана, которые благодаря многочисленным ссылкам на фольклорные и литературные сюжеты, ослабляли диктат религиозного канона, давали простор для самостоятельного творчества. С течением времени тайлбури теряют свои вспомогательные, комментаторские функции как приложения к известным ни-тишастрам и приобретают вид жанра развлекательной литературы, в которой светское начинает преобладать над религиозным, местный материал над чужеземным. Хотя их пропорции у разных авторов могут быть самыми разными, но тенденция эта выражена достаточно определенно. Таким образом, становление поэтических и прозаических дидактических жанров в монгольской литературе происходило за счет синтеза традиций древнеиндийской нравоучительной литературы, литературы популярного вероучения буддизма и местной культуры художественного слова, которая в условиях средневекового государства могла получить доступ в мир письменной литературы только с точки зрения функциональности, т.е. для обслуживания потребностей буддийской церкви. Переливаясь в формы канонических жанров, местная традиция раздвигала их рамки, вносила свой национальный колорит, одновременно сама обогащалась новыми идеями и художественными средствами.
Список литературы Книжные традиции древней индии в дидактической литературе монгольских народов
- Балданжапов П.Б. Алтай тобчи. Монгольская летопись XVIII в. -Улан-Удэ, 1970.
- Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. Историко-библиографический очерк. -Новосибирск, 1989.
- Гусева Н.Р. Индуизм. -М, 1977.
- Ендон Д. Монгольская тибетоязычная художественная литература//Литературные связи Монголии. -М., 1981.
- Ендон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. -М., 1989.
- Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам. Вступ. ст., подгот. старомонгольского текста, рус. пер. и прил. к немуЦ-А. Дугар-Нимаева. -Улан-Удэ, 1993.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. -М., 1979.
- Маланова Т.М. Тибетские переводы древнеиндийской афористической поэзии.//Буддизм и литературно-художествнное творчество народов Центральной Азии. -Новосибирск, 1985.
- Путешествие по Забайкалью.//Путешествие на Восток (Государя императора Николая 11 (1890-1891 гг.). -Улан-Удэ, 1992.
- Сазыкин А.Г. Собрание монгольских рукописей и ксилографов из фондов Тувинского республиканского краеведческого музей им. 60 богатырей//Тюркские и монгольские письменные памятники. Текстологические и культуроведческие аспекты ис следования. -М., 1992.
- Хурэл-Батор Л. Традиции индийской и тибетской дидактической поэзии в литературе монгольских народов//Специфика жанров в литературах Центральной и Восточной Азии. -М., 1985.
- Яхонтова Н.С. Ойратский перевод монгольского сочинения «Ключ разума»//Тюркские и монгольскиеписьменныепамятники. Текстологические и культуроведческие аспекты исследования. -М., 1985.
- Pathak S.K. The Indian Nitisastras in Tibet (Индийские нитишастры в Тибете). -flelhi, 1974.