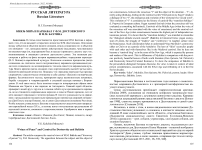Князь мира и карнавал у Ф.М. Достоевского и М.М. Бахтина
Автор: Колчин Вячеслав Геннадьевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье сопоставляются представления М.М. Бахтина о карнавале с тем, что он называет «открытием личности» Ф.М. Достоевским. Оппозиция между субъектом и объектом нашего сознания, между сознающим «я» и объектом его внимания - «я», непосредственно действующим (мыслящим, чувствующим) во внешнем мире («я, ощущающим боль в пальце») приводит к диалогу двух «я», возникновению и эволюции «личного двуголосого слова». Эта эволюция рассмотрена в работе на фоне истории карнавалоподобных «праздников перехода» (И.Л. Попова) в европейской культуре. Языческие сезонные празднества (когда сознающее «я» считалось чем-то полуживотным), карнавалы средневековья (когда голос сознающего «я» ассоциировался с голосом совести) и карнавальная культура Нового времени (когда сознание стало определяющей, высшей частью автономной человеческой личности). Показано, что «праздник перехода» был призван упорядочить «диалогическое отношение к себе самому» (Бахтин) в исторических формах: безличностного экстаза, примирения перед великопостным покаянием, борьбы «лидеров» и «мировоззрений» в смеховой культуре начиная с Возрождения. В этой связи могут быть понятны споры по интерпретации образа князя Мышкина как Христа и как пародии на Антихриста. Главный герой «Идиота» примиряет людей друг с другом и с самими собой в духе средневекового карнавала, но не становится «карнавальным королем» в смысле Нового времени, чего от него ожидают персонажи и читатели романа. В этом его уникальность по сравнению с предыдущими положительно-прекрасными героями как мировой литературы (Дон Кихот, мистер Пиквик), так и самого Достоевского (полковник Ростанев). Чтобы показать уникальность Бахтина в персоналистко-диалогическом направлении европейской мысли XX в., за основу взяты отечественные представления об идеальной личности, связанные с переосмыслением Серебряного века в первые советские годы.
«идиот», мышкин, дон кихот, пиквик, личность, лидер, серебряный век, достоевский, бахтин, лосев
Короткий адрес: https://sciup.org/149139951
IDR: 149139951
Текст научной статьи Князь мира и карнавал у Ф.М. Достоевского и М.М. Бахтина
Переосмысление Бахтина в постсоветские годы связано с сомнительностью «карнавала Достоевского» и с чрезмерной метафоричностью на учного языка ученого.
Среди достоевсковедов преобладает «паратеологическая критика» [Попова 2009], основанная на очевидном конфликте материально-телесных вольностей карнавала с духовными ценностями классика. Карнавал становится деградацией ранних представлений Бахтина о диалоге [Бонец-кая 1998], ставя под вопрос применимость к Достоевскому и самой «диалогичности» [Степанян 2010].
Возможно, в связи с этим, в новом академическом многотомнике Достоевского Бахтина упоминают, в основном, в контексте западных исследований. И даже «мениппейные» места «Идиота», отмеченные Бахтиным, объясняются скандальностью самого Евангелия [Соломина-Минихен 2016] («скандалон» - греч. соблазн, утрата веры, «для иудеев соблазн, для эллинов безумие»).
Однако, исключив Бахтина из научного диалога, исследователи спорят, кем является для Достоевского Князь Мышкин - попыткой изобразить Христа в русском обществе или сознательной пародией на одну из версий Антихриста? Даже ученые, глубоко знающие православное мировоззрение классика, разделились в своих оценках, оспаривая при этом его авторскую волю [Достоевский 2015-2021, IX, 550, 560].

Не становится ли подражающий Главе Церкви «безумный» герой вожаком «карнавала», потерявшего голову. И наоборот, не оказываются ли в «мире наизнанку» люди, решившие, что «положительно-прекрасная» личность может «заместить» Христа. Ведь такая смена «верха и низа» позволяет трактовать как Христа даже демонических героев Достоевского (Ставрогин).
Герой, отсылающий ко Христу, не может быть понят в отрыве от проблемы личности («открытой» Достоевским по Бахтину как «человек в человеке»). Автор надеется, что, поняв «положительно прекрасного человека» как личность, можно анализировать вышеуказанные разночтения научно.
Природа личного двуголосого слова
Описывая новаторство Достоевского в изображении героев, Бахтин использует термины «личность» и сознание, слабо формализованные как в 1920-х, 1960-х гг, так и по сей день: «дело идет именно об открытии такого нового целостного аспекта человека - “личности”» [Бахтин 1997-2012, VI, 68]. «Он [Достоевский] строит не характер, не тип, не темперамент, вообще не объектный образ героя, а именно слово героя о себе самом и о своем мире» [Бахтин 1997-2012, VI, 63]. «Словом героя о...» Бахтин метафорически называет сознание [Бахтин 1997-2012, VI, 57].
Личность Бахтин уравнивает с сознанием: «Личность же, по Аскольдову, отличается от характера, типа и темперамента, которые обычно служат предметом изображения в литературе, своей исключительной внутренней свободой и совершенной независимостью от внешней среды» [Бахтин 1997-2012, VI, 17].
В науке начала XX в. «сознание» и «личность» («сознательная») воспринимались как синонимы по определению. Однако, психоанализ вернулся к античным представлениям, что «мыслим мы всегда, но воспринимаем мышление не всегда» (Плотин). Задолго до Фрейда, Плотин считал «осознающую» часть личности “фантазмой”, более близкой к животной, чем к разумной (греч. логосной, словесной) стороне человека [Месяц 2013].
Такой человек может выбрать любое подмножество своих проявлений (посчитав их, словами Бахтина, «событиями бытия»), чтобы подтвердить любое представление («фантазму») о себе самом, как полигендерное, так и полуживотное. Нобелевский лауреат 2002 г. Д. Канеман сделал вывод о доминировании инстинктивно-животного («быстрого») мышления человека над рациональным («медленным»), разрушая «классические» представления науки.
Целенаправленная фрагментация сознания меняет даже «научную» картину мира, когда по желанию исследователя электрон ведет себя то как волна, то как частица. Н. Бор обобщил этот феномен словами «на сцене бытия мы сами являемся как актерами, так и зрителями» [Бор 1961, 113].
Присвоив себе абсолютное право быть зрителем самого себя, автоном-

ный (греч. самозаконный) человек Нового Времени оказался один на один с расщеплением научной картины мира и доличностной архаикой инстинктов.
Свобода личности у Достоевского (как и философия поступка у Бахтина) несовместима с инстинктивно-животным поведением. Введя для сознания метафору «слово о...», Бахтин показал, что, осознать себя по-человечески (разумно, «словесно») личность может лишь с помощью «чужого слова о себе», «чтобы преодолеть свой этический солипсизм, свое отъединенное “идеалистическое” сознание» [Бахтин 1997-2012, VI, 15]. Там, где «рацио» вязнет, человек либо слушает слово, несущее заряд человечности, либо превращается в бессловесное животное (ср. осмеяние крика осла, как плоти, лишенной ума, в «ослиной мессе» [Попова 2009, 151]).
Этимологическая связь «сознания» и «совести» европейского человека [Прохоров 2004], указывает на «словесную» (но, при этом, «быструю», в смысле Канемана) опору личности. Сознанием «событийной причастности» (вместо «этического солипсизма») считал совесть, распознающую «события бытия», и сам Бахтин [Бахтин 1997-2012,1, 329].
Тщетные попытки автономной личности подменить голос совести Бахтин показывает в концепции личного двуголосого слова, проявляющегося в жанрах: «диатрибы» и «солилоквиума» [Бахтин 1997-2012, VI, 135], когда мы «раздваиваем свое авторство», пытаемся “овладеть внутренним человеком”, “заменить себе самому другого” <...> в отчаяннейшей симуляции самодостаточности» [Бахтин 1997-2012, VI, 207, 239-240]. У героев Достоевского Бахтин выделяет характерные ситуации «сумасшествия», «диалогическое отношение к себе самому (чреватое раздвоением личности)» [Бахтин 1997-2012, VI, 132].
Какова личность, к которой герой Достоевского с «исключительной внутренней свободой и совершенной независимостью от внешней среды» [Бахтин 1997-2012, VI, 17] мог бы обратиться как к «ты еси», словами Вяч. Иванова: «не “ты познаешься мною, как сущий”, а <...> “твоим бытием познаю себя сущим”» [Иванов 1994, 295]?
Серебряный век возродил множество «фантазмов» идеальной личности: «“София”, “мировая душа”, “идеальная сущность”» [Тамарченко 2011, 147], «идеальная личность мира» [Малер 2013], «вечная женственность», «психея». Но подобно немым античным идолам и «единому» неоплатоников, «незнакомка» вещала лишь через своих «пророков» и «теургов», которыми стали поэты Серебряного века.
Вяч. Иванов отметил эффект «самообожествления», права говорить от лица такой «личности», завершив «ты еси»: «ты» становится для меня другим обозначением моего субъекта», за что и получил от Бахтина, по мнению Н.Д. Тамарченко, упрек в монологизме подхода (цит. по: [Тамарченко 2011, 246]).
Подмена идеальной личности собою лежит в основе «монологического мышления». Как только в мире своего бытия человек подменяет идеального собеседника, «войти» к нему могут лишь его последователи (готовые
сыграть безгласную «вещь» в его «монологическом романе»),
С другой стороны, попытка реального переноса «доминанты в чужую личность» делает «совестью» героев «карнавального короля» («завершающего» их своим «вненаходимым» голосом), что объясняет феномены карнавала Достоевского (см. пример Ростанева и Опискина в [Колчин 2020]).
Альтернативой «дурной бесконечности» солипсизма и самообожест-влению «во имя свое» становится «событийная причастность» свите «короля». Этот порочный круг требует обратиться к истории попыток европейского человека обрести свободу от «оплотняющих» рамок.
Личность, завершающая карнавал
Карнавалоподобные языческие «праздники перехода» (Попова), как «события бытия», поддерживающие коллективную идентичность в социуме, были связаны с календарными циклами умирания и возрождения природы и сменами состояний мира, сопровождаясь экстатически-безличным (вплоть до инстинктивно-животного) коллективным самообожествлением.
Христианство придало больший вес «сверхприродным» событиям личного изменения конкретного человека, переходу от смерти к «событийной причастности» вечной жизни: через пост к Воскресению и Пятидесятнице, как личное следование за Христом в событиях Его земного подвига.
Средневековый карнавал, создавал необычно «фамильярные» контакты («карнавальный утопизм», «новогоднее восприятие истории» Бахтина) упрощавшие примирение даже врагов накануне поста («Прощеное Воскресенье», «Эстомихи»), Взаимное прощение обид и прекращение тяжб было обязательным условием великопостного покаяния (озвученное Христом в молитве «Отче наш»).
Неофициальные мясопустные «безумства» делали очевидной неспособность человека своими силами «попрощаться с мясом» (ср. итал. «carne-vale»), обуздать телесные инстинкты (ср. ожидание слов осла в «ослиных мессах») и побуждали смиренно предпринять великопостное следование за Христом на Его крестном пути «от смерти в жизнь».
В средневековом «переходе» лидером в итоге становился Христос, а «карнавальный король» осмеивался как повелитель мира смерти, страстей и масок («ад стеня вопиет...» в стихирах Великой Субботы). Р. Акофф (один из отцов структуралистского «системного подхода» в менеджменте) считает способность лидера вдохновлять людей на пути к недостижимым целям (в т.ч. целям целей - «идеалам») эстетической [Акофф, 2005, 242-243]. Лидер соединяет миры, будучи одновременно «путеводителем» в идеальный мир и «посланником» идеального мира «здесь и сейчас». Подобное «соединение миров», названное Э. Кассирером «символической функцией», Бахтин упоминает как карнавальные «верх» и «низ» (материально-телесный) и «возможность совсем другой жизни» [Бахтин 1997 2012, VI, 166], а А.Ф. Лосев превращает в понятие личности как «синтез идеального и материального» [Лосев 1992, 409].

Термин личность (лат. «persona») Блж. Августин взял из греческого «лрбоюлоу» (дословно «направленный взгляд»), использовавшегося в Септуагинте и в Новом Завете в значении «лицо», и применил к личности Иисуса Христа, соединившей человеческую и Божественную природы [Лосев 1992, 82]. Так как в латинском языке не было достойной замены греческому «ипостась» (латинская калька «субстанция» вызывала путаницу с «природой»), «лицо» стало «личностью».
Личностями были призваны стать и последователи Христа, преодолевая пропасть между реальным (земным) и идеальным (небесным) мирами. То, что в язычестве оставалось «фантазмой», обрело сверхприродную уникальность, «несводимость человека к природе» (В.Н. Лосский [Малер 2013,227]).
Заслугой предшественников Августина, в том числе трех Святителей, имена которых стоят в черновиках Достоевского рядом со знаменитым «Князь Христос» [Баршт 2019], было решение «металингвистической» и «полифонической» (по Бахтину) загадки новозаветных текстов: как можно в устах идеальной Личности расслышать слова Бога и человека одновременно, из-под «маски» «темперамента-типа-характера» («сын плотника», не узнанный иудеями).
С этой точки зрения их оппоненты, последователи арианской ереси, считавшие Христа только человеком (подобно Ренану, вдохновившему Достоевского), прочли Евангелие как монологический роман, держащий героев в оковах плотски «объективированного» образа.
В мире Достоевского Бахтин видит отказ от «монологичности», как «верность авторитетному образу человека» [Бахтин 1997-2012, VI, ПО]. «Верность» здесь замена запрещенного в СССР слова «вера». «Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5,7), сейчас, пока не знаем эту Личность «лицом к лицу». Вера (вместо «верности») не в себя, не в свою идею, не в свою божественность. Эта «вера, а не видение» и значит постоянное «вопрошание идеального образа (как поступил бы Христос?), то есть внутренне диалогическая установка по отношению к нему, не слияние с ним, а следование за ним» [Бахтин 1997-2012, VI, 111].
Отказ от Христа, как Путеводителя, неизбежно вернул «празднику перехода» Возрождения и Нового времени самоценный смех - древнее средство против страха (уходящего, приходящего «миров» либо смерти в «междуцарствии») [Попова 2009, 136-137, 142]. При этом «карнавальный король», развенчиваемый победой Христа, в «переходах» Нового времени занимает лидерское место, зазывая последователей в свою «относительную мифологию» (Лосев), карнавал «во имя свое».
Позднейшее «слишком человеческое» прочтение Евангелия - Христос францисканских спиритуалов XIII в., «монологически» лишенный Божественного голоса «в Его предельной человечности - в Его детской слабости и Его смертных страданиях», оказало влияние на теургов Серебряного века (заставив искать иную Софию-Премудрость) и на самого Бахтина [Попова 2009, 169-170].
То, что в средневековом карнавале, завершаемом покаянием, Бахтин называл «праздничной жизнью» и «карнавальной свободой», превратилось без Христа в смену «карнавальных королей». Достоевский (по Бахтину) абсолютизировал это изобретение Нового Времени, заставив конкурировать одновременно нескольких «героев-идеологов» за влияние на людей, стремящихся к ангельски-бесплотной («без мяса») жизни.
«Князь мира»
Каков герой, способный наделять других персонажей «исключительной внутренней свободой и совершенной независимостью от внешней среды» [Бахтин 1997-2012, VI, 17]. Которому можно сказать «ты еси», и не впасть в соблазн (греч. «скандалон», утрата веры), что равносильно, по Бахтину, «монологическому мышлению»?
«Положительно прекрасные» герои имели «твердые» «типологические» и «характерные» основания для положительного восприятия как читателем, так и другими персонажами. Полковник Ростанев, как боевой офицер в рабстве у проходимца, Алеша Карамазов, как послушник, вырванный из монастыря, мистер Пиквик, как глава клуба и Дон Кихот, как странствующий рыцарь.
Лев Мышкин ничего, кроме «положительно-прекрасной» личности (в прямом смысле этого слова) не имел (даже уверенности в своем интеллекте). И именно эта «исцеляющая» других личность, соответствующая своим первосмыслам, позволяет создать Достоевскому непревзойденный в мировой литературе образ положительно прекрасного человека.
Дон Кихот избавлял от чар «волшебников». «Пиквикисты» вслед за своим лидером исповедовали «доброжелательность» (англ, «benevolence»). «Князь Христос» должен был освобождать «внутреннего человека» персонажей от «масок» темперамента-типа-характера и при этом, не заслонять для них Христа, создавая карнавал «во имя свое».
Советская реформа правописания 1918 г. создала затруднения для исследователей Достоевского. Слова «м!р» и «мир» (греческие «космос» и «ирини», покой, гармония, соответственно) стали не только звучать, но и писаться одинаково. Библия знает двух «князей»: «Князя мира» - Христа (Ис. 9.6) и «князя м!ра» - врага рода человеческого (Ин. 12.31). Если, например, в Библии Короля Иакова эти два отрывка отличаются («King of Peace» и «Prince of this World», соответственно), то в современном русском написании отличия нет.
К.А. Степанян указывает два вышеуказанных библейских отрывка (в современном написании) как одно из доказательств амбивалентности Льва Мышкина для самого Достоевского [Степанян 2009, 149-150].
В русской традиции устных духовных поучений «м!р» произносили как «мир», а вместо слова «мир» использовали сочетание «мир душевный». «Душевный мир», как примирение «верха» и «низа» в сердце человека, эстетический феномен осознания событийной причастности Бахтин
называет «обоснованным покоем» [Бахтин 1997-2012, I, 328-330]. Дарит «мир душевный» человеку его чистая совесть («жалок тот, в ком совесть нечиста»),
Мышкин ведет себя как «князь мира» (а не «м!ра» в старом написании).
Он старательно избегает любого критического обращения к окружающим, которое может заглушить их совесть. «Им руководит скорее боязнь своего собственного слова (в отношении к другому), чем боязнь чужого слова» о себе [Бахтин 1997-2012, VI, 269]. Всю первую часть романа (до вечера у Настасьи Филипповны) к словам Князя ни разу не применяется характеристика «вскричал», постоянная для речи прочих героев.
Герои «Идиота», живущие в «автономных», «монологических», «идейных» мирах бытия, вынуждены страшиться карнавальных королей, заменяющих им «вненаходимый» голос совести и лишаюших их «душевного мира». «Пети же» до выхода Князя в свет напоминает попытку карнавального «перехода», когда герои тщетно пытаются избавиться от масок своими силами, мучаясь между стыдом и лицемерием.
«Проникновенное слово» Князя заставляет участников карнавала сменить перспективу на обратную (увидеть в собеседнике не грозный идол, «олицетворение идеи», а «ты еси»), ответить своим голосом (а не тем, которым позволяет карнавальный король).
Так Настасья Филипповна с радостью снимает с себя маску «рогожин-ской», Аглая «маленькой дуры», Рогожин братается, Келлер искренне просит денег, Лебедев с готовностью признается в «низости».
Покаяние, невозможное перед идеей, идолом, становится возможным перед милующей личностью. Создание «мира душевного», как синоним успокоения совести, является ключевым отличием Мышкина от прототипов (Дон-Кихот, уничтожающий великанов и карающий преступников, и Пиквик, негодующий на проходимцев).
И смешным Мышкин становится не когда герои «выпадают» из его «относительной мифологии» (как у Дон-Кихота и Пиквика), а когда он теряет «лицо» («маску», созданную представлениями других о себе), пытаясь вывести героев Достоевского из рабства карнавала в мир мифологии абсолютной. Те Мышкин, как личность, исцеляющая других, бесстрашно абсолютизирует не «собственные» образы себя и «своих» положительных героев, а словесную («по образу») способность человека отвечать своим голосом, преодолевая карнавальные соблазны.
В подобной «неоспоримости всех и каждого, со всеми их “сознаниями” и “голосами”, и заключается, по мысли Бахтина, заслуга “полифонического” романа» [Ветловская 2011, 120], за что многие исследователи считают мыслителя исказившим Достоевского.
Является ли освобождение Мышкиным других персонажей от масок (пробуждение собственной совести) «спасительным обманом»? Нет, ведь, у Достоевского примирение миров бытия разных персонажей происходит не внутри «относительной мифологии» карнавального короля («во имя

свое»), привычно ожидаемой читателями монологических романов, а на диалогическом («мало-помалу») пути героев к познанию Личности с именем «Красота» (среди прочих имен).
Заключение
В приключениях Льва Мышкина Достоевский показал «амбивалентность» европейской личности в ее «карнавальных» попытках управлять личным двуголосым словом («диалогическое отношение к себе самому» [Бахтин 1997-2012, VI, 132]).
Избавившись с помощью христианства от языческих «праздников перехода» (Попова), с ежегодным дионисийским «выходом из себя», личность Нового Времени превратила карнавалы средневековья в бесконечную смену «карнавальных королей» и их «относительных мифологий» (Лосев).
Освобождая героев от стесняющих «масок», Князь Мышкин вернул карнавалу его христианский смысл примирения друг с другом и с самими собой. Однако неготовность самому стать ожидаемым «лидером» перехода, заняв место Христа, ведет к его кажущемуся «идиотизму» в глазах персонажей романа. Сценарий, в котором «князь» следует ожиданиям, Достоевский покажет в «Бесах».
Несмотря на кажущуюся «пародийность» Мышкина, он успешнее современных Достоевскому теоретиков человеческого счастья. «Князь Христос» способен «превратить другого человека из тени в истинную реальность» [Бахтин 1997-2012, VI, 15] и, в то же время, не дать собеседнику самообожествиться в свите «Идиота» (соблазниться, став последователем «великого человека», карнавального короля очередной «относительной мифологии»).
Проблематичность Мышкина для исследователей в том, что его человеческая личность не включает («сущностно», а не «событийно», по благодати) другую, нечеловеческую, природу Христа.
Такой герой может показать пример живой положительно-прекрасной личности, но не может решить проблемы других своими, человеческими, силами.
Однако Князь Мышкин, владеющий «проникновенным словом», не является и пародией на Антихриста, который придя «во имя свое» будет «успокаивать совесть» автономных людей «монологически». Умиротворение, наступающее в конце «Идиота», отличается как от катарсиса обожествления погибшего героя и его «верных последователей», так и от «смехового катарсиса» (Попова) самообожествления публики, гомериче- ски смеющейся над несостоявшимся «богом».
Эстетическая реакция от ухода князя-миротворца в иной мир бытия может быть названа скорее катарсисом смирения (греч. «умаления» и примирения после карнавала) без героя-короля, ставящего себя на место Христа (во всех Его «идейных» интерпретациях). Неприятие подобной реак ции заставляет читателя видеть неудовлетворительную трагическую или комическую трактовку, заставляющую возвращаться к шедевру еще и еще (ср. «еще все впереди» [Бахтин 1997-2012, VI, 187]).
Неустойчивость наступившего «примирения с реальностью» (аналог Прощеного Воскресения без последующего страстного пути к Пасхе), готовность героев «без мяса» устремиться в пучину новых карнавалов, заставляет думать, что подобный апокалиптический сценарий Достоевский разовьет в «Бесах».
Вместе с тем в последующих романах («Подросток» и «Братья Карамазовы») Достоевский начнет искать образы «райского жития», «возможность совсем иной человеческой жизни на земле» [Бахтин 1997-2012, VI, 171], позволяющей Европейской цивилизации карнавальным соблазнам противостоять.
Список литературы Князь мира и карнавал у Ф.М. Достоевского и М.М. Бахтина
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари. Языки славянской культуры, 1997-2012.
- Баршт К.А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор-История, 2019. 456 с.
- Бонецкая Н.К. Бахтин глазами метафизика // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 1. С. 104-155.
- Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 152 с.
- Ветловская В.Е. Теория «полифонического романа» М.М. Бахтина и этическое учение Ф.М. Достоевского // Родная Ладога. 2011. № 2. С. 115-124.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 19721990.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 35 т. СПб.: Наука, 20152021.
- Иванов В. Родное и Вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с.
- Колчин В.Г. Борьба сознаний персонажей как основа карнавально сти ранней прозы Достоевского // Новый филологический вестник. 2020. № 1. С. 16-26.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 1. М.: Искусство, 1992. 656 с.
- Малер А.М. Понятие «личности» в софиологии и неопатристике // Софи-ология и неопатристический синтез. М.: Издательство ПСТГУ 2013. С. 251-262.
- Месяц С.В. Сознание и личность в философии Плотина // Исследования по истории платонизма. М.: Кругъ, 2013. С. 147-169.
- Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 464 с.
- Прохоров Г.М. Древнерусское слово съвЪсть и современные русские слова совесть и сознание // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 55. СПб.: Издательство Академии наук Института русской литературы, 2004. С. 523-535.
- Соломина-Минихен Н. О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот». СПб.: Скифия, 2016. 240 с.
- Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб.: Крига, 2010. 400 с.
- Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М.: Изд-во Кулагиной, 2011. 400 с.
- Ackoff R. On Purposeful Systems. Piscataway, N.J.: Transaction Publishers, 2005. 288 p.