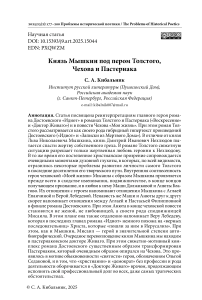Князь Мышкин под пером Толстого, Чехова и Пастернака
Автор: Кибальник С.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реинтерпретациям главного героя романа Достоевского «Идиот» в романах Толстого и Пастернака («Воскресение» и «Доктор Живаго») и в повести Чехова «Моя жизнь». При этом роман Толстого рассматривается как своего рода гибридный гипертекст произведений Достоевского («Идиот» и «Записки из Мертвого Дома»). В отличие от князя Льва Николаевича Мышкина, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов пытается спасти жертву собственного греха. В романе Толстого сюжетную ситуацию разрешает только жертвенная любовь героини к Нехлюдову. В то же время его постепенное христианское прозрение сопровождается очевидными моментами духовной глухоты, в которых, по всей видимости, отразились некоторые проблемы развития личности самого Толстого в последние десятилетия его творческого пути. Внутренняя соотнесенность героя чеховской «Моей жизни» Мисаила с образом Мышкина проявляется прежде всего в сходстве именования, подвижничестве, в конце концов получающем признание, и в любви к нему Маши Должиковой и Анюты Благово. Их отношения с героем напоминают отношения Мышкина c Аглаей Епанчиной и Верой Лебедевой. Ненависть же Маши и Анюты друг к другу скорее напоминает отношения между Аглаей и Настасьей Филипповной в финале романа Достоевского. При этом Анюта в конце чеховской повести становится не женой, не любовницей, а своего рода сподвижницей Мисаила. В этом плане она также отдаленно напоминает Веру Лебедеву, которая в последних главах романа «Идиот» немного похожа на «верных последовательниц» Христа, которые «пошли за ним в Иерусалим». При этом, как и Мышкин, Мисаил — герой в значительной степени автобиографический. Очередное перевоплощение князя Мышкина мы находим в пастернаковском докторе Живаго. При этом сюжетно-мотивный комплекс романа Достоевского существенным образом трансформирован Пастернаком, который очевидным образом опирался на Чехова. Это проявилось в мотиве обыкновенности «святости» героя, обозначенном Ольгой Седаковой, и в том, что «христианин» и «демократ» без профессии и рода деятельности оборачивается в «Докторе Живаго» врачом, продолжающим исполнять свой профессиональный долг во всех, даже самых трагических обстоятельствах.
Достоевский, Толстой, Чехов, Пастернак, Идиот, Воскресение, Моя жизнь, Доктор Живаго, роман, повесть, прообраз, претекст, интертекстуальные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/147248213
IDR: 147248213 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15044
Текст научной статьи Князь Мышкин под пером Толстого, Чехова и Пастернака
«Дети князя Мышкина»?
Р оман Достоевского «Идиот» — одно из самых замечательных произведений мировой литературы, а князь Мышкин — один из самых притягательных ее образов. Многие русские и зарубежные писатели пытались впоследствии по-своему «переписать» этот роман и представить свой вариант нового, современного им князя Мышкина. Конечно, некоторые из этих попыток решительно не удались. Однако есть среди них и такие, которые заставляют нас следить за историей этих героев — своего рода «детей князя Мышкина» в русской литературе.
Князь Нехлюдов как новый князь Мышкин
В романе «Воскресение» (1889–1899) Лев Толстой — вслед за Достоевским — изобразил попытку спасения «падшей женщины». Эту тему, понятую вслед за Достоевским как «восстановление погибшего человека», Толстой даже вынес в заглавие своего романа. Тем самым он как бы ответил Достоевскому — уже после его смерти — на скрытое послание в свой адрес в романе «Идиот», выразившееся в том, что князь Мышкин носит имя «Лев Николаевич», а также в ряде интертекстуальных отсылок к рассказу «Люцерн» (1857) и, возможно, к роману «Война и мир» (1863–1869) (cм.: [Кибальник, 2024а]). Одновременно в сибирских главах своего романа Толстой попытался отчасти продолжить «лагерную прозу» Достоевского, его «Записки из Мертвого Дома» — книгу, которая нравилась Толстому больше всех остальных книг Достоевского (см. подробнее: [Кибальник, 2017, 2021]).
При этом сюжет романа «Идиот» Толстой трансформировал так, чтобы он выглядел более жизненным и правдоподобным. У Достоевского один герой (Тоцкий) соблазняет Настасью Филипповну, а другой (князь Мышкин) пытается ее спасти. У Толстого князь Нехлюдов расплачивается за свой собственный грех.
Однако Толстой не просто как бы объединил в одном герое — князе Нехлюдове — функции Тоцкого и князя Мышкина. Он сочинил историю со счастливым концом. Как заметила Нина Перлина, Мышкин «хочет любить Настасью жертвенной любовью, а братской — Аглаю и тем обеих губит, в то время как Катюша, уходя с Симонсоном, делает счастливым одного и освобождает другого» [Перлина: 123].
Ведущая роль у Толстого переходит, таким образом, от героя к героине. «Сострадательная любовь», которую Мышкин испытывал к Настасье Филипповне, в «Воскресении» подвергается полемической интерпретации. Нехлюдов действительно «воскрешает» Катюшу к новой жизни — своей искренней готовностью разделить с ней ужасы того положения, в которое ее в конечном счете ввергло то, что много лет назад он соблазнил ее. Однако к окончательному разрешению трагических коллизий романа приводит не «сострадательная» любовь героя, а обычная человеческая любовь героини.
При этом Нехлюдов с самого начала не слишком рассчитывает на то, что справедливость в отношении Катюши восторжествует:
«Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь, о жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если бы ее оправдали » (здесь и далее выделено полужирным мной. — С. К .) [Толстой: 304].
Когда Нехлюдов все же получает известие о ее помиловании, он оказывается не готов к этому:
«Пока она оставалась каторжной, брак, который он предлагал ей, был фиктивный и имел значение только в том, что облегчал ее положение. Теперь же ничто не мешало их совместному житью. А на это Нехлюдов не готовился » [Толстой: 425].
Сложившуюся тупиковую ситуацию разрешает самопожертвование Катюши. Она освобождает Нехлюдова от его обещания жениться на ней, причем сам Толстой истолковывает это довольно однозначно:
«…она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним» [Толстой: 433].
В то же время постепенное христианское прозрение Нехлюдова сопровождается в романе очевидными моментами его духовной глухоты, в которых, по всей видимости, отразились некоторые проблемы внутреннего развития самого Толстого в последние десятилетия его творческого пути.
Будучи настроен на искупление своей вины перед Катюшей совместной жизнью с ней в Сибири, Нехлюдов не слишком старательно хлопотал о признании ее невиновной. Более того, его ничем не мотивированное объявление каждому встречному о своей решимости жениться на Масловой с самого начала отталкивало некоторых чиновников от справедливого решения по ее делу (см., например: [Толстой: 277]). Вдобавок, набрав на себя массу обязательств по отношению к другим заключенным, Нехлюдов все время пытался хлопотать и за них. В результате он не удосужился заранее объяснить дело Масловой товарищу прокурора Селенину, который был «его прежний приятель», и дело не было обжаловано в Сенате. Между тем именно Селе-нин в дальнейшем представил его в «комиссию прошений», вследствие чего Катюша была помилована.
На протяжении всего этого времени Нехлюдову удавалось добиться каких-то послаблений не только в отношении нее, но и в отношении других заключенных. Для этого он обращался к своему бывшему товарищу по полку, вице-губернатору
Масленникову, и к другим лицам. Пользуясь их расположением, Нехлюдов, однако, вел себя с ними не слишком учтиво, вместо благодарности платя им всем нескрываемым осуждением за то, как они исполняют свои обязанности (см.: [Толстой: 193]).
В результате на кое-кого из тюремных чиновников это навлекает серьезные неприятности. Так, вернувшись из Петербурга, Нехлюдов уже не находит на прежнем месте смотрителя острога, при котором для заключенных существовали значительные послабления. Однако, узнав об этом, Нехлюдов даже не задумывается о том, что именно его, хоть и справедливые, но необдуманные жалобы вице-губернатору навлекли на смотрителя неприятности (см., например: [Толстой: 192, 304]), и что, возможно, тот сам теперь нуждается в помощи.
Наконец, то, как быстро Маслова забывает несчастья, которые навлек на нее Нехлюдов, кажется не до конца художественно убедительным. Первоначальная совершенно естественная реакция ее на его предложение руки и сердца: «— Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты!» (см.: [Толстой: 166]) — сходит у нее на нет как-то слишком быстро.
Если, в отличие от князя Мышкина, князь Нехлюдов в изображении Толстого, казалось бы, добивается своих целей, то по части художественной убедительности этот образ явно уступает его, на первый взгляд, неудачливому и трагически заканчивающему свою жизнь прообразу в романе Достоевского.
Мисаил и Мышкин
Еще до выхода из печати «Воскресения» Толстого (1899) роман Достоевского «Идиот» — в менее явной форме — отозвался у Чехова в его повести «Моя жизнь», напечатанной в 1896 г. Чехов обратился к этому сюжету не в последнюю очередь как раз под впечатлением от чтения вслух самим Толстым в его присутствии раннего варианта «Воскресения» (см.: [Чехов. Сочинения; т. 9: 502]). Главный герой «Моей жизни» Мисаил Полознев с его убежденностью в том, что каждый человек должен заниматься физическим трудом, отчетливо ориентирован на художественную и публицистическую мысль позднего Толстого (см. об этом: [Скафтымов: 310–311]).
Что же касается князя Мышкина, то с ним чеховский герой соотнесен менее явно. Характер внутреннего диалога Чехова с Достоевским в этой повести хорошо показала Н. В. Живолупова: «…герой "Моей жизни" Мисаил подобен Идиоту по особым качествам его геройности и способу существования в мире (в финале рассказа это похоже на "монастырь в миру"). Как частный человек (к этому состоянию он стремится) он тоже идиот ("дурачком" его считает в начале рассказа весь город)…» [Живолупова: 15]. А ведь некоторые образы романа Достоевского «Идиот», как показала А. Г. Головачева, преломились еще в отдельных героях ранней чеховской пьесы «Безотцовщина» [Головачева: 310–312].
Добавим к этому, что чеховский Мисаил напоминает Мышкина даже тем, как его в повести в основном называют. Если писатель действительно хотел соотнести его с героем Достоевского и посредством имени героя, то более подходящего для этого варианта не придумаешь. Тем более что имя «Мисаил» встречается и в произведениях самого Достоевского: например, в повести «Дядюшкин сон»1, в которой этот герой, кстати сказать, — «иеромонах» (см.: [Достоевский, 1972; т. 2: 306, 368, 378]).
В то же время, в отличие от Мышкина, в Полозневе нет никаких претензий на то, чтобы быть «положительно прекрасным человеком», а уж тем более Христом. Однако каким-то непостижимым образом цели своей он — в отличие от Мышкина, которому в этом плане что-то удалось лишь в самом начале романа, — достигает. «…К концу происходит чудо, — пишет об этом Н. В. Живолупова, — как Мышкин "излечил" души жителей швейцарской деревни — сначала детей, а потом взрослых — от зла (история Мари), так и Ми-саил изменяет нравы города — дети и молодые девушки сознают его "особость" и переходят от насмешек к состраданию» [Живолупова: 15].
Судя по всему такова, по мысли Чехова, сила не просто слова, а личног о примера. В отличие от Мышкина и Нехлюдова,
Мисаил пытается найти путь, согласный со своей совестью, и тем самым подает благодетельный пример всему своему окружению.
Мысль эта реализуется в повести довольно своеобразно, а сам образ Мисаила только с серьезными оговорками может быть принят за попытку Чехова «переписать» князя Мышкина. Однако под пером такого писателя, как Чехов, он и должен был являть, конечно же, не «христианина» и «демократа какого-то непозволительного» [Достоевский, 1973; т. 8: 317, 421], а что-то гораздо более простое. Ведь в отличие от Достоевского, у Чехова «истину ищет» обычно «не герой-идеолог, а обыкновенный "серенький" человек, которому писатель доверяет часть своего духовного опыта» [Грякалова: 395].
Внутренняя соотнесенность чеховского героя с Мышкиным проявляется прежде всего в подвижничестве главного героя и в отношении к нему двух главных героинь повести. Маша Должикова — своего рода двойник доктора Благово — любит Мисаила своевольной любовью, отдаленно напоминающей любовь к Мышкину Аглаи Епанчиной. Между тем сестра доктора Благово Анюта постепенно привязывается к Мисаи-лу, сама не сразу это осознавая и до самого конца почти никак это не выказывая. Ответные чувства к ней Мисаила, судя по всему, возникают далеко не сразу и осознаются им еще меньше. В этом смысле их отношения напоминают отношения между Мышкиным и Верой Лебедевой (см. об этом, например: [Лосский: 306], [Кибальник, 2023]).
Князь Мышкин в романе Достоевского то и дело ощущает симпатию к этой второстепенной героине и тут же забывает о ней. Совершенно аналогично ведет себя Мисаил по отношению к Анюте Благово:
«Я вспомнил, что Анюта Благово за все время не сказала со мною ни слова.
"Удивительная девушка! — подумал я. — Удивительная девушка!"» [Чехов. Сочинения; т. 9: 214].
Что касается Маши Должиковой, которая в повести неожиданно выходит замуж за Мисаила, то она откровенно стилизована под героинь Достоевского, от которых сходят с ума Свидригайлов, Аркадий Долгорукий и др.:
«Она ушла в читальню, шурша платьем , а я, придя домой, долго не мог уснуть» [Чехов. Сочинения; т. 9: 226].
Между тем Анюта Благово испытывает к Маше Должиковой ревность и едва ли не ненависть. В том, что «m-lle Благово за что-то ненавидит » ее [Чехов. Сочинения; т. 9: 236], убеждена и сама Маша.
Этой нескрываемой ревностью Анюта Благово напоминает, разумеется, уже не Веру Лебедеву, а скорее Аглаю в ее отношении к Настасье Филипповне, как оно проявилось в эпизоде свидания с ней в павловском доме Дарьи Алексеевны. У Достоевского этот мотив потом будет воспроизводиться снова и снова — например, в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Так, аналогичные чувства Лиза Тушина питает к Дарье Шатовой:
«…всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение , слишком уж нескрываемые» [Достоевский, 1974; т. 10: 135].
Чеховская «Моя жизнь» вообще откровенно полигенетична по отношению к Достоевскому: в разных ее образах встречаются черты разных героев из его произведений. Причем чаще всего Чехов воспроизводит как раз неоднократно повторяющиеся у Достоевского мотивы.
Как и Анюту Благово, Машу Должикову притягивает к Ми-саилу его неординарность. Однако в полной мере она ее не осознает. Между тем Анюта, хотя и не сразу, начинает — вместе с сестрой Мисаила Клеопатрой — воспринимать его жизненный путь как своего рода подвижничество: «Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав , но нам было страшно высказать это вслух», — говорит ему Клеопатра. Женитьбу же Мисаила на Маше Анюта сразу воспринимает как « новое испытание », которое Господь послал ему [Чехов. Сочинения; т. 9: 273, 243].
В финале Мисаил постепенно все более осознает свое призвание и в последнем разговоре с отцом высказывает его, прямо озвучивая заветные идеи Толстого:
«Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить или десятки лет чертить и чертить, чтобы не замечать всего ужаса, который прячется в этих домах» [Чехов. Сочинения; т. 9: 273, 243].
Как Мышкину удалось что-то донести до жителей швейцарской деревни, а затем и до его новых петербургских знакомых, так и Мисаил в финале повести получает, хотя и самое скромное, но признание:
« Мои большие несчастья, мое терпение тронули сердца обывателей , и теперь меня уже не зовут маленькой пользой, не смеются надо мною, и, когда я прохожу торговыми рядами, меня уже не обливают водой. К тому, что я стал рабочим, уже привыкли и не видят ничего странного в том, что я, дворянин, ношу ведра с краской и вставляю стекла; напротив, мне охотно дают заказы, и я считаюсь уже хорошим мастером и лучшим подрядчиком, после Редьки …!» [Чехов. Сочинения; т. 9: 270].
В своей любви к Маше Мисаил до самого конца остается примером удивительной способности к жертвенной любви:
«И если бы она послала меня чистить глубокий колодец, где бы я стоял по пояс в воде, то я полез бы и в колодец, не разбирая, нужно это или нет» [Чехов. Сочинения; т. 9: 260].
Между тем сам Мисаил о любви ничего не говорит — о ней в повести рассуждают другие. И больше всего доктор Благово:
«Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения, и я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить, мы все должны любить — не правда ли? — без любви не было бы жизни; кто боится и избегает любви, тот не свободен» [Чехов. Сочинения; т. 9: 275].
О том, что его любовь стоила сестре Мисаила жизни, он быстро забывает:
«Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры; хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру» [Чехов. Сочинения; т. 9: 275, 273].
Аналогичен в повести и финал Маши. Он отзывается не только отъездом Свидригайлова в Америку, но и отчасти — парадоксальным образом — приглашением Кнуровым Ларисы (из «Бесприданницы» А. Н. Островского) «в Париж на выставку »
[Островский: 111]: «Прощайте, я уезжаю с отцом в Америку на выставку !» [Чехов, Сочинения; т. 9: 271, 273].
Только Мисаил и его сестра до конца сохраняют свою способность любить по-настоящему:
«У той — Америка и кольцо с надписью, думал я, а у этого — докторская степень и ученая карьера, и только я и сестра остались при старом» [Чехов. Сочинения; т. 9: 278].
Впрочем, образ доктора Благово неоднозначен. Ведь одновременно он многому научил героя и вызвал пробуждение души и любовь в его сестре:
«Она опьянела от нашего счастья и улыбалась, будто вдыхала в себя сладкий чад, и, глядя на нее во время нашего венчания, я понял, что для нее на свете нет ничего выше любви, земной любви , и что она мечтает о ней тайно, робко, но постоянно и страстно» [Чехов. Сочинения; т. 9: 243].
Однако в финале повести у Мисаила и Клеопатры обнаруживается еще одна, вначале неявная, единомышленница. Чистая, сдержанная и самоотверженная любовь к Мисаилу Анюты Благово оказывается в повести свидетельством его нравственной правоты, еще одним своего рода внутренним оправданием героя. Их общая любовь к дочери умершей сестры Мисаила Клеопатры в конце концов все же соединяет их:
«Потом, выйдя из кладбища, мы идем молча, и она замедляет шаг — нарочно, чтобы подольше идти со мной рядом. Девочка, радостная, счастливая, жмурясь от яркого дневного света, смеясь, протягивает к ней ручки, и мы останавливаемся и вместе ласкаем эту милую девочку.
А когда входим в город, Анюта Благово, волнуясь и краснея, прощается со мною и продолжает идти одна, солидная, суровая. И уже никто из встречных, глядя на нее, не мог бы подумать, что она только что шла рядом со мною и даже ласкала ребенка» [Чехов. Сочинения; т. 9: 280].
Анюта становится не женой, не любовницей, а своего рода сестрой или сподвижницей Мисаила. В этом плане она также отдаленно напоминает Веру Лебедеву, которая в финальных главах романа «Идиот» немного похожа на «верных последовательниц» Христа, которые «пошли за ним в Иерусалим» (см. об этом: [Кибальник, 2022: 45]).
Как и Мышкин [Кибальник, 2023: 102–105], Мисаил — герой в значительной степени автобиографический. Приметы Таганрога в изображаемом городе, некоторые черты П. Е. Чехова в характере отца Мисаила, архитектора Полознева, впечатления от строительства Талежской школы в мелиховский период жизни Чехова (см.: [Чехов. Сочинения; т. 9: 280]) бросаются в глаза.
К этому стоит прибавить увлечение Чехова идеями позднего Толстого — причем не отвлеченное, а отчасти реализованное в его собственной практике хозяйничанья в Мелихово. Чехов сам не только принимал живое участие в физических работах по облагораживанию большого приусадебного земельного надела, но и бесплатно лечил крестьян, спасал их во время эпидемии холеры, строил для них школы. Следовательно, он сам на практике воплощал идею о том, что физическим трудом должен заниматься каждый — во всяком случае в своеобразном, чеховском ее изводе.
Правда, более чем за два года до создания «Моей жизни» Чехов в письме от 27 марта 1894 г. написал А. С. Суворину, что «толстовская мораль» перестала его трогать:
«…в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч.» [Чехов. Письма; т. 5: 280].
Однако, как отмечал А. П. Скафтымов, Чехов говорит здесь «не о совокупности идей Толстого, а лишь об отношении к культуре…» («мужицкие добродетели», «портянки», «электричество», «пар», «лапти» и проч.): «О признании нравственного фактора в жизни человечества, об апелляции Толстого к чувству "совести" о том суде над жизнью, который осуществлялся Толстым во имя моральной правды, — об этом в письме ничего отрицательного не сказано. А именно это больше всего сближало Чехова с Толстым…» [Скафтымов: 300].
Доктор Живаго и князь Мышкин
Давно замечено, что пастернаковский доктор Живаго — это очередное перевоплощение князя Мышкина, а сам этот одноименный роман Б. Л. Пастернака (1957) представляет собой гибридный гипертекст сразу нескольких романов Достоевского — и прежде всего романов «Идиот» [Достоевский, 2020; т. 9: 626–628] и «Братья Карамазовы» [Смирнов: 154–197]. При этом основной сюжет в нем развивается по рельсам первого из них.
По характеристике А. А. Баранович-Поливановой, сюжет «Доктора Живаго» «строится в основном вокруг пяти персонажей, образующих как бы два подобных пятиугольника: Лара, ее соблазнитель Комаровский, ее муж Антипов-Стрельников, Живаго и Тоня; соответственно в "Идиоте" — Настасья Филипповна и ее соблазнитель Тоцкий, добивающийся ее руки Рогожин, князь Мышкин и Аглая» [Баранович-По-ливанова: 254]. Исследовательница усматривает «принципиальное сходство между парами персонажей: князем Мышкиным и Рогожиным у Достоевского и Живаго и Стрельниковым у Пастернака, которые как будто одновременно могут восприниматься и как двойники, и как антиподы. Сходство это проявляется на разных уровнях (любовь к одной женщине, первая встреча, происходящая в вагоне поезда, "крестовое" братство Мышкина и Рогожина и "печальное" братство Живаго и Стрельникова , а также многое другое)» [Баранович-По-ливанова: 255].
При этом внешнее сюжетное сходство романов «Доктор Живаго» и «Идиот», по мнению поэта Ольги Седаковой, «очевидно: явление "неотмирного", "блаженного" героя — Юрия Живаго, князя Мышкина в подчеркнуто, по-газетному современной реальности; его вовлеченность в странный роман с двумя женщинами, "чистой" — Тоня, Аглая, и "роковой", "падшей" — Лариса Федоровна, Настасья Филипповна; по отношению ко второй герой пытается исполнить роль спасителя (у Пастернака два прообраза: Магдалина и Христос, царская дочь и св. Георгий) и в конце концов губит ее и гибнет сам; фигура соблазнителя-покровителя — Комаровский, Тоцкий; тема благородства, аристократизма в князе Мышкине, "рыцаре бедном"…» [Седакова: 376]. С точки зрения исследовательницы, общий замысел двух романов «можно — очень приблизительно — определить так: явление подлинного христианства (иначе: "святой души", "Божьего человека", человека, похожего на Христа) в современном обществе — епифания. Сами названия двух романов уже ясно говорят, о каком образе святости пойдет речь: "Идиот" — "Доктор Живаго". Болезнь, убожество, глупость (компоненты значения "идиот"; мы оставляем в стороне этимологию) — и здоровье, и больше, чем здоровье: целительство и разум, даже ученость» [Седакова: 382].
При этом Пастернак существенным образом трансформирует сюжетно-мотивный комплекс романа Достоевского: «В образе Лары — новой Настасьи Филипповны — сопротивление Пастернака Достоевскому особенно очевидно. Болезнь мира не смертельна, это не "болезнь к смерти", он "спит, а не умер" ("И как от обморока ожил"). Святость является как врач, как великий диагност — герой романа. Говоря совсем обобщенно, в святости у Пастернака нет ничего чрезвычайного (постоянные мотивы обычности, обыденности великого), святость (или гениальность, что для Пастернака одно) в природе вещей, в природе жизни, пока она жизнь» [Седакова: 384]. Впрочем, на том, насколько «целительство и разум» художественно состоятельно, а не декларативно противопоставлено Пастернаком болезненности мира и человека в изображении Достоевского, мы остановимся ниже.
Пока же отметим, что в таком преломлении Пастернаком коллизии романа Достоевского очевидна опора на Чехова. Она отозвалась и в мотиве обыкновенности святости, обозначенном Седаковой, и в том, что «христианин» и «демократ» без профессии и рода деятельности оборачивается у Пастернака врачом, продолжающим исполнять свой профессиональный долг во всех, даже самых драматичных обстоятельствах его судьбы.
Именование пастернаковского героя в романе: « доктор Живаго » — по-видимому, неслучайно вызывает в памяти читателя — по общности профессии и сходству фамилий — героя чеховского гибридного гипертекста романов «Идиот» и «Воскресение» — повести «Моя жизнь» доктора Благово . Ассоциация эта, однако, имеет очевидный диссонансный характер:
из героев «Доктора Живаго» доктор Благово немного похож скорее на соблазнителя Лары Комаровского, чем на Живаго.
Сам же доктор Юрий Живаго, по-видимому, отчасти стилизован и под чеховского Мисаила Полознева. Он напоминает его и своим постоянством и жертвенностью в любви, и принадлежностью к профессии, стоящей как бы посередине между умственной и физической деятельностью. «Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех, — писал о главном герое пастернаковского романа Варлам Шаламов, — все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах» [C разных точек зрения: 165].
Тонкие референциальные связи романа Пастернака не только с Достоевским, но и с русской классической прозой второй половины XIX в. вообще явны и несомненны. Недаром Шаламов отзывался о нем так: «Я давно уже не читал на русском языке чего-нибудь русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. "Доктор Живаго" лежит, безусловно, в этом большом плане» [C разных точек зрения: 154]. В первую очередь с Толстым Пастернак соотносил свой роман и сам: «Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным» [C разных точек зрения: 129].
Что же касается соотнесенности Живаго с чеховским По-лозневым, то она, по-видимому, сильнее всего проявляется в его любви к Ларе. Как Полознев Машу Должикову, Юрий вначале несколько раз мельком видит Лару, не будучи еще с ней знаком. Хотя она сразу производит на него — как и Маша Должикова на Мисаила — неизгладимое впечатление, вначале Юрий даже не мечтает о ней. Жизнь его идет своим чередом, он так и не решается на связь с ней в прифронтовом госпитале, где они сближаются, и только в Юрятине приходит время для их любви.
Аналогичным образом Мисаил Полознев, не связанный, в отличие от Живаго, семейными отношениями с другой женщиной, тем не менее, долго избегает Маши Должиковой. Не веря в возможность любви между людьми, стоящими на разных ступенях социальной лестницы, в какой-то момент он даже пытается прекратить встречи с ней. Однако Маша сама делает первый шаг, они женятся и проводят вместе счастливые полгода в Дубечне. В романе Пастернака упоминается и усадьба с похожим названием: «Дуплянка». Это имение «шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологри-вова» [Пастернак: 9], в котором Юрий бывал в детстве с дядей, а Лара — впоследствии, когда стала служить в семействе Ко-логривовых воспитательницей их младшей дочери Липы [Пастернак: 76–77]. Точно так же Лара с Юрием оказываются в конце концов на короткое время необыкновенно счастливы в Юрятине, а затем в Варыкино. Вслед за Чеховым Пастернак воспроизводит атмосферу своего рода «идеального пейзажа» — особого, оторванного от всех других людей локуса любви, в котором только и может существовать счастье этих героев.
Между тем интертекстуальность «Доктора Живаго» на порядок насыщеннее, чем интертекстуальность «Моей жизни». В пастернаковских героях одновременно звучат отголоски многих их литературных прототипов. Автобиографическая основа «Доктора Живаго», по собственному признанию Пастернака, связана с его многолетней связью с Ольгой Ивинской [C разных точек зрения: 184], что вынуждало его выдумать большинство сюжетных линий романа, чтобы эта основа не проступала в нем слишком явственно. Вот откуда не в последнюю очередь в «Докторе Живаго» такой сплав образов Достоевского, Толстого, Чехова и др.
Например, Комаровский внутренне соотнесен не только с Тоцким из «Идиота», но и со Свидригайловым из «Преступления и наказания». Как гетевский Мефистоофель, Свидригайлов незадолго до своего самоубийства творит немало добрых дел, устраивая судьбы многих героев: например, детей Катерины Ивановны Мармеладовой. Аналогичным образом Комаровский в финале появляется в Юрятине, а затем и в Варыкино, чтобы, казалось бы, спасти Лару. Сама она в этом плане оказывается соотнесена уже не столько с Настасьей Филипповной, сколько с Дуней Раскольниковой.
Однако это оказывается очередным обманом (даже непонятно, как его сразу не распознает Живаго). Адвокатская деятельность и использование своего служебного положения во вред своим клиентам, как это имело место в случае с отцом Живаго, Андреем, вскрывает в этом образе также черты Лужина2, а то и Де-Грие из «Игрока», под видом помощи «генералу», обобравшего его до нитки. Некоторые герои, если спроецировать на них этот интертекстуальный план, и вовсе оказываются вывернуты у Пастернака наизнанку. Так, брата Лары, как и брата Дуни Раскольниковой, зовут Родя. Однако, в отличие от Родиона Раскольникова, пастернаковский Родя скорее идет по следам Комаровского. Он проигрывает в карты крупную сумму денег, обращается за помощью к Комаровскому и, когда тот отвечает, что помочь могла бы его сестра («Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика…»), не стесняется передать Ларе его слова [Пастернак: 74–75].
Принцип контаминации образов героев разных произведений русской классической прозы, порой трансформированных, оказывается едва ли не наиболее общим принципом построения основных пастернаковских характеров. Чехов в своем позднем творчестве сделал серьезный шаг в предвосхищении будущего «концептуального искусства» (см. об этом: [Кибальник, 2024b]). Однако по сравнению с ним Пастернак в этом отношении, естественно, на порядок выше. Что, впрочем, не добавляет жизненности и художественной убедительности его героям.
Проблема романа не в том, что «Пастернак принимает жизнь и историю такими, какие они есть» [C разных точек зрения: 178], а в том, что для воплощения такого мироощущения ему понадобился герой, которого его близкие, даже восхищаясь им, воспринимают как безвольного. Вспомним прощальное письмо к нему его жены Тони, в котором она отмечает в нем «талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли» [Пастернак: 411]. Правда, эту оценку героя его собственной женой не раз пытались корректировать исследователи. Ср., например, точку зрения Д. С. Лихачева: «Может быть, и сам доктор Живаго безволен далеко не во всех смыслах, а только в одном — в своем ощущении громадности совершающихся помимо его воли событий, в которых его носит и метет по всей земле» [C разных точек зрения: 176].
Оставим в стороне вопросы о том, насколько эта черта в герое Пастернака автобиографична3, и о том, насколько такой герой, с таким отношением к революции, нужен был автору для того, чтобы его роман был способен преодолеть препоны советской цензуры. Лучше обратим внимание на то, что «персонажем, лишенным характерности» — и поэтому также сходным с автором, — Д. С. Лихачев полагал и Лару [C разных точек зрения: 177–178]. Но разве она лишена характерности? Скорее дело в том, что каких-либо оценок в отношении своих героев избегает их создатель. Это особенно ярко проявляется к финалу, когда из-за решимости главных героев следовать до конца движению своих страстей рушатся их судьбы и гибнут или остаются без призора дети. Совершенно аналогичное поведение чеховского доктора Благово подвергается в «Моей жизни» — пусть и устами Редьки — недвусмысленной оценке. В романе Пастернака следование стихии страстей всего лишь вторит восхищению его главным героем «великолепной хирургией» революции [C разных точек зрения: 196] и не подвержено никакой критической оценке.
Очередное явление современного «Петеньки Верховенского» — «не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства», «экстремиста-максималиста» Погоревших, также изображено в романе безо всякой идеализации [C разных точек зрения: 162]. Зато Маяковский как «какое-то продолжение Достоевского» вызывает у Живаго безоговорочное восхищение:
«А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!» [Пастернак: 175, 176].
Также «шваркнуто» «в пространство» и обширное историческое полотно Пастернака, впечатляющее размахом и живописностью изображения с амых драматических страниц недавней истории
России. Однако читатель вряд ли может полностью удовлетвориться бесстрастностью и объективизмом автора. И в отличие от Достоевского и Чехова, которые не скрывают своего отношениям к своим героям, вынужден сам — снова и снова — задавать себе вопрос о том, в какой мере герои романа ответственны за собственные несчастья и несчастья своих близких.
Вот одна из причин, почему князь Мышкин и Мисаил По-лознев до сих пор принадлежат к тем редким полнокровным художественным образам, о которых поэт сказал: «Над вымыслом слезами обольюсь», а доктор Живаго, как и князь Нехлюдов влекут к себе, скорее, как какой-то яркий художественный и эстетический эксперимент. В отличие от образов Достоевского и Чехова, читатель, как мне представляется, не столько сопереживает этим героям Толстого и Пастернака, сколько воспринимает их рационально — как прочно вошедшие в историю и мифологию мирового искусства словесноинтеллектуальные конструкты4.