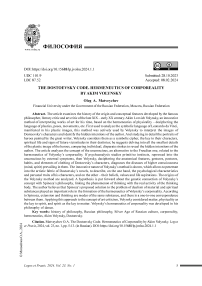Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского
Автор: Матвейчев О.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется история происхождения и концептуальные особенности разработанного известным философом, литературным критиком и искусствоведом конца XIX - начала XX в. Акимом Львовичем Волынским новаторского для своего времени метода интерпретации художественных произведений, основанного на герменевтике телесности - дешифровки языка пластики, поз, движений и т. д. Впервые примененный для анализа символического языка Леонардо да Винчи, явленного в его пластических образах, этот метод активно использовался Волынским для толкования образов персонажей Достоевского и выявления скрытых интенций автора. Тщательно изучая подробнейшим образом выписанные великим писателем портреты его героев, Волынский рассматривает их как символический шифр, ключ к их характерам, духовной жизни и знаки будущих перипетий в их судьбах; он предлагает вникать во все мельчайшие детали пластического изображения героев, сопоставлять между собою отдельные, разрозненные штрихи, чтобы выявить скрытые интенции автора. Анализируется связанная с герменевтикой телесности Волынского концепция бессознательного, альтернативная фрейдистской. Если психоанализ изучает по внешним симптомам вытесненные в бессознательное влечения примитивного характера, то Волынский, дешифруя анатомические особенности, жесты, позы, повадки, элементы одежды персонажей Достоевского, диагностирует господствующие над ними болезни высшего сознания (интеллекта, духа). Показан новаторский характер метода Волынского, позволяющий проникнуть в художественную ткань романов Достоевского, описать, с одной стороны, психологические особенности и личностные черты его героев, а с другой - их убеждения, ценности и жизненные стремления. Анализ истоков метода Волынского позволил выдвинуть гипотезу о генетической связи его концепции с философией Спинозы, соединяющей феномен мышления с реальной деятельностью мыслящего тела. Автор полагает, что предложенное Спинозой решение проблемы дуализма материальной и духовной субстанций сыграло важную роль в становлении герменевтики телесности Волынского. Согласно Спинозе, протяжение и мышление являются модусами одной субстанции и между ними существует взаимнооднозначное соответствие. Применяя этот подход к концепции художественной критики, Волынский рассматривал материю, телесность как ключ к духу, а дух - как ключ к материи. Свое развитие герменевтика телесности Волынского получила в его философии танца.
История философии, русская философия, серебряный век, телесность, герменевтика, аким волынский, достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/149145696
IDR: 149145696 | УДК: 101.9 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.1.1
Текст научной статьи Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского
DOI:
Citation. Matveychev O.А. The Dostoevsky Code. Hermeneutics of Corporeality by Akim Volynsky. Logos et Praxis, 2024, vol. 23, no. 1, pp. 5-13. (in Russian). DOI:
Цитирование. Матвейчев О. А. Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 1. – С. 5–13. – DOI:
В 1896 г. известный на всю столицу литературный критик, редактор журнала «Северный вестник» А.Л. Волынский совершает первую в своей жизни заграничную поездку. В компании четы Мережковских он отправляется в европейскую экспедицию по маршрутам Леонардо да Винчи. Инициатором вояжа был Д.С. Мережковский, готовящий материал для романа об итальянском гении – второго из трилогии «Христос и Антихрист». Волынский ехал в статусе друга семьи – с Мережковским он познакомился еще в годы студенчества, в 1887 или 1888 г., а после женитьбы Дмитрия Сергеевича (1888) стал в его доме частым гостем и даже завел роман с его только что обретенной женой З.Н. Гиппиус, о чем с большим удовольствием судачил весь литературный Петербург. Кажется, об этой порочной связи не знал лишь один Мережковский, являвший собой, если уж называть вещи своими именами, «классический образец водевильного мужа-рогоносца» [Зобнин 2008, 140].
По плану Мережковского, вояжеры должны были посетить Флоренцию и Милан, а далее – воспроизвести путь Леонардо, сопровождавшего Франциска I – от Фаэнци через Римини, Равенну, Мантую и т. д. до замка Амбуаз, места смерти художника. В отличие от своего однокашника, страстно увлеченного сбором материала для книги, Волынский всю поездку чувствовал себя как на гвоздях, тяготясь своим двусмысленным положением и желая, чтобы его возлюбленная, наконец, объяснилась с мужем. Итальянские древности его особо не трогали, в том числе и потому, что искусствоведение в то время пока не входило в круг его интересов и, по едкому замечанию Гиппиус, он даже еще не умел «отличать статую от картины» [Гиппиус 2012, 527–528]).
В середине путешествия Волынский не выдержал и устроил Мережковским сцену, после чего уехал в Петербург. Роман с Гиппиус пережил еще несколько рецидивов (поэтесса даже уходила от мужа к Волынскому в его меблированные комнаты в гостинице «Пале-Рояль» на Пушкинской; в ней, к слову, находилась и редакция «Северного вестника») и бесславно закончился. Волынский отомстил другу-сопернику, уволив его из «Северного вестника» и отказавшись печатать его роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи». Вместо этого он опубликовал в своем журнале спешно подготовленную серию собственных статей об итальянском гении, а в 1900 г. выпустил их отдельным изданием.
Книгу эту Волынский писал летом 1897 г. в Баварских Альпах – в гостях у Лу Андреас-Саломе, ближайшей подруги и свидетеля жизни Ф. Ницше. В это же время в ее доме проживал и молодой поэт Р.М. Рильке, без памяти в нее влюбленный. Именно он стал прототипом опекаемого Старым Энтузиастом Юноши в исследовании Волынского о Леонардо (сама книга представляет собой в основном цикл художественных диалогов о прекрасном между лирическим героем автора и его случайным знакомым, эксцентричным эрудитом, знатоком истории и искусства – собственно, Старым Энтузиастом).
Тяжелый характер Волынского, а возможно, и ревность к Рильке, не позволил ему продлить завязавшиеся было отношения с немецкой писательницей. Видимо, в отместку он обрисовал ее в книге о да Винчи как некую молодую обворожительную особу, в которую угораздило влюбиться Юноше – любовью, «которая более похожа на ядовитую болезнь»: тот «ошибочно принял явное душевное разложение, без внутренней красоты, без святости, без мягкой и человечной правды, которая одна не банальна, за смелую новую свободу» [Волынс- кий 1909, 213]. В этой коварной женщине, по повадкам явно ницшеанке «с болезненными ощущениями современной эпохи», Старый Энтузиаст узнал демонические черты леонардовой Джоконды [Волынский 1909, 214].
В книге о Леонардо да Винчи Волынский апробировал свой новый метод интерпретации художественных произведений путем дешифровки языка пластики, поз, мимики, который станет его визитной карточкой и впоследствии будет развит в философию танца. Этот метод Волынский использует для выявления скрытых интенций художника.
Давно подмечено, например, что прославленная «Джоконда» Леонардо – совсем не то, чем кажется. Чтобы разгадать загадку Моны Лизы, Волынский «сканирует» ее портрет буквально миллиметр за миллиметром, не упуская ни одной, даже самой, казалось бы, незначительной детали: ни тончайших лиловатых жилок на веках, ни пульсирующих вен на шее, ни отсутствия бровей над глазами.
Ее склонность прикрывать уши волосами, необычные очертания ноздрей с тонкими нервными крыльями, особая форма пальцев («они кажутся не природно-аристократическими, а выхоленными») говорят о преимущественном развитии у нее обоняния и осязания – чувств неблагородных, примитивных, о склонности к эгоистическим тактильным удовольствиям и неспособности к состраданию («чтобы сострадать, нужно отчетливо видеть и чутко слышать»). «Все лицо, в общем, при его интеллигентности, изысканных ощущениях в области обоняния и признаках болезненного разложения, отдает бессилием темперамента и нравственным безволием» [Волынский 1909, 138].
Сама знаменитая улыбка Моны Лизы, несколько сотен лет будоражащая фантазию зрителей, интерпретируется критиком как знак ее душевного бессилия, нравственной глухоты, внутренней смуты. В ней нет ни веселости, ни жизнерадостности. «Это неподвижная гримаса, неприятная, раздражающая, придающая всему лицу Джоконды, при его общей некрасивости, оттенок какого-то особенного уродства, невиданного в искусстве ни до, ни после Леонардо да Винчи. Улыбка Джоконды кажется загадочной только потому, что она не может быть объяснена ни одним из понятных нам божественно-человечных чувств»
[Волынский 1909, 144]. Известно, что улыбаться натурщицу Леонардо заставлял с помощью специально нанятых шутов и музыкантов – обыкновенное ее выражение лица его не устраивало. Но в таком случае это уже не портрет – это эксперимент над человеческой душой, а вернее сказать, насилие над натурой (Волынский неспроста называет да Винчи предшественником Фрэнсиса Бэкона), зашифрованное послание к тем, кто окажется способным разгадать секретный код Леонардо.
Анализ символического языка Леонардо, явленного в его пластических образах, приводит Волынского к выводу о темной, языческой природе «кудеснического» искусства да Винчи, не вдохновленного божественным началом, а значит, ложного и безблагодатного. В лице величайшего художника итальянского Чинквечен-то Волынский критикует современное ему декадентство с его культом Ренессанса и его вождя-вдохновителя Ницше, распространяющего и после смерти «ядовитое веяние, холодное веяние, от которого чахнут побеги молодой жизни. Это то же веяние, которое владело могучею душою Леонардо да Винчи. Оно создало теперь тысячи маленьких, болезненных, чахоточных Джоконд, которыми гипнотизируются неокрепшие птенцы» [Волынский 1909, 152].
В последнем пассаже опять-таки очевидны намеки на отношения Саломе и Рильке, никак не дающие Волынскому покоя. Критик, казалось, вел с ней бесконечный внутренний диалог, который вскоре стал находить воплощение на страницах его журнала.
Так, первая его работа о Ф.М. Достоевском – «В купе» («Северный вестник», 1897, № 9) стала, по сути, продолжением долгих летних бесед Волынского с Саломе о русской литературе. Очерк был выстроен в уже испытанном литературным критиком жанре диалога, который на этот раз идет между двумя путешественниками – немцем, обвиняющим Достоевского в рахитизме духа и пиетете перед традиционной моралью и «устаревшими преданиями» («он гениально раскрыл картину освобождающейся личности, признав за нею право на преступление, но дальше он не пошел» [Волынский 2007, 79]), и молодым русским, требовавшем понимать Достоевского из того факта, что в душе писателя «боролись все противоречия: Бог и мир» [Волынс- кий 2007, 82]. В нигилисте-немце угадывалась ницшеанка Лу Андреас-Саломе.
Рассуждения о Раскольникове получили продолжение в опубликованном в следующем номере «Северного вестника» (1897, № 10) эссе под названием «У Палкина». Действие разворачивается в одноименном ресторане; рассказчик оказывается невольным свидетелем обсуждения очерка «В купе» двумя посетителями – молодым и средних лет. Последний (его зовут Василий Михайлович), опровергая тезисы своего визави, как пить дать ницшеанца, делится важным наблюдением: Раскольников покаялся в преступлении, сам не зная для чего . «Он покаялся невольно, бессознательно, по наитию внутренних импульсов....Это настоящее, важное покаяние: сознание могло бы опять измениться, ухватиться за какую-нибудь новую ошибочную идею, но бессознательная душа его, оставаясь все время неизменною, не могла иначе излечить Раскольникова. Она знала, для чего и почему ему нужно было принять на себя страдание. Она толкала его, против его сознательной воли, к освобождению и возрождению» [Волынский 2007, 86].
Концепция бессознательного, родившаяся у Волынского в полемике с ницшеанцами, никак не была связана с фрейдистской: Лу Саломе сойдется с З. Фрейдом лишь в 1911 г., и о его первых разработках этой темы, пришедшихся как раз на середину 1890-х гг., рассказать своему петербургскому приятелю в ту пору она еще не могла. Содержательно же концепции Волынского и Фрейда различались диаметрально. По верному замечанию израильского филолога Е.Д. Толстой, «если у Фрейда бессознательное станет средоточием до-человеческих и доморальных психических сил, то у Волынского именно бессознательное ориентировано по оси добра и зла и тем самым связывает человека с Богом. Иначе говоря, он в бессознательное поместил не черта, как это будет у Фрейда, – а Бога, как потом сделает Юнг» [Толстая 2013, 270–271].
Устами своего героя Василия Михайловича Волынский показывает, как борьба бессознательной души Раскольникова и его сознания воплощается на уровне его тела. «Раскольников вынимает топор, взмахивает им обеими руками и почти машинально, без усилия опускает его на голову старухе обухом. Помните, Достоевский говорит: “Силы его тут как бы не было”. Это чрезвычайно важно. Раскольников убивает эту несчастную регистраторшу, опираясь только на свое сознание, во имя сознательной мысли. Весь его дух в этом не участвует, и вот почему в действиях его нет ни силы, ни уверенности. Он ударяет старуху машинально, именно так, как это бывает в гипнозе, когда внимание сосредоточено на одном предмете, а душа бездействует. “Но как только он раз опустил топор, – говорит Достоевский, – тут и родилась в нем сила”. Совершенно понятно, удивительная точность в изображении именно такого, идейного убийства, при бездействии бессознательных инстинктов и препятствиях нежного, чуткого сердца. За первым ударом в теле его развивается грубая сила, ряд рефлексов, которые заставляют его докончить начатое дело. Духа в этой работе нет, и она совершается по механическим законам. Инстинкты не помогают Раскольникову, потому что этих, разрушительных, инстинктов нет в его натуре. Дальнейшие его действия становятся бестолковыми, беспорядочными. Им овладевает рассеянность и задумчивость....В действиях Раскольникова можно заметить постоянную борьбу бессильного сознания с всесильною бессознательною душою. Эта душа и не позволяет ему сделаться Наполеоном, не позволяет ему озлиться до конца, как он сам великолепно выражается, делает ничтожными все его демонические мечты и его презрение к человеческому обществу» [Волынский 2007, 88].
На телесном уровне проявляется разлад между уровнями психики и у других героев Достоевского. Волынский «регистрирует такие странности поведения, как гипнотические или даже каталептические состояния, случайные движения и слова, неконтактность, телесную и сексуальную слабость, и в зависимости от соответствующих симптомов ставит диагноз “болезни”: это бессознательная сфера выходит из подчинения разуму. Если Фрейд обнаруживает по внешним симптомам загнившие в бессознательном реликты вовремя не изжитых примитивных стадий, то Волынский по таким симптомам диагностирует болезни высшего сознания (интеллекта, духа), которому не подчиняется тело героя, его инстинкты, его нервная система – его душа» [Толстая 2013, 272–273].
Так томится перед отъездом в Чермаш-ню, не находя себе места, Иван Карамазов:
невпопад смеется, двигается «точно судорогой» и вообще ведет себя, как лунатик. А просто ему, объясняет Волынский, не на что опереться внутри себя, он не владеет собой, его сознание болезненно бодрствует, растревоженное гнусными намеками Смердякова и собственными навязчивыми мыслями, а душа – бездействует.
Так впадает в оцепенение Николай Ставрогин во время восьмидневного затворничества, едва реагируя на визиты Верховенского и матушки Варвары Петровны. «При поверхностном чтении этой страницы кажется, что Ставрогин просто спит, но, присмотревшись к художественным намекам Достоевского, начинаешь понимать, что это какое-то особенное состояние. Он не спит, а думает – думает всем напряжением ума: вся кровь, вся жизнь сосредоточилась в мозгу его. Тело его как бы находится в летаргии. Это не тихий, отдохно-вительный сон, а истощающее мышление, столь характерное и знаменательное для Ставрогина вообще и особенно в данном периоде его личной эволюции. Он находится в моменте той умственной сосредоточенности, которая как бы отрывает человека от жизни: нервы ничего не воспринимают, органы соприкосновения с миром как бы закрыты, все засыпает в человеке, кроме его ума, кроме схематической беспредметной мысли. Таковы вообще свойства всякой чисто умственной деятельности, в отличие от работы человеческого духа, которая, овладевая всем существом человека, как бы заставляет биться все его нервы, делает их особенно чуткими ко всему окружающему, ко всему на свете» [Волынский 2007, 331].
По утверждению Е.Д. Толстой, Волынский «первым в русской литературе... увязал психику с телесностью, используя язык плоти как код для раскрытия душевных особенностей персонажа» [Толстая 2013, 623–624]. Критик тщательно изучает подробнейшим образом выписанные Достоевским портреты князя Мышкина, Парфёна Рогожина, Настасьи Филиповны, Ставрогина, всех, сколько их ни есть, Карамазовых, Грушеньки Светловой, их анатомические особенности, жесты, позы, повадки, элементы одежды. Он рассматривает их как символический шифр, ключ к их характерам, духовной жизни и знаки будущих перипе- тий в их судьбах, предлагает вникать во все мельчайшие детали пластического изображения героев, сопоставлять между собою отдельные, разрозненные штрихи, чтобы «уловить ту мысль, которая оживляла творческую работу Достоевского» при создании образов его персонажей [Волынский 2007, 328–329].
Вот, например, портрет Рогожина – в нем важна каждая деталь. Черные волосы (в противоположность белокурым волосам Мышкина) говорят о его яркой индивидуальности, «замкнутой для широкой мировой жизни». «Серые, маленькие, но огненные глаза» выражают суровое одиночество души: «подобно небольшим и редким окнам его дома, они как бы пропускают мало световых и красочных впечатлений». Высокий и хорошо сформированный лоб, скрашивающий «неблагородно развитую нижнюю часть лица» указывает на «мощный природный ум, непреодолимый, упорный и ясный в применении к обычным обстоятельствам жизни, сектантстки суровый в вопросах внутреннего убеждения». Все эти детали портрета позволяют сразу почувствовать в Рогожине «личность, высоко стоящую над толпой» [Волынский 2007, 140].
А вот как точными, уверенными мазками Достоевский пишет портрет Грушеньки, наказанья семьи Карамазовых, «самого фантастического из фантастических созданий», обращая внимание читателя на «мягкие, неслышные даже движения тела, как бы тоже изнеженные, до какой-то особенной, слащавой выделки, как и голос ее», на ее неслышную крадущуюся походку, несколько выдающуюся вперед нижнюю челюсть, на ее губы – тонкую, злую верхнюю и – плотоядную, капризную, несколько припухлую нижнюю, на так волнующий Митю Карамазова особый изгиб тела, который «и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинце на левой ножке отозвался». «Материал, необходимый для живописного изображения Грушеньки – весь налицо, – пишет Волынский, – и притом – с волнующею яркостью, как это бывает только у Достоевского. В этом истинном волшебстве идеалистического искусства материя начинает говорить живым языком души, становится какою-то особенною речью понятных для человека идей, нарушает свое молчание, вырывается из своей немоты. Линии и краски ста- новятся как бы словами. Вот почему внешний облик Грушеньки как-то гипнотически приковывает к себе внимание: через этот облик говорит сфинкс, двойственность человеческой природы, единой только в своих метафизических глубинах. Разгадывая Грушеньку в ее тихой хищной красоте, мы открываем ее внутреннее демонское неистовство, ее сатанинскую злобу, которая дает ей крылья и для самообороны, и для страстных фантастических капризов. Мы проникаем в таинство борений добра и зла, Бога и красоты и начинаем созерцать загадочное соприкосновение земли и неба» [Волынский 2007, 156–157].
Метод Волынского оказался новаторским для своего времени, Достоевского до него так не изучали. Мы не берем в расчет утилитаристскую литературную критику 1860–80-х гг., но даже В.С. Соловьев подходил к творчеству Достоевского с прагматистских позиций: своей задачей он видел «осмысление отчужденной от художественного мира идеологии творчества Достоевского, абстрагируясь от конкретики произведений писателя». Напротив, Волынский «пристально вглядывался именно в художественную ткань его романов, выделяя и оценивая психологию и судьбы отдельной личности, героев с их идейными брожениями, поисками и обретениями....Художественная практика символистов от З.Н. Гиппиус до Блока была ориентирована на это определяющее духовное начало в художественном творчестве Достоевского, которое провозгласил Волынский» [Якубович 2000, 89]. Многими исследователями будет перенят и сам метод интерпретации художественных произведений через обращение к вопросам телесности, пластики, материальности.
Каким же образом Волынский пришел к этому методу? По мнению Е.Д. Толстой, в самых общих очертаниях концепция эта могла родиться в годы сотрудничества Волынского с Мережковским, на что указывает терминология, используемая последним в его интерпретациях двух столпов русской литературы: известно, что Л.Н. Толстого Мережковский характеризовал как «тайновидца плоти» – в отличие от Достоевского, «тайновидца духа» («один – стремящийся к одухотворению плоти; другой – к воплощению духа») [Мережковский 2000, 187]. В этих формулировках, считает Е.Д. Толстая, мо- жет содержаться след «вначале совместных увлечений» Мережковского и Волынского. Однако последний «рисует именно Достоевского тайновидцем плоти, блестяще дешифруя загадочные места его писаний именно как символизм тела» [Толстая 1993, 52].
По указанию В.А. Котельникова, зоркое внимание к плоти, приемлющей в себя семена «миров иных» и носящей в себе Έρως τής ιδέας и Έρως του Θεού, роднило концепцию Волынского с доктриной Мережковского и других сторонников «мистического материализма», однако в отличие от них Волынский «вовсе не предполагал “освящения плоти” с ее вожделениями и натуралистической эротикой, а видел в ее живых формах пластические символы личных состояний и сверхличных идей» [Котельников 2023, 155].
Очевидно, что истоки метода Волынского лежат в другом месте. По нашей гипотезе, их нужно искать в его давнем увлечении философией Спинозы. Изучать ее Волынский (урожденный Хаим Флексер) начал еще во время учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Его первая научная работа «Теолого-политическое учение Спинозы» (1885) посвящалась доказательству родства учения голландского философа с иудаизмом («Мы думаем, что связь свою с иудаизмом Спиноза увековечил в своей “Этике”, этом замечательном истолковании идеи единобожия. По духу монотеизма мир пребывает и всегда пребывал в Боге. Это монотеистическое начало есть также основной принцип пантеизма Спинозы» [Волынский 1885, 124–125]).
Опубликовав статью в еврейском ежемесячнике «Восход», автор впервые подписал ее псевдонимом Волынский. Этот труд Флексеру пообещали зачесть в качестве диссертации с тем, чтобы после выпуска он остался при кафедре государственного права, однако тот заявил, что видит себя не в науке, а в литературе.
Позднее Волынский практически не возвращался в своих текстах к философии Спинозы, однако начала ее были хорошо им усвоены и давали о себе знать на протяжении всей его творческой биографии.
Принципиально важным для будущей герменевтики телесности Волынского было решение Спинозой проблемы картезианского дуализма. В философии Декарта две образующие мир субстанции – мыслящая и протяженная (по отношению к человеку – душа и тело) полностью независимы друг от друга. Но если они не взаимодействуют, то может быть обеспечено единство мира?
Как же разрешить это противоречие? Как мы помним, у Декарта любая математическая задача может быть решена двояко: либо через систему уравнений, либо через поиск точки пересечения двух кривых, построенных в пространстве. То есть либо через алгебру – мысленным, вычислительным путем, либо через геометрию – пространство.
По Спинозе, это возможно, потому что бог – это одна субстанция, причина самой себя, единая сущность (здесь можно увидеть отражение иудейского принципа монизма, единобожия). А протяжение и мышление являются модусами одной субстанции, и между ними существует взаимнооднозначное соответствие. Или, как гласит знаменитая формула Спинозы, «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей, и наоборот, порядок и связь вещей те же, что и порядок и связь идей» [Спиноза 1999, 455]. По словам выдающегося советского философа Эвальда Ильенкова, «спинозизм... связывает феномен мышления вообще с реальной деятельностью мыслящего тела (а не с понятием бестелесной души), и в этом мыслящем теле предполагает активность – и опять-таки вполне телесную» [Ильенков 1990, 70]. Применительно к концепции художественной критики Волынского это означает: ключ к духу – материя, телесность, и наоборот, ключ к материи – дух.
Очевидно, что сам Волынский до известной степени отождествлял себя со Спинозой – одиночкой, изгоем, обвиненным в ереси и изгнанным из иудейской общины Амстердама, но не отрекшимся от веры своих отцов. Он явно восхищался образом голландского мыслителя, и это видно из его слов: «Из своего небольшого и бедного рабочего кабинета Спиноза видел мир во всей его бесконечности. В этом худом и физически непрочном человеке таилась такая творческая энергия, такая мощь понимания, пред которой отступали все затруднения научной мысли и как бы рассеивались все загадки мироздания» [Волынский 1892, 141].
Увлечение Волынского творчеством Достоевского продлится около десяти лет. В силу ряда причин, в том числе интриг бывших коллег и соратников, он будет отлучен от литературной критики. Однако к герменевтике телесности он продолжит обращаться на протяжении еще многих лет. Свой метод он разовьет в своей философии танца, которую начнет разрабатывать уже в своих первых статьях на новом поприще балетного критика.
Внезапное увлечение Волынским танцем стало не только его новой профессией, но и предметом академического интереса. Он сам брал уроки балета, чтобы телесно, на собственном опыте изучить особенности этого пластического искусства. Деятельность на этом поприще Волынский продолжил и после революции, в которой он увидел своего рода аполлони-ческий ответ на едва не уничтожившее русскую культуру и общество декадентство. Сам Аполлон с его священной пляской воспринимался им как бог революции. В обновленном балете Волынский видел эффективный инструмент «для поднятия сил социального организма страны», арену и школу воинственного героического духа. Советский балет, по мысли критика, должен вернуться к античным корням, и именно на его основе должен со временем осуществиться синтез искусств. Возглавляя Государственный хореографический техникум, Волынский готовит масштабную реформу русской балетной школы: составляет новаторские учебные программы, пишет учебник балета в форме искусствоведческой поэмы – «Книгу ликований» (1925), где развивает свою оригинальную философию танца, телесности, пластики, основанную на спинозистских началах.
Список литературы Код Достоевского. Герменевтика телесности Акима Волынского
- Волынский 1885 – Волынский А.Л. Теолого-политическое учение Спинозы // Восход. 1885. № 10. С. 114–136.
- Волынский 1892 – Волынский А.Л. Литературные заметки. Два сочинения о Спинозе // Северный вестник. 1892. № 3. С. 136–154.
- Волынский 1909 – Волынский А.Л. Леонардо да Винчи. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1909.
- Волынский 2007 – Волынский А.Л. Достоевский. СПб.: Академ. проект, 2007.
- Гиппиус 2012 – Гиппиус З.Н. «Интуристы» у фашистов // Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 13. У нас в Париже: Литературная и политическая публицистика 1928–1939 гг. Воспоминания. Портреты. М.: Дмитрий Сечин, 2012. С. 527–534.
- Зобнин 2008 – Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский. Жизнь и деяния. М.: Мол. гвардия, 2008.
- Ильенков 1990 – Ильенков Э.В. Свобода воли // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 69–75.
- Котельников 2023 – Котельников В.А. Русский Агасфер. Аким Волынский как мыслитель и критик культуры. СПб.: Владимир Даль, 2023.
- Мережковский 2000 – Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000.
- Спиноза 1999 – Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения в двух томах. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. С. 251-478.
- Толстая 1993 – Толстая Е.Д. «Вдохновенный дидакт» и «симпатичный талант». Аким Волынский о Чехове // De Visu. 1993. № 8 (9). С. 50–64.
- Толстая 2013 – Толстая Е.Д. Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2013.
- Якубович 2000 – Якубович И.Д. Достоевский в религиозно-философских и эстетических воззрениях А. Волынского // Достоевский. Материалы и исследования. В 23 т. Т. 15. СПб.: Наука, 2000. С. 67–89.