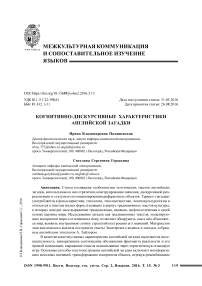Когнитивно-дискурсивные характеристики английской загадки
Автор: Палашевская Ирина Владимировна, Горыкина Светлана Сергеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям поэтических текстов английских загадок, используемым в них стратегиях конструирования значения, дискурсивной репрезентации и статусного позиционирования референтных объектов. Термин «загадка» употребляется в фольклористике, этнологии, этнолингвистике, лингвокультурологии и относится к текстам малых форм, входящих в корпус традиционных текстов культуры, в которых находит свое выражение традиционная, наивная, мифопоэтическая в своей основе картина мира. Исследование загадок как традиционных текстов, моделирующих восприятие мира и отношения к нему, позволяет обнаружить, как в них объясняется мир, выявить внутреннюю логику стратегий построения его значений. Материалом лингвистического анализа послужили тексты Эксетерского кодекса и загадки, собранные английским этнологом А. Тайлором. В качестве конститутивных характеристик английской загадки выделяются иносказательность, императивное соотношение обозначения фрагмента реальности и его прямой номинации, выражение смысла высказывания через эвристическую языковую игру. Основные способы текстопостроения английской загадки включают метафоризацию исходных значений, трансформацию восприятия объекта, игровую рекомбинацию его признаков, игровое замещение его узуальных обозначений нестандартными, вариативную субъектно-объектную репрезентацию реальности (инверсивные и неинверсивные загадки). В статье разграничиваются повествовательные и описательные загадки, композиционно-сюжетные разновидности текстопостроения загадок, анализируется синтагматическая организованность их сюжетных элементов.
Английская загадка, метафора, мифопоэтический символизм, эмблематическая загадка, нарратив, описание
Короткий адрес: https://sciup.org/14970294
IDR: 14970294 | УДК: 811.111’42:398.61 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.3.13
Текст научной статьи Когнитивно-дискурсивные характеристики английской загадки
DOI:
Загадки представляют собой неотъемлемую часть культуры народа – культуро-мар-кированные тексты, подчеркивающие и выражающие ее самобытность – то, как и каким тот или иной этнос воспринимает мир. В фокусе нашего внимания не столько особенности предметного мира, сколько способы его кодирования, стратегии конструирования его значения и дискурсивной репрезентации. Английские загадки связаны с намеками, языковой игрой, недосказанностью, высокой степенью имплицитности, завуалированности смысла высказывания как специфическими характеристиками английского общения. Эти важнейшие особенности английского стиля коммуникации (подробнее о них см.: [4]) объясняют популярность данного жанра в Англии.
Притягательность загадки для исследователей этнокультуры обусловлена рядом когнитивно-дискурсивных особенностей данного жанра, который вбирает в себя различные когнитивные стратегии (метафоризацию, сравнение, совмещение / контрастирование, описание, инверсию статуса объекта и т. п.), с помощью которых одни концептуальные структуры интерпретируются (маскируются) при помощи других. Эти стратегии и их сочетания направлены на создание особых ментальных пространств, миров семантических сближений, аналогий и противопоставлений. В них совмещается ожидаемое и неожиданное (парадоксальное), реальное и вымышленное, буквальное и фигуративное, серьезное и комичное, выражая определенное эмоциональное отношение к миру. Загадка с данных позиций рассматривается как «прототипный жанр искусства» [9], поэтика «остраненной» репрезентации вещей. Цель искусства, как отмечает В.Б. Шкловский, – дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемами искусства являются прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия. «Остране-ние», по В.Б. Шкловскому, – основа и единственный смысл всех загадок. Загадка ориентирована на восприятие чего-то известного, хорошо знакомого в новом, неожиданном, отражающем его суть облике, – восприятие по-новому. «Остранение», таким образом, делает хорошо знакомое странным. Эффект странности достигается посредством ряда специфических для этого жанра способов [9].
Во-первых, английская загадка изначально возникает как мифопоэтическое высказывание, в основе которого лежат гносеологические операции сравнения и отождествления, способность соотносить явления из разных областей, интерпретировать одно через другое. Древние английские загадки манипулируют эпитетами, сравнениями, метафорами, символами, формируя определенный взгляд на мир и представляя собой способы образной экспликации концептуального содержания культурного сознания изобразительными средствами языка. Национальную культуру отличают специфические языковые образы. В древних английских загадках море ( sea ) – путь лебедя или кита ( swan’s road, the whale’s path ); соловей ( nightingale ) – искусный вечерний (ночной) певец ( eald aefensceop – great evening singer, bard ), поэт, который, исполняя свои буффонады ( scêawendwîse – buffoon’s song ), больше импровизирует, нежели действует по сценарию (др.-англ. nihtegale – тот, кто поет – sings ( galan ) в ночи – in the night ( niht ), a night ( niht ) singer ( gale ), a niht-gale , nihtegale ); ведро ( waterbucket ) – уставший слуга ( sleep-weary servant ); грабли ( rake ) – клыкастый зверь ( toothy beast ); золото ( gold ) – яркий чеканный король ( bright-cloaked, hammered king ); луна – существо, несущее украденное светило между рогами ( a wonderful creature carrying light plunder between its horns ); лук
( arrow ) – боевая змея ( battle-snake ); корабль ( ship ) – конь морской ( sea-horse ). Чтобы составлять загадки, как отметил английский этнограф Э.Б. Тайлор [12, p. 90], необходимо хорошо владеть способностью отвлеченного сравнения; кроме того, нужен значительный запас знаний, чтобы этот процесс стал общедоступным и из серьезного занятия перешел в игру («sport»). На более поздних стадиях развития культуры загадка сохраняется в основном для детской игры, в которую играют и взрослые. Однако нетрудно заметить, что многие из более поздних и современных английских загадок строятся на сравнении двух объектов, замене одного объекта другим, соединении двух объектов в одном, то есть приемах мифопоэтического символизма. В них дни недели – братья ( Seven brothers : five work all day ; / The other two just play and pray ), дождь – множество падающих нитей, исчезающих в реке ( A thousand threads , / Ten thousand threads , / They fall into the river / And are never seen again ), месяц ( а young moon ) – рога скрытого от нас животного, гордо плывущего на облаке по небу ( Two little golden horns are sitting on a cloud , / Floating slowly in the sky , looking very proud ).
Во-вторых, во многих английских загадках мир показан глазами вещей, он как бы пропущен через их сознание. В таких загадках, называемых «projective riddles» (проективными), говорящие вещи, загадочные существа рассказывают об обстоятельствах, в которых они оказываются, о своих свойствах и назначениях: In my belly is a black wonder – ‘Внутри меня черное сокровище’ (о чернильнице); My dress is silver – ‘Мое платье – серебро’ (о кубке для вина). Они завершают свои высказывания речевыми формулами: Say what I am called; Say who I am – ‘Скажи, кто я’; ‘Скажи имя мое’: Find what I am called, useful to men. My name is famous and holy in itself – ‘Угадай, что я такое, нужное людям. Знатно имя мое и свято’ (о книге). Эти формулы-обрамления раскрывают перформативную функцию загадок, позволяют рассматривать энигматический текст как действие, побуждающее к ответному действию – реакции в виде отгадки, к игре с загадочным существом. В загадках данного типа вещь говорит с человеком ин- версивно – «его собственным адресно-перевернутым языком» [7, с. 15].
В-третьих, обыкновенные, хорошо знакомые человеку предметы репрезентируются с совершенно неожиданных ракурсов и в неожиданных положениях, с разных сторон. Загадки разрушают стереотипное, привычное зрительное восприятие и иллюстрируют трансформационную природу перцептивного образа, наподобие рисунков П. Пикассо, М. Эшера или Ф. Леже, за счет перцептивного расширения, продления или смещения перспективы репрезентируемых загадками объектов, сцен. Такого рода репрезентация связана с возможностями воображения и изобразительных средств языка.
Выделяются загадки, в которых реальность сообщается объекту его описанием. Оно становится средством управления воображением. Образ разбивается на отдельные элементы, в которых выискиваются выразительные подробности и компонуются в его описание. Описание выполняет функцию идентификации и одновременно кодирования референтной составляющей высказывания, заключается в фигуративной характеристике или наименовании загадываемого объекта. Смысл описания как отображения составных частей или свойств объекта заключается в его соответствии загадываемому объекту, увиденному в новом, необычном свете: There was a green house. Inside the green house there was a white house. Inside the white house there was a red house. Inside the red house there were lots of babies (I, p. 916) – ‘Был зеленый дом. В нем белый дом. В белом доме красный дом. В красном доме – много деток’ (об арбузе) . Помимо фигуративного описания (арбуз – необычный дом из домов, «дом-матрешка», семечки – «маленькие дети»), загадка использует углубление «зрительской перспективы»: мы входим сначала в один дом, проходим через него в другой и т. д.
Описания могут представлять собой схематичные наброски, условное обозначение объекта посредством его буквального сравнения с другими объектами: I am within as white as snow, / Without as green as herbs that grow; / I am higher than a house, / And yet am lesser than a mouse (Walnut on a tree) (IV) – ‘Внутри я бел как снег, / Снаружи зелен как трава, / Я выше дома, / И все же меньше мышки’ (о грецком орехе). Загадка строится на метонимическом переключении описаний двух объектов – плода и орехового дерева.
Во многих английских загадках наблюдается преодоление статичности портретов загадочных существ, создание деконцентри-рованного динамического описания, предполагающего репрезентацию совокупности локальных признаков, которые раскрывают функциональное назначение объекта, а также особенности его поведения в определенных обстоятельствах: Old Mother Twitchett had but one eye , / And a long tail which she let fly ; / And every time she went over a gap , / She left a bit of her tail in a trap ( needle and thread ) (III, p. 66). – ‘У бабушки Твитчетт был только один глаз и длинный хвост, который у нее развевался, и каждый раз, как она проходила над ямой, она оставляла часть своего хвоста в ловушке’ (об иголке с ниткой).
Выделяются загадки, в которых описания служат не только средством идентификации предмета, но и создают эффект повествования. Репрезентация деталей в них дополняется сценами военных действий или будничных дел, подробностями мира природы или повседневной жизни людей. Эти описания выступают как органический элемент различных действий, складывающихся в единую картину жизни загадочного существа. Такова, например, загадка 16 из Эксетерской книги:
Old English
Oft ic sceal wiþ wæge winnan / ond wiþ winde feohtan somod wið þam sæcce, / þonne ic secan gewite eorþan yþum þeaht ;/ me biþ se eþel fremde.
Ic beom strong þæs gewinnes, / gif ic stille weorþe; 5 gif me þæs tosæleð, / hi beoð swiþran þonne ic ond mec slitende / sona flymað, willað oþfergan / þæt ic friþian sceal.
Ic him þæt forstonde, / gif min steort þolað ond mec stiþne wiþ / stanas moton
-
10 fæste gehabban. / Frige hwæt ic hatte.
The Exeter Book Riddles, no. 16 (II).
Modern English
Often I must war with the waves, fight with the wind – strive with both at the same time – when I depart to seek the earth beneath the waters; to me my home is an alien place.
I am strong in the struggle if I hold still – if I slip, even slightly, they are stronger than I and, wrenching me loose, soon force me to flee; will carry away the thing I must keep safe.
I can avoid this so long as my tail endures, and the stones against my strength have power to keep firm. Guess what I’m called.
The Exeter Book Riddles, no. 16, trans. Gillian Spraggs (IV).
В тексте рассказывается о существе-скитальце, которое мечется по свету в поисках пристанища, обретения спокойствия и защищенности и вынуждено преодолевать различные препятствия, сражаясь с враждебными силами – с волнами (wiþ wæge), ветром (wiþ winde) (строка 1). Для него родная земля (eþel – ‘homeland’) – чужая, он буквально отчужден от родной земли (fremde – ‘foreign, alien, strange’; -ede [‘fremd’] – ‘estranged from, devoid of, remote from’) (строка 3). Примечательно, что герой загадки силен, когда недвижим (stille) (строка 4). Когда он движется, он вынужден сопротивляться силам, которые одолевают его и стремятся унести то, что он обязан (с чем «обвязан») оберегать (строка 7). Sce(a)l выражает долженствование – ‘I shall, must, I am bound to, ought to’; friþian – ‘to give ‘frið’ to, make peace with’ (заключать мир), ‘be at peace with’ (быть в ладу), ‘(±) cherish, protect, guard, defend, keep’ (хранить, защищать) (CASD). Ему нужна опора – камни, за которые можно держаться. У загадочного существа также есть хвост – steort (строка 8), который помогает ему быть стойким. Поэтический текст повествует о якоре (anchor) и относится к загадкам, которые можно назвать «эмблематическими». В них описания и действия трансформируются в символические, придавая загадке дополнительные скрытые смыслы. Как отмечают исследователи истории культуры (см., например: [1]), в многочисленных своих изображениях, относящихся к раннему христианству, якорь обнаруживает близкое родство с символами креста и трезубца, служит знаком стойкой веры. Верхняя его часть рассматривается как отображение человека, стоящего вертикально и вытянувшего руки вверх, к небу, по которому можно ориентироваться и найти верную до- рогу. Его основание, дуга – опора, знак материального мира, Земли. В загадках эмблематического типа изображаемые предметы имеют закрепленное за ними культурной традицией символическое значение. Язык символов превращает загадку в зашифрованное сообщение, которое может истолковываться и как образное изображение конкретного предмета (в данном случае – якоря), и как религиозноэтическое, в зависимости от кодовой установки адресата.
Загадки-описания условно противопоставляются загадкам-повествованиям, или нарративам. Нарративы (от лат. narrare – рассказывать) традиционно рассматриваются как событийные, сюжетные структуры, развивающиеся во времени и репрезентирующие поступки своих героев, преодолевающих различные препятствия на пути к своим целям. Нарратив заключает в себе природность в процессуальном виде. «Сама природа рассказывания состоит в том, что текст строится синтагматически, то есть соединением отдельных сегментов во временной (линейной) последовательности» [5, с. 159]. В английских загадках жизнь того или иного загадочного существа предстает как уникальный нарратив, в котором развертывание действия подчинено процессу ее линейного развития. В качестве примера можно привести загадку 7 из Эксетерской книги: I was an orphan before I was born / Cast without breath by both parents / Into a world of brittle death, I found / The comfort of kin in a mother not mine (VI, p. 165). Некое существо (птенец кукушки) рассказывает о том, как осиротел еще до своего рождения, был брошен родителями (буквально без дыхания, не научившись дышать, то есть в яйце) и стал родным для чужой матери.
В теории повествования нарратив рассматривается как уровневая событийная структура: «Перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как произведение в его событийной полноте» [2, с. 403–404]. Под референтным событием (событием, о котором рассказывается) понимается актуальное изменение некоторого состояния, положения дел (ситуации) [8, с. 52–86]. Мир постоянно претерпевает изменения. Выделяются тексты загадок, репрезентирующие события под названием «буря», «ветер», «восход солнца» и т. п. Эти тексты демонстрируют природные явления в ускоренном темпе, так что процесс изменений, обычно длительный в реальности, сжимается до череды мгновений. Эти изменения могут носить цикличный характер, как, например, в английской загадке о дереве: In spring I am gay, / In handsome array, / In summer more clothing I wear; / When colder it grows, / I fling off my clothes; / And in winter quite naked appear (I, 587) – ‘Весной мне весело в красивом наряде, / Летом на мне больше одежд, / Когда приходят холода, / Я сбрасываю свое платье, / И зимой предстаю обнаженной’. С позиции теории повествования полноценное событие подразумевает некоторую парадоксальность, противоречие «доксе», то есть общему мнению или ожиданию. Как отмечает В. Шмид [10, с. 18], в повествовании как «докса» выступает та последовательность действий, которая в нарративном мире ожидаема; эту «доксу» и нарушает событие. Наряду с парадоксальностью (непредсказуемостью) к признакам событийности В. Шмид относит релевантность изменений (в качестве конститутивного признака), а также однократность (неповторяе-мость), консекутивность, необратимость (в качестве второстепенных) [10, с. 17–19]. Не все изменения того или иного повествовательного произведения удовлетворяют указанным пяти критериям в равной мере. Но, как подчеркивает ученый, событийность – это свойство, подлежащее градации, то есть изображаемые в нарративном произведении изменения могут быть событийными в большей или меньшей степени. Несколько иной подход к определению события предлагает Р. Макки: «Событие – это часть истории, где происходит существенное изменение в жизни персонажа, которое выражается и воспринимается в соответствии с его ценностью» [6, с. 43]. «Ценности – универсальные свойства человеческих переживаний и опыта, которые в какой-то момент могут быть то позитивными, то негативными» [6, с. 42]. Событийно то, что обладает ценностной значимостью для героев истории. При этом нарратив также должен обладать определенной ценностной аттрактив-ностью для адресата, который осознает реальность события в процессе сопереживания. Примером события, которое отвечает всем выделенным признакам событийности, может служить происшествие, описанное в загадке 47 из Эксетерской книги:
Old English
Moððe word fræt / me þæt þuhte wrætlicu wyrd / þa ic þæt wundor gefrægn, þæt se wyrm for swealg / wera gied sumes, þeof in þystro , / þrymfæstne cwide ond þæs strangan staþol . /Stælgiest ne wæs wihte þy gleawra, / þe he þam wordum swealg.
Modern English
A moth ate words / That seemed to me strangely weird / when I heard this wonder that the worm swallowed / some man’s speech thief in the dark / glorious speech and its strong foundation. / the thief was not all wiser / that he swallowed the words.
The Exeter Book Riddles, no. 47 (II), trans. Scott Shay [11, p. 90].
Данная загадка представляет собой небольшой нарратив – повествование о событии, которое обозначается как wyrd (строка 2). Wyrd означает странное, необычное, неестественное – ‘odd’, но также ‘fate’, ‘lot’, ‘destiny’ – непостижимую силу, действием которой обусловлены события жизни. Слово wyrd созвучно word (‘speech, collection of words’). Поэтому это история о том, что произошло со словами, с высказыванием, о его странной судьбе. Странной, неестественной в том смысле, что написанное мудрецом постигла участь быть усвоенным существом, «ночным вором» (þeof in þystro), которое не стало от этого мудрее. Загадка строится на ме-тафоризации и предполагает два уровня понимания сюжета: первый уровень повествует о съедении манускрипта книжным червем, второй описывает, на наш взгляд, опыт неумелого чтеца. Корреляция этих уровней обеспечивается метафорой Reading is Ingestion. Процесс чтения сравнивается с процессом употребления, поглощения, усвоения пищи. Используемые в загадке слова предполагают двойное прочтение: sweаlg (строка 3) – ‘to swallow’ (проглатывать), но также ‘to take into the mind, accept, imbibe (wisdom)’ (осмысливать, впитывать мудрость); staþol (строка 5) – ‘foundation’ (букв. ‘основа’, на которую нанесены слова, манускрипт, и в то же время ‘знание’). Древнеанглийское Þystro, с одной стороны, означает темноту (darkness), с другой – невежество (ignorance).
Загадки-истории являются своего рода «малой драматургией». Законченная история предполагает присутствие небольшой действенной экспозиции, своих перипетий, кульминации и разрешения. Эти части могут быть «молниеносными», занимать всего по одной фразе или слову. Так, в нижеследующей загадке экспозиция представлена образным именем действующего лица. Но в даже самой маленькой загадке-истории присутствует своя экспозиция, переломный момент и финал:
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall, And all king’s horses and all king’s men Can’t put Humpty Dumpty together again.
An Egg
Хампти Дампти на стену взгромоздился, Хампти Дампти упал и разбился,
И все королевские кони, и вся королевская рать Не могут обратно Хампти Дампти собрать.
(I, p. 738)
В основе загадки – сюжет смертельного падения некого существа выпуклой формы: hump – ‘round raised pile of earth’ (пригорок, бугорок); ‘round projecting part on the back of a camel and some other creatures’ (верблюжий горб); dumpty (of a person) – ‘short and fat’ (маленький и пухлый). Нарративная структура усечена, в ней нет побуждающего происшествия. Мы не знаем, почему герой решается на действие, которое становится предпоследним событием истории и приводит к негативным последствиям. Кульминация должна быть наполнена смыслом, но о смысле падения можно только гадать. Развязка здесь используется с целью более ярко показать эффект кульминации, необратимости действия, его фатальности, а также для создания эффекта «медленного закрытия занавеса». Акцио-нальная последовательность включает три узловые сцены: взгромождения главного героя на стену, падения и тщетной попытки обратить событие – «собрать», вернуть героя в прежнее состояние. В текстах загадок драматическая структура, как правило, редуцирована, репрезентируемый момент не выступает звеном стадиально разворачивающегося конфликтного повествования. В данном случае, как и многих других, загадка использует форму истории для презентации качеств загадываемого объекта (его формы, хрупкости), по которым можно его идентифицировать.
Увязывание действий героев в единый событийный ряд происходит в соответствии с законами композиционного построения рассказа, расположения нарративного материала в определенном порядке. К базовым типам композиции в текстах английских загадок, используя терминологию М. Веллера [3], мы относим «прямоточную» (линейную), «точечную» (фрагментарную), а также многоточечную. В первом случае повествование представляет собой хронологически и каузально упорядоченный событийный ряд, в котором каждое новое действие обусловлено предыдущим. Во втором – в истории выделяется какой-либо фрагмент и заключается в рамку («кадр») различной крупности. В третьем – репрезентируется ряд отдельных, не связанных между собой фрагментов из жизни загадочного существа, совокупность которых перерастает в движение. «Точечная» история представляет собой картинку, сцену из жизни загадочного существа, в которой соблюдается триединство места, времени и действия (например, загадка 12 Эксетерской книги: Ox pulling a plough ). В многоточечной истории этого триединства не соблюдается, оно представляет собой несколько малых разрозненных штрихов (например, в загадке 20 Эксетерской книги о боевом соколе – Heoruswealwe ). И в той, и в другой историях, в отличие от прямоточной, кардинальных изменений не происходит.
В зависимости от статуса рассказчика повествование может быть прямым , производным и отвлеченным . В фонде древних английских загадок выделяются истории, рассказанные очевидцем ( I saw a creature... ) или слышавшим о происшедшем от других лиц
( I heard of a creature: “I have heard of something growing in the corner” ), то есть повествования из вторых рук ( производный рассказ ). Прямое повествование ведется: 1) субъективно от первого лица, являющегося очевидцем, – некий безымянный рассказчик говорит о том, что видел: Ic wiht geseah / in wera Burgum – I saw a creature in men’s dwellings, the one who feeds the herds ; 2) непосредственным участником события, представляет собой рассказ от лица главного героя: Ic wжs wжpenwiga. – I was an armed warrior (Я был воином). В отвлеченном повествовании (описании) нарратор не обнаруживает своего присутствия (оно свойственно более поздним загадкам).
В зависимости от статусного позиционирования загадочного существа – вещи можно выделить следующие стратегии построения загадки.
-
1. Вещь в загадке – объект действия, не имеет самостоятельного значения, а получает его от смысла повествуемого действия, с нею играют (неинверсивная загадка): As I was going across London Bridge , / I met my sister Sally . / I bit off her head and sucked her blood , / And left her body standing (I, 805u) – ‘На пути через London Bridge я повстречал свою сестру Салли. Я открутил ей голову, высосал ее кровь и оставил ее тело стоять’ (бутылка с вином) .
-
2. Вещь наделяется собственным значением и включается в мир читателя, слушателя загадки, выступая в качестве субъекта разыгрываемого ею действия, говорящего существа (инверсивная загадка). При этом вещь может рассказывать о себе как объекте действия других героев. Или о ней могут рассказывать как о наблюдаемом объекте разыгрываемого ею действия. Наример, загадка 34 ( Rake ) из Эксетерской книги:
Old English
Ic wiht geseah / in wera burgum seo þæt feoh fedeð . / Hafað fela toþa ; nebb biþ hyre æt nytte, / niþerweard gongeð, hiþeð holdlice / ond to ham tyhð,
-
5 wæþeð geond weallas, / wyrte seceð; aa heo þa findeð / þa þe fæst ne biþ ; læteð hio þa wlitigan , / wyrtum fæste, stille stondan / on staþolwonge , beorhte blican, / blowan ond growan .
Modern English
I saw a creature in men’s dwellings, the one who feeds the herds. It has many teeth; its nose is at use; downward it goes, plunders faithfully and proceeds towards home, 5 hunts through walls, seeks plants.
It always finds the ones that are not firmly rooted; it lets the beautiful ones, firm in their roots, stand still in their foundations, shine brightly, bloom and grow.
The Exeter Book Riddles, no. 34 (II), trans.
Corinne Dale (V)
Некто рассказывает о том, что видел в селеньях ( wera burgum ), как некое существо с множеством зубов ( hafað fela toþa ), которое скот кормит ( seo þæt feoh fedeð ) (строка 2), носом ( nebb ) к земле ( niþerweard «вниз») направляется к дому ( ham ) (строки 3–4), вороша траву, забирая слабую ( fæst ne biþ ) (строка 6) и сорную, оставляя красивую ( læteð hio þa wlitigan stille stondan on staþolwonge ) расти и цвести ( blowan ond growan ) (строка 7).
Таким образом, английская загадка представляет собой гибкий жанр, который: 1) использует приемы замены и отождествления объектов; 2) вбирает существующие дискурсивные типы репрезентации объектов (описание, повествование), стирая границы между ними (статичное описание и «точечное» повествование; динамическое описание – многоточечное и «прямоточное» повествование); 3) характеризуется вариативной синтагматической организованностью сюжетных и несюжетных элементов; 4) задействует различные презентационные нарративные стратегии (прямое, опосредованное, отвлеченное повествование / описание), а также стратегии позиционирования репрезентируемых объектов (субъект / объект).
Список литературы Когнитивно-дискурсивные характеристики английской загадки
- Бауэр, В. Энциклопедия символов/В. Бауэр, И. Дюмотц, С. Головин. -М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. -504 с.
- Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики/М. М. Бахтин. -М.: Худож. лит., 1975. -504 с.
- Ларина, Т. Англичане и русские. Язык, культура, коммуникация/Т. Ларина. -М.: Языки слав. культур, 2012. -358 с.
- Лотман, Ю. М. Диалог с экраном/Ю. М. Лотман, Ю. Г. Цивьян. -Таллинн: Александра, 1994. -215 с.
- Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только/Р. Макки. -5-е изд. -М.: Альпина нон-фикшн, 2013. -406 с.
- Соковнин, В. М. Что такое фасцинация/В. М. Соковнин. -Екатеринбург: Изд-во Авторской Академии фасцинологии, 2009. -56 с.
- Шабес, В. Я. Событие и текст/В. Я. Шабес. -М.: Высш. шк., 1989. -175 с.
- Шкловский, В. Б. О теории прозы/В. Б. Шкловский. -М.: Круг, 1925. -С. 7-20.
- Шмид, В. Нарратология/В. Шмид. -М.: Языки слав. культур, 2003. -312 с.
- Shay, S. The history of English: a linguistic intrоduction/S. Shay. -San Francisco, C A/Washington, DC: Wardja Press, A division of Wardja Ventures, LLC, 2008. -219 p.
- Tylor, E. B. Primitive Culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion language, art, and custom. In 2 vols. Vol. 1/B. Tylor. -L.: John Murray, Albemarle Street, W., 1920. -426 p.
- Веллер, М. И. Технология рассказа/М. И. Веллер. -М.: АСТ-Москва, 2006. -368 с.
- I -Taylor, A. English Riddles from Oral Tradition/A. Taylor. -Berkeley: University of California Press, 1951. -959 p.
- II -Online Corpus of Old English Poetry. -Compl. ed./еd. Murray McGillivray. -Electronic text data. -Mode of access: http://homepages.ucalgary.ca/~mmcgilli/OEPoetry/oepoems.htm. -Title from screen.
- III -Cousineau, Ph. Riddle me this: a world treasure of word puzzles, folk wisdom, and literary conundrum/Ph. Cousineau. -Berkeley, California: Conari Press, 1999. -184 p.
- IV -Riddle. -Electronic text data -Mode of access: http://www.vam.ac.uk/content/articles/f/riddle/. -Title from screen.
- V -The Riddle Ages. Modern English translations of the Old English riddles found in the Exeter Book. -Electronic data. -Mode of access: https://theriddleages.wordpress.com -Title from the screen.
- VI -Williamson, C. “Beowulf” and Other Old English Poems/C. Williamson. -University of Pennsylvania Press, 2011. -288 p.
- CASD -Clark Hall, J. R. A Concise Anglo-Saxon Dictionary/J. R. Clark Hall. -2nd ed., rev. and enl. -N. Y.: The Macmillan Company, 1916; Cambridge: Printed by John Clay, M.A. at the Univ. Press, 2009.