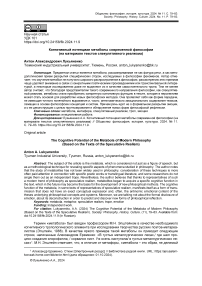Когнитивный потенциал метаболы современной философии (на материале текстов спекулятивного реализма)
Автор: Лукьяненко А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Предметом статьи является метабола, рассматриваемая не как фигура речи, а как методологический прием раскрытия специфических сторон, исследуемых в философии феноменов. Автор отмечает, что изучение метабол не получило широкого распространения в философии, рассмотрению этих приемов чаще уделяют внимание в связи с конкретными поэтическими произведениями или транслингвальной литературой, а некоторые исследователи даже не выделяют их в качестве самостоятельного тропа. Тем не менее автор считает, что благодаря представителям такого современного направления философии, как спекулятивный реализм, метаболы стали приобретать конкретную когнитивную функцию в тексте, которая в перспективе может стать основой для разработки новых философских методов. Она проявляет себя как форма передачи, не имеющая точного понятийного выражения и, часто, антиномического эмоционального содержания тезисов, лежащих в основе философских концепций и систем. Причем речь идет не о формальном раскрытии эмоции, а о ее деконструкции с целью прогнозирования и обнаружения новых форм философской рефлексии.
Метабола, метафора, спекулятивный реализм, троп, эмоция
Короткий адрес: https://sciup.org/149147067
IDR: 149147067 | УДК: 101 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.9
Текст научной статьи Когнитивный потенциал метаболы современной философии (на материале текстов спекулятивного реализма)
Термин «метабола» был введен профессором М.Н. Эпштейном в качестве необходимого когнитивного тропологического элемента при исследовании творчества русских поэтов-метареалистов (Эпштейн, 1988). В качестве яркого примера такой метаболы он приводит следующие строки, написанные Александром Еременко: «В густых металлургических лесах,/ где шел процесс создания хлорофилла, / сорвался лист. Уж осень наступила/ в густых металлургических ле-сах»1. М.Н. Эпштейн отмечает, что, в отличие от метафоры, «метабола – это образ, не делимый надвое, на прямое и переносное значение, на описанный предмет и привлеченное подобие, это образ двоящейся и вместе с тем единой реальности. Природа и завод превращаются друг в друга через лесообразные постройки, которые растут по собственным непостижимым законам, – техника имеет свою органику, и вместе они составляют одну реальность, в которой узнаваемо и жутко переплелись растительные и металлургические черты» (Эпштейн, 1988: 167).
Хотя данный термин введен еще во второй половине XX в., широкой концептуальной разработки он не получил. Подавляющее большинство ученых, затрагивающих проблематику метабол, рассматривают ее в рамках исследования поэзии и литературы, а изыскания, посвященные их общей семантической или когнитивной функции, малочисленны и носят ситуативный характер.
Среди исследований последних лет можно выделить статью А.А. Маслова о семантике метабол и транслингвальное исследование их роли в литературе, предпринятое С.М. Кравцовым, Т.Л. Черноситовой, С.В. Максимец. А.Е. Маслов говорит о том, что «в семантической структуре метаболы наблюдаются сдвиги в области смысла и референта, основанные на отношении взаимопричастности, синкретизма элементов механизма реализации метафоры» (Маслов, 2018: 125). Исследователь, таким образом, отмечает, что метабола является не самостоятельным тропом, а специфической модификацией метафоры и метонимии. С.М. Кравцов, Т.Л. Черноситова и С.В. Максимец придавали метаболе культурно-лингвистическое значение. На примере исследования французской литературы они сделали вывод о том, что «особенность метаболы франкоязычного транслингвального художественного текста есть проявление бикультурного статуса самого транслингвального автора, принадлежащего к двум или нескольким лингвокультурным мирам. Этим характеризуется созданный им многоязычный и многокультурный текст, содержащий определенные маркеры среды, проявляющиеся в языковом, культурном и социально-политическом контексте. Таким образом, в лингвосоциокультурной парадигме транслингвизма, транскуль-турализма и мультикультурализма метабола может рассматриваться как важный стилистический троп» (Кравцов и др., 2020: 87).
Можно заключить, что современные ученые рассматривают метаболу в качестве тропа, не очерчивающего точного семантического и смыслового поля, но интуитивно схватывающего логически противоречивые феномены реальности в синкретичное целое. Ключевая проблема в концептуализации метаболы заключается в вопросе интуитивности данного схватывания, то есть когнитивной функции рассматриваемого тропа в тексте. Однако есть основания полагать, что проблема концептуализации и определения когнитивной функции метаболы приобретает особую актуальность не столько для современной лингвистики, сколько для области философского анализа. В начале XXI в. произошло резкое увеличение чистоты и значимости применения метабол в соответствующих текстах (Муратова, 2013: 146). Связано это было с появлением новых направлений философии, которые условно обобщают терминами спекулятивный реализм или, шире, «темное» просвещение. Многие представители этих новых философских движений стали активно применять метаболы в качестве когнитивного средства получения доступа к познанию реальности.
Цель настоящей статьи – определить потенциал разработки концептуальных методов применения метабол в современной философии.
Первые интуитивные попытки реализации когнитивного потенциала метабол встречаются в работах философов, стоящих у истоков спекулятивного реализма или, как их зачастую именуют, «темного» просвещения. Возникновение метабол в работах философов этого сравнительно молодого направления обусловлено попыткой связать в единую методологию литературные, художественные и философские методы познания реальности. Один из мэтров спекулятивного реализма Г. Харман в статье «Ужас феноменологии: Лавкрафт и Гуссерль» отмечает, что «вопреки образу философии как синонима здравого смысла и архивной рассудительности я предложу в качестве единственной цели философии weird-реализм. Философия должна быть реалистической, поскольку ее задача – раскрывать структуру мира как он есть; она должна быть weird, потому что такова реальность. “Континентальную фантастику” и “континентальные ужасы” следует из оскорбительных прозвищ превратить в исследовательскую программу» (Харман, 2019: 179). Подобный проект неизбежно предполагает адаптацию литературных и тропологических приемов для целей философского строгого анализа. Хотя подобная попытка не является чем-то новым, достаточно вспомнить философский стиль Ф. Ницше, изобилующий тропологическими приемами. Применение самих метабол в философских текстах также не является чем-то уникальным и возникшим только в трудах спекулятивных реалистов. В качестве примера можно привести такое произведение, как «Анти-эдип: капитализм и шизофрения» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, текст которого изобилует не только разными тропологическими приемами, но и часто встречающимися среди них метаболами (Lez’er, 2019: 62). Но, на наш взгляд, анализ произведений философов, относящихся к спекулятивным реалистам, может позволить выявить и оценить перспективы новых тенденций в рамках тропологического проекта всей философской традиции.
-
У самого Г. Хармана можно обнаружить интересные эксперименты, которые могут внешне быть похожи на классические метафорические приемы, но, по существу, уже являются метаболами.
Например, метабола «искренность – конъюнкция», встречающаяся в работе Г. Хармана, посвященной концептуальной разработке его объектно-ориентированной онтологии (Харман, 2015: 119). Применение ее обусловлено не попыткой перенести признаки одного понятия или явления на другое, как в случае с метафорами, а стремлением придать конъюнктивному отношению между реальным и чувственным объектами эмоциональный окрас, оживить их, оторвав от механистического формализма логики предикат. Конъюнкция становится в философии Г. Хармана сама проявлением искреннего отношения между чувственными и реальными объектами, наделяя, таким образом, их живой интенциональностью, но не теряя при этом логической строгости.
Эта тенденция по использованию метабол была подхвачена многими современными учеными, причем они применяли их в том же контексте, то есть, не для синтеза признаков, субстанций или отношений, а для обозначения некоторой эмоциональной интенциональности. Наиболее яркие примеры применения метабол в современных философских текстах можно найти у таких авторов, как Б. Вударт, Ю. Такер, Э. Вивейруш де Кастру и в той или иной степени у большинства представителей спекулятивного реализма или «темного» просвещения. Метаболы в работах этих философов становятся не просто украшением или формой пафоса, но приобретают, в некотором смысле, метафизическое и, главное, методологическое значение.
Одной из базовых для философии Б. Вударта является метабола «жизнь – слизь». Он пишет: «В конце концов слизь – это и доказательство всеобщей связи, и намек на ее разрушение, свидетельство того, что случилось нечто весьма отвратительное, – гадкая штука под названием “жизнь”. Нечто такое, что будет заполнять пространство, пока космос не остынет настолько, что всякая новая связь станет невозможна. И тогда жизнь найдет свое завершение в океане гниения, который изольется в безграничную пустоту угасания» (Вударт, 2016: 106). На первый взгляд может показаться, что используется классическая метафора, в которой происходит перенос свойства «быть отвратительным» от слизи на жизнь. Однако Б. Вударт хочет утвердить полное отожествление реальных явлений слизи и жизни. Этой метаболой передается не просто утверждение об отвратительности жизни как слизи (учитывая, к тому же, что слизь не всегда ассоциируется с чем-то отвратительным), осуществляется попытка передать достаточно смутную эмоцию, возникающую при попытке представить все живое как динамично разливающуюся во Вселенной слизь. Применение метаболы обусловлено отсутствием понятийных логических средств для передачи именно этой эмоциональной интенции.
Изобилуют метаболами произведения Ю. Такера, в которых они приобретают практически методологическое значение. Одной из них становится метабола «философия – хоррор» (ужас). Исследователь пишет: «Если бы речь шла о методе, то он состоял бы в том, чтобы прочитать философские труды, как если бы они были сочинениями в жанре ужасов… И мы знаем, что многие классические произведения в жанре ужасов, начиная с По и Лавкрафта и заканчивая “новыми странными”, вызваны к жизни философскими идеями и широко используют приемы логических рассуждений в ходе повествования. Можно представить Декарта, этого некроманта по случаю, заключающим сомнительный контракт с демонами; или Канта, парящим [подобно призраку] над угрожающей бездной готического омута; или Ницше, упивающимся в эпоху fin-de-siede [конца века – φρ.] вымиранием видов и сопутствующим истощением вампирического мышления» (Такер, 2018: 21). Снова можно увидеть, что метабола направлена на раскрытие и деконструкцию эмоционального квалиа философии и произведений в жанре хоррор. Ю. Такер прямо указывает на то, что ряд используемых им приемов, которые можно идентифицировать как метаболы, раскрывает противоречивые эмоции, вызываемые теми или иными философскими концепциями в их синкретичном виде. Так, например, метабола «звездно-спекулятивный труп» используется Ю. Такером для раскрытия всей оптимистичности и одновременно скрытой депрессивности кантовской философской системы.
Интересной является специфика применения Ю. Такером метаболы «разум – демон». Он пишет: «Общепризнанно, что сократическая традиция в философствовании выполняет терапевтическую функцию, заключающуюся в том, чтобы развеять ужас перед неведомым с помощью обоснованных рассуждений. Эта традиция не в состоянии допустить, чтобы мир оказался непознаваемым или вообще не имеющим никакого отношения к нашим тщательно разработанным схемам его познания. “Размышления” Декарта начинаются и завершаются в том же духе. Но по ходу дела в философских построениях появляются провалы, трещины и лакуны. Благодаря злому демону Декарт сталкивается с внутренне присущим философии ужасом – с мыслью, что философия не может строить свои рассуждения, не подрывая и не аннулируя саму себя» (Такер, 2018: 11). Таким образом, Ю. Такер раскрывает смысл применения метаболы «разум – демон» в необходимости удержания противоречивой эмоции ужаса-умиротворения, даруемого классической метафизикой, в которой устойчивость положений, дающих спокойствие, происходит из ужаса безумности и неопределенности реальности.
-
Э. Вивейруш де Кастру в своих работах пытается показать, что антропология других культур, по существу, является зеркалом собственной европейской антропологии, раскрывающей себя в
метафизическом базисе философской традиции. Подобная установка выражается у него в форме метаболизации (превращения в метаболу ранее не имеющих отношения друг к другу понятий и феноменов) феномена каннибализма и метафизических деконструкций философов-постструктуралистов. Он пишет: «Антропология не располагает другой позицией, кроме той, что устанавливает принципиальную равноплановость с неприрученной мыслью, наброском плана имманентности, который включает ее предмет. Определяя “Мифологики” как миф мифологии и антропологическое познание как трансформацию туземного праксиса, леви-строссовская антропология составляет план грядущей философии – “Анти-Нарцисс”» (Вивейруш де Кастру, 2017: 334). Посредством метаболы «каннибальская метафизика», отраженной в названии книги, Э. Ви-вейруш де Кастру не только пытается понять, как могла бы быть устроена метафизика у племен каннибалов, но и показывает европейскую метафизику как каннибальскую. Эта метабола снова направлена на раскрытие странной общей, но с трудом выразимой в понятии эмоции, вызываемой «каннибальской метафизикой» племен каннибалов и «метафизическим каннибализмом» европейской метафизики. Метабола выступает здесь в качестве разрушителя между реальностями, которые логически не связаны между собой и не имеют друг к другу видимого отношения. Связь отмечается не на уровне сопоставления признаков или форм отношений, а в сфере совпадения эмоциональной интенции. Метафизическая традиция в разломе постструктуралистского философствования схватывается ученым как форма меметического метаболизма делезианских желающих машин. Э. Вивейруш де Кастру, в отличие от Ж. Делеза, через метаболу метафизического каннибализма не различает, а перемешивает концепты желающего производства и тела без органов посредством образа интеллектуального самопожирания социального тела, где машинная сцепка и прерывание акта более не формализованы последовательным алгоритмом. Метабола метафизического каннибализма ликвидирует на эмоциональном уровне концепты тождественного и иного, закрепившиеся в философии со времен античности и лежащие в ее фундаменте, и раскрывает, по мысли философа, имманентную реальность в ее пребывании.
Н. Сазанов целенаправленно предлагает использовать образы популярного искусства и его базовые мемы в качестве элементов когнитивных практик философской рефлексии. Он пишет: «Модель рефлексии укоренена в гармоническом (трансцендентальном) отношении между джедаем и силой, которое существует во вселенной “Звездных войн”. Автор обнаруживает возможность смещения светлой джедайской версии “темной” моделью мема о двух сторонах, отсылающей к серии “Дозоров” и паразитическим, нерефлексивным, но, скорее, субфлексивным отношениям с Сумраком» (Сазанов, 2019: 265). Причем речь идет не о простой метафоре, отражающей некоторые сходства между философом и джедаем, а о раскрытии через образ джедая внутренней темной и светлой силы философии, способной трансформировать реальность. Это не описание ее с помощью других образов, а актуализация динамической эмоции, ориентирующей философию на конкретный вектор развития с помощью метаболы «философ – джедай». Ученый настаивает на том, что данная метабола является крайне удачной именно в силу возможности частичного отождествления рассматриваемых реальностей, но не на уровне конкретных признаков, а на уровне сложности эмоционального взаимоотношения философа и философии, напоминающего о неоднозначности отношений джедая и силы. Положительный этический окрас светлой стороны силы в эпопее «Звездные войны» носит характер только видимости первого приближения и может быть рассмотрен в ином, противоположном смысле.
В рассматриваемых примерах прослеживаются общие функциональные черты применения метабол. Чаще всего они, в отличие от метафор, используются не для синтеза или прояснения конкретных признаков, сущностей, отношений, а для указания на некоторую эмоцию, вызываемую теми или иными философскими положениями или концепциями, для передачи которой отсутствует точный понятийный аппарат. Причем в большей степени раскрытие этой эмоции направлено не столько на прояснение философской концепции, сколько на формирование специфического к ней отношения, например, симпатии или отвращения. Ее важная когнитивная функция проявляет себя путем раскрытия новых эмоциональных полюсов различных философских концепций, а также их связь с эмоциональным квалиа культурной, психической, политической и другими сферами реальности. Метабола позволяет отразить и сформулировать их проблематику, может при этом обладать прогностическим потенциалом и оказывать влияние на социокультурные аспекты сознания.
Однако использование метабол носит в современной философии интуитивный и ситуативный характер, что требует более глубоких исследований этого когнитивного феномена. Метабола может быть концептуализирована, поскольку имеет однозначное содержание в форме эмоционального квалиа, а также она способна получить собственную аксиоматику, поскольку может выполнять функцию разрешения когнитивных антиномий.
Список литературы Когнитивный потенциал метаболы современной философии (на материале текстов спекулятивного реализма)
- Вивейруш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М., 2017. 404 с.
- Вудард Б. Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни. Пермь, 2016. 124 с.
- Кравцов С.М., Черноситова Т.Л., Максимец С.В. Способы создания метабол в транслингвальном тексте (на материале франкоязычных художественных произведений) // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2020. № 2 (46). С. 87-96. https://doi.org/10.25987/VSTU.2020.47.12.007.
- Маслов А.Е. Семиотика метаболы. Статья 1: семантика // Ученые записки Орловского государственного университета. 2018. № 1 (78). С. 148-152.
- Муратова И.А. Телесность как доминанта культуры постмодерна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 1-1 (27). С. 143-146.
- Сазанов Н. Паразитирующий джедай // Логос. 2019. Т. 29, № 5 (132). С. 265-282. https://doi.org/10.22394/0869-5377-2019-5-265-280.
- Такер Ю. Ужас философии: в 3 т. М., 2018. Т. 2: Звездно-спекулятивный труп. 198 с.
- Харман Г. Ужас феноменологии: Лавкрафт и Гуссерль // Логос. 2019. Т. 29, № 5 (132). С. 177-202. https://doi. org/10.22394/0869-5377-2019-5-177-200.
- Харман Г. Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь, 2015. 152 с. Эпштейн М. Парадоксы новизны: о литературном развитии XIX-XX веков. М., 1988. 416 с.
- Lez'er V., Muratova I., Korpusova N. Issues of Transport Security and Human Factor // E3S Web of Conferences. Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics (TPACEE 2018). 2019. Vol. 91. Article 08062. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199108062.