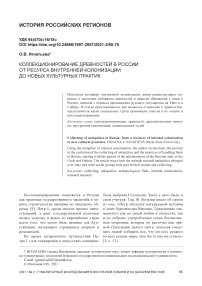Коллекционирование древностей в России: от ресурса внутренней колонизации до новых культурных практик
Автор: Игнатьева Оксана Валерьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.
Бесплатный доступ
Используя метафору внутренней колонизации, автор реконструирует периоды в эволюции собирания древностей и практик обращения с ними в России, начиная с периода продвижения русского государства на Урал и в Сибирь. В статье прослеживается, как менялось отношение к древностям, представители каких социальных групп принимали участие в их поиске и коллекционировании.
Коллекционирование, древности, археологические находки, внутренняя колонизация, национальный музей
Короткий адрес: https://sciup.org/170189328
IDR: 170189328 | УДК: 94(470)616/189 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-2/65-75
Текст научной статьи Коллекционирование древностей в России: от ресурса внутренней колонизации до новых культурных практик
Коллекционирование появляется в России как практика государственного масштаба в период строительства империи по западному образцу [9]. Петр І, среди многих прочих заимствований, в ранг государственной политики возвел покупку и вывоз из европейских стран всего того, что могло быть ценным для Кунсткамеры, интерьеров строящихся дворцов и резиденций.
Во время заграничного путешествия Петра І «для стажировки в искусствах империи»
была выбрана Голландия. Здесь у него были и свои учителя. Так, Ф. Вольтер писал об одном из них: «Петр обучался натуральной истории в доме бургомистра Витсена, Гражданина знаменитого как по своей любви к отечеству, так и по доброму употреблению своих бесчисленных сокровищ, которые он расточал как прямой Гражданин целого света, посылая сведущих людей собирать все, что ни есть редкого во всех концах мира, чего бы то ему ни стоило» [5, с. 51].
Можно предположить, что эти «бесчисленные сокровища» Витсена были ничем иным, как кунсткамерой, которые были распространены в Европе, начиная с XV–XVІ вв. Частью этого собрания были и привезенные им из поездки по России древности, а итогом путешествия стал популярный в свое время труд Витсена «Nord – en Oost Tartarien» (1692).
Как человека, увлеченного древностями, Витсена не могло не удивлять, что археологические находки, которые он покупал, в том числе и в России, безвозвратно пропадают: «Из Тобольска мне были посланы браслеты, серьги, идолы и др., все из чистого золота, весом в 1/2 фунта, на которых изображены драконы и божества, но к моему несчастью лицо, которому это было передано, предательски, из-за значительной ценности, продало серебро, так что оно, вероятно, расплавлено и я лишился его» [18, с. 130]. Поэтому нелюбовь к древностям Витсен счел чертой национального характера.
Живя какое-то время в доме амстердамского бургомистра, Петр І не мог не заметить этого интереса к коллекционированию «курьезов» не только со стороны антиквариев, для которых это было необходимой составляющей их работы, но и со стороны людей, занимающих высокие должности и относящихся к элите общества, которые таким образом проводили свой досуг.
В череде петровских реформ появились преобразования, направленные на развитие собственного населения. Так, для приобщения публики к новым формам досуга и образования в 1714 г. была открыта Кунсткамера, а в 1718 г. принят указ для обеспечения созданного музея соответствующими экспонатами, в качестве которых рассматривались «каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед обыкновенным, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно» [19, с. 542].
Собственно, публики для такого музея в России еще не было, ее только предстояло создать новыми публичными местами и практиками. Но, будучи «главным европейцем», государство вынуждено было инициировать эту деятельность, в гигантских масштабах скупая европейские художественные коллекции и тем самым
«сверхкомпенсируя» культурное отставание от передовых стран Европы. Не только петровская Кунсткамера, но впоследствии и Эрмитаж как «потемкинская деревня» демонстрировался в нужный момент иностранным гостям как знак культурного величия империи, а в остальное время картинами любовались только представители правящей династии.
На самом деле, государство не впервые сталкивалось с историческими древностями в начале XVІІІ в. Но впервые археологические находки воспринимались в петровском указе не как материальные сокровища, а как культурные ценности.
***
В работе «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России» А. Эткинд пишет о мотивах начала русской колонизации народов Сибири: «Для новгородцев не было другого смысла ездить в Югру, кроме как за пушниной» [22, с. 25]. На самом деле, был еще один, не менее важный смысл – «серебро закамское», о котором в русских документах XІV в. говорится как об особом виде дани, взимавшейся с населения Приуралья наряду с пушниной.
Еще до появления новгородцев, а потом и Москвы, племена, проживавшие в Приуралье, были поставщиками пушнины для восточных купцов, и с ІV–V вв. был налажен «меховой путь», по которому восточное серебро в огромных количествах обменивалось на дорогие меха. По мнению Б.И. Маршака, этот меховой путь прошел в своем развитии восемь периодов, в течение которых периодически менялись торговые посредники и источники серебра – от Средней Азии, Ирана и Византии до Золотой Орды, новгородцев и позднее Москвы [12]. И если в первые периоды существования мехового пути обмен пушнины на серебро носил характер «бартерного» обмена между восточными купцами и местным населением, то впоследствии новгородцы, а затем и Москва, считая территорию Приуралья своей землей, установили дань в виде пушнины и серебра.
Ко времени прихода новгородцев в Пермские земли использование восточного серебра в культовой практике на святилищах прочно вошло уже в культуру местных племен и стало традицией. Более того, поскольку эта традиция сохранилась в Приобье среди ханты и манси до этнографического времени, она зафиксирована и в описаниях. Так, К.Д. Носилов в начале
XX в., посетив мансийское святилище в глухом лесу, увидел деревянного идола, в складках одежды которого были монеты и жертвенные предметы: «Нельзя было дотронуться рукой до истлевшей материи, чтобы через нее не скатилась монета, но мое удивление было еще больше, когда вместе с серебром покатились на пол черные, ажурной старинной работы серебряные маленькие чашечки, полные монет. Я схватил одну и стал рассматривать. Она была тонкой нерусской работы, на дне ее были изображены драконы, какие-то чудовищные птицы и звери, что-то знакомое по Египту и Персии. Я спросил старика Сопра, что это, и он, не колеблясь, сказал мне, что эта старинная чашечка из чистого серебра, какие еще от дедов достались женщинам как старинное дорогое наследство» [14]. Этнограф В.Н. Чернецов уже в советское время также застал живую традицию использования серебряной посуды у ханты и манси, у которых существовал запрет есть мясо жертвенных животных из деревянной посуды: «Для этого служат несколько тарелок и блюд, медных и оловянных, обычно хранимых в особом месте и не употребляемых для каких-либо иных надобностей» [23].
Сохранившиеся в таежной глуши почитаемые святилища ханты и манси в Сибири фиксируют отношение к древностям в традиционной культуре как к сакральным предметам. Ценность таких предметов не измерялась деньгами, в этом смысле они были бесценными, и накапливались на святилищах из поколения в поколение. В сакральной географии традиционных народов пространство наделяется разной степенью доступности, что закрепляется далее в фольклоре, топонимах и т.д. Например, в XІX в. уфимский помещик Новиков, которому принадлежала пустующая земля, получившая в народе название «Чертово городище», решил «поселить новую деревню из своих крепостных крестьян. Но, как ни убеждал помещик, его просьбы и приказы не помогли: крестьяне вышли из повиновения и категорически отказались селиться в “заколдованном” месте» (Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. Р-4423. Оп. 1. Д. 5. Л. 25).
В ходе колонизации местные народы Урала и Сибири столкнулись с другим отношением к собственным сакральным предметам как к источникам драгоценных металлов. Сами предметы переплавлялись или шли на лом, именно поэтому, как считают исследователи, восточно- го серебра в виде посуды не встречается на собственно русских территориях [7, с. 148].
В Прикамье традиция использования восточного серебра исчезает, видимо, вместе с переселением манси и ханты в Сибирь в процессе русской колонизации. Но в Зауралье еще в конце XІX – начале XX вв. на рынках можно было встретить древние серебряные чаши и услышать рассказ «о смельчаках, решавшихся “сорвать шайтана”, т.е. с опасностью для жизни ограбить языческое святилище, где наряду с принесенными в жертву лучшими мехами хранились серебряные блюда, чаши и серебряные фигурки людей и животных» [1, с. 21].
Период сбора дани «серебром закамским» был недолгим. Но впоследствии в ходе освоения Сибири были открыты золотые сокровища сибирских курганов, что сразу породило особый вид промысла и промысловиков – бу-гровщиков. Все путешественники, кому довелось в начале XVІІІ в. проехать по сибирским территориям, отмечают, что этот «бизнес» был организованным, постоянным с приходом теплого времени года и зачастую находился под покровительством чиновников. Так, Миллер указывал: «Не инако как люди ватагами ходя на соболиный промысел, так и здесь великими партиями собрались, чтобы разделить между собою работу, и тем скорее управиться с многими курганами» [18, с. 123]. Д.Г. Мессершмидт, совершивший поездку по Сибири по поручению Петра І, писал о бугровщиках: «Но главным образом они зарабатывают много денег раскопками в степях. С последним санным путем они отправляются за 20–30 дней езды в степи; собираются со всех окрестных деревень в числе 200–300 и более человек, и разбиваются на отряды по местностям, где рассчитывают найти что-нибудь. Затем эти отряды расходятся в разные стороны, но лишь на столько, чтобы иметь всегда между собой сообщение и, в случае прихода калмыков или казаков, быть в состоянии защищаться» [16, с. 10].
Ф. Страленберг, шведский офицер, попавший в плен под Полтавой и живший в Сибири, по возвращению на родину в 1730 г. издал книгу «Историческое и географическое описание полуночной восточной части Европы и Азии». В ней он также описывает ситуацию с бугровщиками и отношением чиновников к этому промыслу: «20 или 30 лет тому назад, когда об этом Русское правительство еще ничего не знало, начальники городов Тары, Томска, Крас- ноярска, Батсамска, Исетска и других мест отправляли вольные отряды из местных жителей для разведки этих могил и заключали с ними такое условие, что они должны были отдавать определенную либо десятую часть найденного ими золота, серебра, меди, камней и пр. Найдя такие предметы, отряды эти разделяли добычу между собою и при этом разбивали и разламывали изящные и редкие древности, с тем, чтобы каждый мог получить по весу свою долю» [17, с. 32, 34].
После донесений путешественников и ученых в 1721 г. был издан указ о покупке сибирских древностей, в котором подчеркивалось, что их не нужно переплавлять: «…Куриозные вещи, которые находятся в Сибири, покупать Сибирскому Губернатору, или кому где надлежит, настоящею ценою, и не переплавливая, присылать в Берг – и Мануфактур-Коллегию, а в оной, потому же не переплавливая, об оных докладывать Его Величеству» [19, с. 357].
Несмотря на указы, бугрование сибирских курганов продолжалось, так как «занятие было прибыльным: известно, что некоторые курганы давали до 40–50 фунтов золота, большей частью в художественных изделиях» [24, с. 7]. О том, что бугрование приводило к конфликтам и стычкам с коренным населением, красноречиво говорит указ 1764 г.: «…Бугрование в степи под жестоким наказанием чинить запрещено, по той причине, что с того бугрования браны были неприятелями и здешних Российских в полон люди и лошади, из коих иныя и до смерти при тех буграх убиваны» [20, с. 832].
Таким образом, первый интерес к древностям носил сугубо экономический характер: они привлекали внимание как источник драгоценных металлов. «Бизнес» на древностях, или, как сейчас сказали бы на «черной археологии», был очень выгодным, порождал отдельные промыслы по кладоискательству и поощрялся местными чиновниками в качестве дополнительного источника личного обогащения. Изданные Петром І указы не повлияли кардинально на эту ситуацию, и, как минимум до середины XІX в. (образование Императорской археологической комиссии), механизмов сохранения «куриозов» не было. Коллекции золота сибирских курганов и восточного серебра из Прикамья и Зауралья, которые сейчас находятся в Государственном Эрмитаже, представляют лишь малую часть богатств этих регионов в древности и средневековье.
***
На эту сложившуюся традицию кладоиска-тельства и поиска древностей из драгоценных металлов, золота и серебра накладывается в начале XІX в. новая тенденция, связанная с формированием национализма и выразившаяся в распространении различных новых практик, в том числе коллекционирования «отечественных древностей». Интерес к истории и историческому документу, по которому, собственно, пишется история, повлекли за собой поиски древних документов и книг. Фольклор также начинает восприниматься не только как художественное произведение, но и как исторический источник. Однако в этот период государство еще не проявляло интереса к начавшимся в обществе поискам национальной идентичности. Любопытно, что в течение XІX в. несколько раз возникали инициативы по созданию национального музея без особых затрат для государства, однако они не были услышаны и поддержаны до того момента, пока Александр ІІІ не инициировал появление государственного Русского музея. При этом понадобилось еще какое-то время и после смерти Александра ІІІ, чтобы преодолеть непонимание чиновников и, наконец, при меценатстве частных лиц создать национальный исторический музей в 1895 г. [10].
По частной инициативе, но с государственным масштабом поиском и изучением древностей во всем их многообразии занялся граф Н.П. Румянцев после своей отставки с должности канцлера. Как в XVІІІ в. иностранных и русских ученых отправляли в географические экспедиции, итогом которых становились не только знания о территориях России, но и разнообразные коллекции (минералогические, археологические, этнографические и т.д.), так и Румянцев на свои средства направлял сподвижников «Румянцевского кружка» в разные концы империи и даже в кругосветные путешествия. Какие-то территории в этих поисках привлекали особое внимание, как это случилось с Прикамьем, поскольку Страленберг в своей книге выдвинул версию о том, что Пермь Великая – это Биармия скандинавских саг. Этой теории было суждено сыграть важную роль в археологическом изучении Пермского края: «При недостатке исторических данных о древней Биармии и ее торговом значении на севере, остается ожидать пособий от одной лишь археологии. Подземная Пермь может еще воскресить древнюю Биармию» [21, с. 72]. Для этого воскрешения древней Биармии граф Румянцев поручает В.Н. Берху провести исследования в Верхнем Прикамье, что подразумевало археологические поиски, этнографические исследования и розыск древних документов. Берх, по примеру других путешественников, опубликовал свои записки в 1821 г. Описывая свои поездки в Чердынь, Берх с разочарованием, не найдя руин «подобно как в Италии», с разочарованием заключал, что «здесь не мог обитать народ просвещенный» [3].
В.Н. Берх, анализируя историографическую традицию, связанную с поиском Биармии, подчеркивал: «Первые Историки всех народов почерпали свое родословие из самой глубокой древности, или, как почтенный Историк наш Василий Никитич Татищев говорит: боялись быть почтены незаконнорожденными, ежели не выведут произхождения своего из второй книги Моисея. <…> Подобное сему случилось и с нами относительно открытия Ледовитого моря; Большая часть историков наших ссылаясь на Полковника Стралемберга, Датскаго историка Саксона Грамматика, Исландскаго Снорро Стурлезона, Славянскаго Мавро-Урбина и на неудобопонятныя места Византийских писателей, начали утверждать, что торговля процветала в России до времен Рюрика, и что Биармия, или по словам их Пермь, была средоточием оной» [3, с. 113].
Как этнографа Берха также ждала неудача, но он оставил замечательное описание того, как местное население реагировало на появившийся этнографический запрос исследователей: «Расположась на удобной квартире, приказал я волостному голове и писарю пригласить женщин и девок, песни знающих, объявя им, что каждой дано будет по полтине в награждение. Через час собралось их более дюжины, и, помучив меня своею застенчивостью и перекорами, начали орать во все горло самые новые песни, кои поются в столицах. Даже старые женщины не знали ни одной древней песни, кроме “Во лузях” и “Мы просо сеяли”. Удивление мое было чрезмерно; я полагал, что в сем отдаленном углу соберу я седую древность. Волостной голова объяснил мне причину: наши молодые поселяне, говорил он, отправляются ежегодно по Каме или Волге до Нижнего Новгорода или Сарапула, и, живя там долго, выучивают новые песни и сообщают оные здешним женщинам, кои предпочитают все новое старому. Усмотря между моими посетительницами одну пожилую и умную женщину, спросил я ее, не может ли она в вознаграждение рассказать мне несколько странных повестей или сказок? Настасья Тимофеевна Девяткова отвечала, что она готова удовлетворить любопытство мое и надеется успеть в сем более потому, что в целой округе нет женщины, которая бы так искусно повивала и рассказывала повести, как она. Обрадовавшись такою счастливою находкою, приготовился я слушать ее со всевозможным вниманием и удостоверился очень скоро в новой неудаче. Госпожа Девяткова предлагала мне Илью Муромца, Ивашку белую рубашку, царя Соломона, Данила Бесчастного, Соловья разбойника, Ивана царевича, и услышав, что все сии сказки мне известны, сказала: “Постой же, я расскажу тебе о Перяной Кикиморе, которую ты верное не знаешь”. Храня благопристойность и зная, что все говоруны сердятся, когда их не хотят слушать, внимал я словам повествовательницы, и нашел, что это простая сказка, никакого внимания не заслуживающая. Я выслушал еще и другую, о Пелиторском короле и дочери его Мангалете, и не нашел и в ней ничего мне нужного. После сего разговаривала она со мною несколько времени и сказала: “Я слышала, что ты добираешься до кладов: но чудаки их заговорили, не найти тебе ничего. Попадался ли тебе уголь?”. Множество, отвечал я ей. “Ну, вот это заколдованные чудские деньги; наши ребята разрывали так же многие места, но кроме угля ничего не находили” [3, с. 164–165].
Скептическое отношение В.Н. Берха к биар-мийской теории никак не повлияло на поиски Биармии в Пермском крае. Большая часть Прикамья входила в состав майората Строгановых, которые периодически обращали внимание своих служащих на археологические находки и необходимость их покупки для коллекции. Строгановы с начала XVІІІ в. не жили в своих пермских имениях, территория которых была огромна. В Пермском крае не сложилось собственно дворянской усадебной культуры, но при этом существовала уникальная политика Строгановых по внутренней колонизации населения. Среди своих крепостных с помощью начальной школы они отбирали наиболее способных учеников и далее давали им возможность получить образование в собственной школе в Москве и даже за границей. Впоследствии выстраивалась карьерная лестница должностей – от служащего на заводах или в имении до главного управляющего. Они освобождались из крепостного состояния, не имели права заниматься сельскохозяйственными работами, приобретали образ жизни патронов, включая практики интеллектуального досуга и коллекционирования.
Одну из таких коллекций, представленную в кабинете управляющего имениями В.А. Во-легова в селе Ильинском, административном центре пермских имений Строгановых, описал в «Дорожных заметках из Тамбовской губернии в Сибирь» П.И. Мельников. Археологические находки управляющий приобретал у местных крестьян. Как и многие другие авторы, Мельников отнес эти находки к древней Биармии: «Берега этой реки в древности были населены коми-утирами и входили в состав так называемой Бярмии (Биармии). Доказательство этому: самое ее название и соседство с Масляной-го-рой, на которой до сих пор цело чудское городище и около которой находят много старинных вещей, бесспорно принадлежавшим “чудакам”» [13, с. 52].
Особая роль в инициировании археологического изучения Прикамья принадлежит графу С.Г. Строганову. Нужно отметить, что Сергей Григорьевич был председателем Общества истории и древностей российских, какое-то время был попечителем Московского университета, способствуя привлечению в университет таких известных историков, как Т.Н. Грановский и С.М. Соловьев. Он выступил с поддержкой многих талантливых студентов, включая Ф.И. Буслаева, о чем он подробно пишет в своей биографии. Став хозяином пермских имений, С.Г. Строганов обращается к своему главноуправляющему А.Е. Теплоухову с личным письмом, в котором подробно объясняет свой интерес к пермским древностям: «В настоящее время я в особенности занимаюсь исследованиями в происхождении Скифов, одноплеменных с Чудами или финнами, переселившимися с равнин Ср. Азии в первых веках после Рож. И.Х. На юге раскопки курганов открыли науке важные данные, но недостаточно много, чтобы определить, где по близости Волги или Камы (произошло) разделение племени, часть которого потянулась на юг, а другая пошла на Север и населила север России и берега Балтийского моря! В последнем случае все находки в старинной Биармии могут быть очень важны для науки, а потому Александр Ефимович, я обращаюсь к Вам, не из-за одной прихоти, а от имени науки я прошу способствовать мне … к отысканию Археологических памятников оз- наченной эпохи, и радушно и щедро расплачи-вать моими средствами. Граф Сергей Строганов» (Государственный архив Пермского края. Ф. 613. Оп. 1. Д. 192).
Именно своим примером С.Г. Строганов повлиял на А.Е. Теплоухова, который, будучи выходцем из крепостной среды, получил образование в Германии, стал одним из лучших российских лесоводов и, кроме того, занявшись археологией и этнографией, собрал большую археологическую коллекцию. А село Ильин-ское стало своеобразным научным центром, который посещали известные русские и европейские ученые.
***
Таким образом, археология как историческая наука использовала понятие «древности», которое в XІX в. применялось к широкому кругу явлений – от иконописи и до археологических находок. Хронологические рамки этого понятия также менялись. Если первоначально оно ограничивалось периодом с ІX в. по 1700 г., то по мере развития археологии оно вбирает в себя и более ранние эпохи: каменный, бронзовый, железный век. Древние находки, как это было, например, с находками каменного века, служили в глазах современников свидетельствами того, что Россия – «не пустое поле», а прошла в своем развитии те же эпохи, что и европейские страны.
Но эти самые древности продолжали массово пропадать для науки, а потому возникает идея создать государственный орган, который занимался бы археологией, контролируя особо ценные находки хотя бы на государственных и общественных землях (все, что находили на частных землях, принадлежало владельцам). На руководство этим вновь создаваемым органом, Императорской археологической комиссией (ИАК, 1859 г.), претендовало два человека – граф Алексей Сергеевич Уваров и Сергей Григорьевич Строганов. Оба увлекались археологией и собирали коллекции, но влияние Сергея Григорьевича оказалось сильнее и назначен во главе ИАК был именно он.
Императорская археологическая комиссия на государственном уровне, используя административные ресурсы, контролировала археологические находки на государственных и общественных землях, особенно занимаясь античной археологией. Все ценные находки передавались в Государственный Эрмитаж. В качестве при- мера того, как работала ИАК, можно привести переписку по поводу одной из коллекций пермских древностей. Письмо за подписью графа Бобринского от 15.08.1894 г. чердынскому уездному исправнику гласит: «Имп. Арх. Ком. известно, что проживающий в с. Покчи Чер-дынского у. урядник Береженцов, приобретает для своих коллекций, находимые крестьянами уезда предметов древности и имеет их в настоящее время уже в значительном количестве. Так как, по закону, все делаемые на казенных и общественных землях находки, как государственная собственность, должны быть препровождены в Имп. Арх. Ком., которая … вознаграждает находчика, а сами вещи … в один из государственных или общественных музеев, и так как наблюдение за исполнением этого закона возложено именно на чинов полиции, то Арх. Ком. имеет честь покорнейше просить Ваше Высокородие: 1) объявить уряднику Бе-реженцеву, что приобретение им для собственного собрания случайно делаемых на казенных и общественных землях находок должно быть прекращено или же такие находки должны быть им представляемы в служебном порядке в Имп. Арх. Ком. 2) доставить в Арх. Ком. собранную Береженцевым до сих пор коллекцию в полном ее составе. Вещи должны быть представлены при перечневой описи, с указанием места находки» (Научный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук, далее – НА ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 95/1894. Л. 28–29).
Таким образом, действуя в том числе и через полицию, при получении сведений о том, что кто-то проводит раскопки на государственных и общественных землях и хранит коллекции, Императорская археологическая коллекция стремилась эту деятельность пресечь и находки переместить в Эрмитаж. Если присылаемые древности не соответствовали статусу эрмитажного собрания, то могли быть возвращены владельцу. При этом деятельность ИАК приводила к неоднозначным инициативам и действиям в провинции. С одной стороны, для некоторых купцов, например, переписка с ИАК и возможность подарить археологические находки Эрмитажу, позволяли почувствовать себя в роли мецената, но в то же время деятельность ИАК по покупке археологических находок вызвала новую волну кладоискательства, в которую активно включалось крестьянство, поскольку периодически, с целью стимулировать местное население присылать найденные древности, выплачивалось щедрое вознаграждение. Так, «в 1892 г. в Археологическую комиссию через Вятский статкомитет было переслано 15 крупных находок. В их числе: клад серебряных монет XVІ в. (около 1 тыс. экз.), серебряная чаша VІІІ–X в., за которую комиссия выслала находчику 100 руб. Столь щедрое вознаграждение “дано для устранения крестьянами утайки в будущем”. Имея в те годы 100 рублей, крестьянин-бедняк мог стать зажиточным и крепким хозяином. Гривны, кольца, каменный топор, скелет “доисторического животного” – все это входило в состав находок года, хотя оплачивалось гораздо скуднее (от 1 до 10 рублей)» [2, с. 223–224].
Лихорадка кладоискательства охватывала целые деревни: «Раскопки ведутся партиями человек по 5–10, чаще по ночам, но в лесах и горах – во всякое время. Иногда подымались на курганный промысел целые станицы. В 1894 г. в юрте Псебайской станицы найдены были несколькими иногородними ценные золотые предметы, и эта находка так возбуждающе подействовала на местное население, что все обратились в кладоискателей. Ничего крупного они не нашли, а хозяйство свое привели в разстройство. “У нас все копали, – говорили псебайцы, – кроме священника, который был в отпуску”» [4, с. 64].
Возникающие инициативы краеведческого характера среди интеллигенции – путешествия, экскурсии, осмотры местности (внутренний туризм) – также порождали новый вид предпринимательства для местных крестьян – продажу археологических находок на сувениры. Так, в 1911 г. пермский краевед И.Я. Кривощеков отмечал: «…Масса чудских находок разошлись по России, будучи развезена туристами и любителями диковинок. Обилие чудских изделий, находимых жителями в течение многих десятилетий на “Пилинском”, породило особый промысел, вещи эти предлагаются для покупки всем заезжим лицам и по довольно приличной цене» [11, с. 98].
Такое отношение крестьянства к археологическим находкам, когда они либо рассматривались в качестве источника металла и переплавлялись в большом количестве, либо отдавались в качестве игрушек детям, или, по-прежнему вызывая страхи, служили источником опасности и потому от них избавлялись (например, топили в реке), для представителей высокой культуры было знаком невежества, с которым необходимо бороться с помощью новых образовательных практик. Примером такой новой риторики, появившейся в конце XІX – начале XX вв., является одна из заметок в «Известиях Императорской археологической комиссии»: «Забитый и невежественный наш народ, умеющий среди житейских насущных забот уважать старину только в виде клада – богатства, к остальному равнодушен. Иное значение старины ему недоступно, и редчайшие образчики древнего быта или приспособляются к современным житейским нуждам, или отдаются в игрушки ребятишкам. Одни лишь старообрядцы дорожать родной стариной, и им многим обязана русская археология. В то время, как Европа начинает искусственно подделывать старину, мы на памятники древности, на их охрану и изучение смотрим, как на роскошь. Мы говорим о патриотизме. Но где нам набираться настоящего отчизнолюбия, когда мы не знаем родной земли ни в прошлом, ни в настоящем. Между тем истинное отчизнолюбие, между прочим, зиждется на осмысленном отношении к родной культуре» [6, с. 51].
Кроме государственной инициативы, связанной с созданием Императорской археологической комиссии, в 1864 г. была реализована и первоначальная частная инициатива. А.С. Уваров, не получив должности в ИАК, создал Московское археологическое общество (МАО). Нужно сказать, что формы работы МАО были выбраны очень успешно, с расчетом на поддержку сложившихся в регионах сообществ, связанных с археологическим изучением территорий. Целью МАО была заявлена «русская археология», а поскольку фигура А.С. Уварова была известна, то в круг членов общества вошли в том числе и известные историки (В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев), художники и т.д.
Одним из «рычагов влияния» Московского археологического общества на провинциальную Россию стали археологические съезды, которые проходили в разных российских городах. Кроме того, МАО выходило на частных коллекционеров древностей, приглашая их участвовать в выставках, которые организовывались при археологических съездах, а также инициировало публикацию коллекций и их изучение.
Проведение археологических съездов, новой для России публичной практики, приводило к постоянному расширению круга людей, интере- сующихся древностями и их изучением. А поскольку членом общества мог стать коллекционер, не зависимо от социального статуса, то и количество собирателей тоже росло. Так, например, казанский купец В. Заусайлов, посетив археологический съезд в Казани в 1877 г., принял решение заняться первобытной археологией, собрал коллекцию и издал каталог. Свою коллекцию В. Заусайлов в основном собрал через покупку у крестьян находок: «Орудия в огромном большинстве случаев отыскивались таким образом, что я объезжал поочередно деревни губернии, и в каждой из деревень, по прибытии, собирал сведения, не имеет-ли кто из жителей громовых стрел, так как только под этим названием известны крестьянам древние каменные орудия; оказавшиеся предметы покупались, – разумеется, при согласии на то владельцев. Только в очень немногих местностях мне удалось добыть каменные орудия путем производства раскопок» [8, с. 4].
В разных регионах страны в силу специфики внутренней колонизации складывались свои сообщества образованных людей, поддерживающих в конце XІX – начале XX вв. национальный дискурс. Например, в Казани такое сообщество было в первую очередь связано с университетом и университетской профессурой, которая еще с начала XІX в. собирала различные коллекции. В Пермском крае, как было указано выше, первыми коллекционерами и исследователями выступили бывшие крепостные Строгановых, так называемая «служительская интеллигенция». В Сибири исследования местной истории и географии проводили ссыльные – образованные люди, которым активное общение с Географическим обществом, например, позволяло как-то реализоваться профессионально. В Екатеринбурге сложилось сообщество образованных горных инженеров, которые также занимались научным изучением региона, собирали коллекции, основывали научные общества и музеи.
Общей тенденцией, связанной с коллекционированием и с регионалистикой, становится появление региональных музеев, которые в советское время получат общее название краеведческих. Потребность в региональных музеях как в просветительских публичных учреждениях высказывалась повсеместно. Весь вопрос был в том, при каких учреждениях подобные музеи должны открываться, каким образом их финансировать. Интересно, что обсуждалась и такая перспектива, как вменить коллекции и функцию музеев церквям и монастырям, так как предполагалось, что крестьяне больше доверяют батюшкам и потому будут добровольно приносить найденные древности. Судя по документам, не только церковные древности могли заинтересовать священнослужителей. Так, например, отец Антоний, иеромонах Кирилло-Белозерского монастыря, собирал коллекцию местных древностей и быта. Но постепенно коллекция так разрослась, заполнив его келью, чердаки и лестницы, что ему «предложили или отказаться от занятий, “не соответственных монашескому званию”, или покинуть обитель. После больших колебаний он решился на последнее. Он отправился отыскивать монастырь, который согласился бы примириться с его слабостью. Дело, однако, оказалось не таким легким. За отсутствием подходящих помещений, обители решительно отказывались принять коллекции, и им грозила бы печальная участь разорения, если бы вопросом этим не заинтересовался петербургский археологический институт» [15, с. 39].
***
Таким образом, используя метафору внутренней колонизации применительно к такому сюжету российской истории, как собирание древностей и практики обращения с ними, можно обозначить несколько периодов в их эволюции. Начало внутренней колонизации, а именно продвижение государства на Урал и в Сибирь, связано не только с расширением территорий вслед за меховым путем, но и с «углублением» в скрытые под землей культуры, вычерпыванием золотых и серебряных древностей. Как и пушнина, «серебро закамское» и золото сибирских курганов шло на поддержание государственного аппарата, переплавляясь в слитки.
На следующем этапе внутренней колонизации, связанном с деятельностью Петра І, под влиянием модернизации по европейскому образцу государство приняло на себя инициативу коллекционирования древностей, их легитимации в качестве государственных ценностей. В этот период за образец была взята модель европейской кунсткамеры, в которой собирались необычные предметы со всего света, прежде всего – европейских колоний. По примеру Петра І кабинеты редкостей начали собирать и дворяне, особенно близкие к придворной культуре и имеющие возможность путешествовать по европейским странам.
С начала XІX в. появился концепт «отечественных древностей» и практически одновременно с этим возникла идея создания национального музея. Дискурс нациестроительства влиял как на практики коллекционирования, так и на появление музеев, визуализирующих национальную историю (сначала частных, а потом и публичных).
Конструирование общенациональной истории позволяло включаться в эти процессы разным социальным группам, поскольку прошлое можно было обнаружить всюду – и в археологических находках, и в старых рукописях, сохранявшихся на разных территориях, и в этнографических описаниях. Если художественное коллекционирование было невозможно без заграничных поездок или участия в столичной художественной жизни, то собирательство краеведческого характера было доступно практически любому интересующемуся историей человеку – крестьянину, ищущему клады, купцу, на свои деньги открывающему музей в провинции, чиновнику или университетскому профессору, вовлеченному в научные сообщества.
Список литературы Коллекционирование древностей в России: от ресурса внутренней колонизации до новых культурных практик
- Бадер О.Н., Смирнов А.П. «Серебро закамское» первых веков нашей эры. Бартымское местонахождение. М., 1954.
- Бердинских В.А. Вятские историки. Ремесло истории в России. Киров, 2007.
- Берх В.Н. Путешествие в город Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. Пермь: Издательство «Литер-А», 2009.
- Веселовский Н. В защиту русской археологии // Известия Императорской археологической комиссии. 1907. Прибавление к вып. 21. С.63-65.
- Вольтер Ф. История Российской империи в царствование императора Петра Великого. Кн. 2. М., 1809.
- Грибовский В. Охрана старины // Известия Императорской археологической комиссии. 1906. Прибавление к вып. 18. С. 50-51.
- Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII-XIII вв.: Произведения восточной торевтики на территории Европейской части СССР и Зауралья. М.: Наука, 1976.
- Древние орудия, собранные в пределах Казанской губернии В.И. Заусайловым. Вып. 1. Казань: Типография окружного штаба, 1884.
- Игнатьева О.В. Коллекционирование как способ репрезентации власти в России XVIII века // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 3. С. 21-30.
- Игнатьева О.В. От императорского музея - к музею национальному: значение частного коллекционирования в развитии национальной идеи в России XIX в. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 3. С. 56-61.
- Кривощеков И.Я. Пермь Великая, ее живая старина и вещественные памятники: (Археолого-этнографические заметки по Чердынско-му уезду с картой). Пермь, 1911.
- Маршак Б.И. Серебро за меха // Византийская идея. Византия в эпоху Комнинов и Палеологов. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2006. С. 72-82.
- Мельников П.И. Дорожные заметки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь // Отечественные записки. 1841. № 9. С. 3-5, 52-65.
- Носилов К.Д. У вогулов. Очерки и наброски. СПб., 1904.
- Из Новгорода // Известия Императорской археологической комиссии. 1908. Прибавление к вып. 27. С. 39.
- Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 1. СПб.: Издание Имп. археологической комиссии, 1888.
- Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 2. СПб.: Издание Имп. археологической комиссии, 1891.
- Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 3. СПб.: Издание Имп. археологической комиссии, 1894.
- Сенатский указ «О покупке в [Сибири Курьезных вещей и о присылке оных в Берг - и Мануфактур-Коллегию» // Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. СПб., 1830. С. 357.
- Сенатский указ «О запрещении выходить из Сибири за границу на степи для отыскания в древних могилах кладов» // Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. СПб., 1830. С. 832.
- Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 3. Древности времен переселения народов. СПб.: Тип. М-ва путей сообщения, 1890.
- Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- Чернецов В.Н. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 1. М.; Л., 1947. С. 113-134.
- Чернецов В.Н., Мошинская В.И., Талиц-кая И.А. Древняя история Нижнего Приобья. М.: Изд-во АН СССР, 1953.