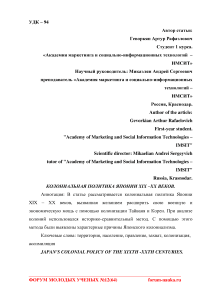Колониальная политика Японии XIX -XX веков
Автор: Геворкян А.Р.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12 (64), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается колониальная политика Японии XIX - XX веков, вызванная желанием расширить свою военную и экономическую мощь с помощью колонизации Тайваня и Кореи. При анализе колоний использовался историко-сравнительный метод. С помощью этого метода были выявлены характерные причины Японского колониализма.
Территория, население, правление, захват, колонизация, ассимиляция
Короткий адрес: https://sciup.org/140289982
IDR: 140289982 | УДК: 94
Текст научной статьи Колониальная политика Японии XIX -XX веков
Захват Японией Тайваня и Кореи является отличным примером «нового» имперализма XIX века. Мнение, широко распространённое на Западе, о том, что национальная сила измеряется в её политическом контроле над землями за пределами метрополии, было воспринято японскими элитами эпохи Мэйдзи. Полагая, что они успешно прошли первые десятилетия широкомасштабной политики продвижения экономической модернизации, эти элиты могли с большей уверенностью надеяться, что недавние успехи в развитии технологий и в сфере экономики превратятся в способность проецировать свою силу наружу. Благодаря растущей модернизации, Япония избежала участи колонизированных стран Азии и, более того, сумела войти в ряды колонизаторов. [1, С. 6-8]
Сравнительно слабая экономика Японии по сравнению с развивающимися западными странами в конце 1800 годов говорила лишь о том, что она была не готова выдерживать экспедиции по захвату колоний вдали от дома. Действительно, близкое расположение Тайваня и Кореи означало, что первоначальный захват этих территорий Японией, а также ее способность поддерживать политический и военный контроль над ними никогда не были особо затруднены из-за длинных путей снабжения колоний. Захват Тайваня и Кореи можно объяснить тем, что территории обеих стран входили в число немногих частей Азии, доступных для колониального захвата к моменту появления у Японии желания и способности расширяться. Соображения безопасности тоже сыграли роль в выборе Японии первых колоний, особенно в случае Кореи. Экспансия Японии на полуостров во многом зависела от достижения полного контроля над частью стратегической недвижимости, геополитически важной для безопасности самих островов.[2]
Самые ранние японские колонии были не только географически близки к Японии, но и в культурном отношении, будучи народами, имеющими, в первую очередь, китайскую литературную, культурную и религиозную близость, такую как китайское письмо, конфуцианство и буддизм направления Махаяна. Японские колонизаторы конца XIX и начала XX веков не отрицали сходства своей нации с недавно завоеванными подданными народами и часто говорили о желании вывести Тайвань и Корею из дряхлости к современности, как сами японцы модернизировались с 1868 года. Главное западное оправдание колониализма, принятое Японией, которое оставляло за собой право более продвинутых народов контролировать слабые, а также альтруистический тон желания руководить своими соотечественниками из Восточной Азии, вызванное чувством расового и культурного сходства, обладало огромной силой в Японии. Управление Тайванем и Кореей основывалось на обоих типах риторики.
Стиль колониального управления, близкий к европейскому, направлял японских колониальных администраторов - особенно на раннем этапе. Определенная отсталость подчиненных народов по сравнению с их японскими хозяевами, как они полагали, создавала администрацию, которая постепенно двигала колониальные народы к политической, культурной и социальной ассимиляции с японскими метрополиями, что было предпочтительнее, чем быстрая интеграция колонизированных с колонизатором. Другой подход, подчеркивающий культурное сходство Японии с ее азиатскими колониями в ранний период японского колониализма, позже стал более настойчивым в отношении азиатского происхождения Империи.
Японское колониальное правление, которое продлилось с 1910 по 1945 годы, было противоречивым опытом для корейцев. С одной стороны, японский колониализм часто был довольно суровым. Так, например, первые десять лет Япония управляла напрямую через вооруженные силы, и любое корейское инакомыслие безжалостно подавлялось. После общенационального протеста против японского колониализма, начавшегося 1 марта 1919 года, японское правление несколько ослабло, предоставив корейцам ограниченную свободу слова. Военная мобилизация 1937- 1945 годов вновь привела к жестким мерам в отношении японского колониального правления, поскольку корейцы были вынуждены работать на японских заводах и отправлялись в качестве солдат на фронт. В 1939 году колониальные власти даже заставили корейцев изменить свои имена на японские, и более 80 процентов корейцев выполнили это постановление об изменении имени.
Несмотря на деспотичное правление японских властей, многие известные современные аспекты корейского общества возникли в течение 35-летнего периода колониального правления. К ним относятся быстрый рост городов, расширение торговли и некоторые формы массовой культуры, такие как радио и кино. Также имело место промышленное развитие, частично поощряемое японским колониальным государством, хоть и с целью обогащения Японии и ведения войн в Китае и на Тихом океане, а не в интересах самих корейцев. Такое неравномерное и искаженное развитие оставило неоднозначное наследие полуострова после окончания колониального периода. К моменту капитуляции Японии в августе 1945 года Корея была второй по величине промышленно развитой страной в Азии после самой Японии. [3]
Помимо Кореи, Тайвань - единственная страна, которая была аннексирована Японией в период до Второй мировой войны. Тайваньцы и корейцы разделили опыт японского колониального господства. Если вы посетите Тайвань, то обнаружите более позитивное и благодарное отношение к Японии, нежели чем в Корее, где никто не скрывает свое глубокого чувства обиды. В мае 2016 года, когда президент Цай Инь-вэнь вступил в должность президента Тайваня, члены ее Демократической прогрессивной партии (ДПП) призвали ее переосмыслить то, как Тайвань помнит президента-основателя Китайской Республики Чан Кайши. [4] Возникли споры о том, следует ли сносить или переделывать просторную парковую территорию, сооружения и музей в центре Тайбэя, которые в настоящее время прославляют достижения Чан Кайши. [5] Весной 2017 года три публичные статуи Чанга были осквернены и обезглавлены. [6] Некоторых японцев, живших на Тайване в колониальный период, вспоминают иначе. В городе Тайнань ежегодно проводится церемония, посвященная жизни японского государственного служащего
Йоичи
Хатта.
Тайваньцы, участвующие в церемонии, возносят цветы и поклоняются статуе Хатты в парке, отдавая дань уважения его роли в превращении «бесплодной земли южного Тайваня в изобильный «рисовый амбар». [7]
Тайваньцы признают роль Японии в развитии квалифицированной рабочей силы Тайваня, в модернизации его ирригационных систем, в строительстве тайваньской железнодорожной системы [8], а также в проектировании и строительстве многих крупных правительственных зданий Тайваня.
Когда Тайвань был передан Японии в 1895 году по Симоносекскому договору, местные тайваньские лидеры сначала предприняли попытку создать независимую республику Формоза и противостоять аннексии. Некоторое сопротивление на аннексированных территориях Тайваня Японией продолжалось десятилетиями. Восстания в Тапани 1915 года и Вуше 1930 года считаются наиболее запоминающимися актами сопротивления Тайваня японскому правлению. В 1915 году местные жители Тайваня китайского происхождения хань, связанные с местной буддийской сектой, совершили серию «вооруженных нападений на полицейские участки»; последовавшие за этим репрессии со стороны Японии привели к гибели около 1412 тайваньцев китайского происхождения и «еще 1424 были арестованы и осуждены японским колониальным правительством». [9, С.138-139] Восстание в Тапани стало последним крупным вооруженным восстанием против японского правления, возглавляемым тайваньцами ханьского происхождения.
Восстание Ушэ в 1930 году возглавили седики, одно из коренных племен Тайваня. В октябре 1930 года губернатор округа Японии прибыл на ежегодное спортивное соревнование в Уше в сопровождении множества других японских военных и гражданских лиц. Вооруженный контингент в составе «300 мужчин-аборигенов в местной одежде, вооруженных винтовками, ружьями и мечами» напал на японскую делегацию, убив 134 из них, включая не только комиссара японской полиции и солдат, которые участвовали, но и японских мирных жителей, включая женщин и детей. В ответ японцы мобилизовали около 3000 солдат. Они убили 214 воинов-сидиков и членов их семей. [10, С. 152]
Японские военачальники, руководившие разгромом Уше, получили выговор со стороны своего правительства. Япония надеялась получить признание за улучшение благосостояния своих колоний, а не за их подавление. После восстания ушэ Япония приняла новую политику, направленную на более уважительное отношение к коренному населению Тайваня «как к имперским подданным, ассимилировавшимся в японское национальное государство, выражая свою лояльность императору». [11]
В отличие от стиля управления, применявшегося на Тайване, Япония, управляя Кореей в колониальный период, чаще прибегала к силе по нескольким причинам. Возможно, одной из самых важных причин является то, что недоброжелательные корейские взгляды на японскую интервенцию были основаны на доколониальном политическом опыте - почти полностью противоположном периферийному Тайваню. Корея к началу периода большой западной экспансии в Восточной Азии прочно находилась в орбите цинского Китая. Его собственная династия И, правившая с 1392 года, создала полуостровную нацию, в которой Великая Традиция - никогда успешно не являвшаяся частью среднестатистического тайваньского мировоззрения строго соблюдалась через четырехступенчатую кастовую систему. [12] Эта система также играла ведущую роль в представлении Кореи времен династии И о своем месте в мире. Король И признал положение Кореи по существу как в высшей степени автономного вассального государства, имеющего отношения данника с двором Цин.
Становление Японии в качестве современного государства в 1860-х и 1870-х годах было трудным для двора И под властью Тэвонгуна - регента молодого короля Коджонга - даже осмыслять, не говоря уже о том, чтобы принять. Причина таких трудностей во многом связана с восприятием Кореи Китая как центра силы в мире. Изменение японо-корейских отношений от отношений между разобщенной островной нацией, управляемой лишь на некотором расстоянии сёгуном, и гордым придатком к Китаю королевством было вызвано уведомлением Японии о «восстановлении» своего императора и сопутствующими объединением и модернизацией. Суд в Сеуле, давно привыкший вести дела через японских даймё в Цусиме и время от времени признавая власть сёгуната, решил, что Япония теперь желает объявить Корею своим вассалитетом. Следовательно, современные отношения между двумя странами начались из-за спора, основанного на двух непримиримых нормативных взглядах на управление государством и на то, что означает термин «отношения». Для Японии, страстно стремящейся к признанию в качестве полностью современной державы, достойной уважения западных держав, корейские настойчивые утверждения о том, что стремление Японии к «современным» двусторонним отношениям с точки зрения Запада XIX века, на самом деле было попыткой подчинить Корею устаревшей концепцией государственного управления, вызывала недоумение. [13, С. 29-31]
Очевидно, что, по мнению многих представителей местной элиты Мэйдзи, находившихся у власти, непримиримость и нежелание Кореи открыться для Японии и взгляд на нее как равную себе были восприняты как вопиющее оскорбление. При дворе И, который определил себя как государство, преданное Китаю, вера Японии в себя как нечто современное, была столь же странной; его просьба об отношениях вне иерархической структуры государственного управления Великой Традицией была откровенно высокомерной. Таким образом, обиды поддерживались обеими сторонами из-за первых грохотов о стремлении Японии играть более значительную роль в мире в качестве единой нации. Некоторые лидеры Мэйдзи решили после первоначального отпора Кореи в 1860-х годах, «подчинить» страну и, таким образом, отомстить за предыдущее пренебрежение. Однако не все были единодушны в том, как «покорить» Корею. Первоначальные планы призывали к карательному вторжению, которое могло бы послужить для правительства отвлекающей тактикой, чтобы отвлечь внимание бесправных самураев от недавнего моратория на их правительственные стипендии. [14, С. 38-43]
Основные черты раннего японского колониализма в Корее оставались такими же, как и на Тайване, но были различия. В сфере образования власти копировали терпимое отношение генерал-губернатора Тайваня к школам с родным языком, а также осторожное воспитание правительством хороших отношений с конфуцианской научной элитой. Тем не менее, Корея пережила короткий период национализма во время поздней династии И с началом движения «образование для нации». Здесь династия поощряла рост уездных школ, которые включали в свою учебную программу некоторые темы, относящиеся к реальности уже более широкого мира Тайваня. [15, С. 295-296]
Это означало, что цели тайваньских властей были относительно простыми: подорвать деятельность частных школ и увеличить прием в школы, финансируемые Японией.
В целом японские колонизаторы выдвигали на удивление похожие доводы в каждой из двух крупнейших японских колоний. Первоначальный акцент на ассоциации и постепенном слиянии каждого колониального населения в империю был заменен превратностями меняющейся международной ситуации и места Японии в ней. Такие изменения нарушили медленный процесс колониального созревания до идеала метрополии. Это изменение было проиллюстрировано неотложностью, присущей целям быстрого культурного паритета между Японией и колониями, а также возросшей потребностью в колониальной помощи в войне. Конкретные изменения в японском управлении произошли в каждой колонии как результат доколониальной истории каждого региона, которая предрасполагала каждую колонию к относительной покорности или упорству по отношению к японскому правлению.
Список литературы Колониальная политика Японии XIX -XX веков
- Вань-Яо Чжоу. Японская военная империя, 1931-1945 годы. – С. 6-8 [https://quod.lib.umich.edu.ru]; (дата обращения: 29.09.2021).
- Абрамсон Гуннар. Сравнительные колониализмы: Вариации японской колониальной политики в Тайване и Корее, 1895 - 1945 гг.
- Имперализм, война и революция в Восточной Азии [http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_1900-1950.htm];(дата обращения:29.09.2021).
- Томас Дж. Уорд и Уильям Д. Лэй. Необычный случай Тайваня.
- Оставьте в покое мемориальный зал Чан Кайши, China Morning Post, [https://web.archive.org/web/20160511181648/http:/www.chinapost.com.tw/editorial/taiwan-issues/2016/05/06/465247/leave-chiang.htm]; (дата обращения:30.09.2021).
- Хидеши Нисимото, «Статуя Чан Кайши, обезглавленная в Тайване во время последнего инцидента», Асахи Симбун, [https://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201704230023.html];(дата обращения:30.09.2021).
- Чиу Ю-цзы, «Воспоминания японских пионеров», Тайбэй Таймс. [http://www.taipeitimes.com/News/local/archives/2000/05/05/34805]; (дата обращения: 30.09.2021)
- Железнодорожная дипломатия, Тайвань Сегодня. [http://taiwantoday.tw/news.php?unit=8,29,32&post=14202.];(дата обращения:30.09.2021).
- Столетие с восстания в Тайвани, отмеченное городом Тайвань, Taiwan Today, [https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2&post=3673]; (дата обращения:01.10.2021).
- Лео Т. С. Чинг. Становясь японцем: колониальный Тайвань и политика формирования идентичности. – С. 138-139
- Лео Т. С. Чинг. Становясь японцем: колониальный Тайвань и политика формирования идентичности. – С. 152
- Бузо, Адриан. Создание современной Кореи. Нью-Йорк: Рутледж, 2002.
- Питер Дуус. Счёты и мечи: проникновение японцев в Корею. - С. 29-31.
- Питер Дуус. Счёты и мечи: проникновение японцев в Корею. – С. 38-43.
- Цуруми. Колониальное образование в Корее и Тайване. – С. 295-296.