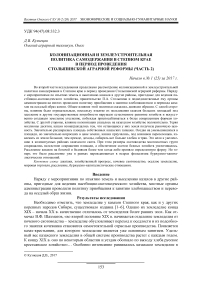Колонизационная и землеустроительная политика самодержавия в степном крае в период проведения Столыпинской аграрной реформы (часть 2)
Автор: Кузнецов Д.В.
Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau
Рубрика: Экономические и социально-гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2 (26), 2017 года.
Бесплатный доступ
Во второй части исследования продолжено рассмотрение колонизационной и землеустроительной политики самодержавия в Степном крае в период проведения Столыпинской аграрной реформы. Наряду с мероприятиями по изъятию земель и выселению казахов в другие районы, пригодные для ведения пастбищно-скотоводческого хозяйства, правительство П.А. Столыпина и подведомственные ему органы администрации на местах проводили политику приобщения к занятию хлебопашеством и перевода казахов на оседлый образ жизни. Общее влияние этой политики сказалось двояким образом. С одной стороны, влияние было отрицательным, поскольку изъятие из пользования казахов больших площадей под заселение и другие государственные потребности нарушало естественное развитие хозяйств и искусственно создавало земельное утеснение, побуждая приспосабливаться к более совершенным формам хозяйства. С другой стороны, влияние колонизации сказалось на казахском хозяйстве положительно. Теряя миллионы десятин, казахи вознаграждались тем, что остающаяся у них земля получила рыночную ценность. Значительно расширилась площадь собственных казахских запашек. Оседая на уменьшившихся в площади, но значительно возросших в цене землях, казахи приучались, под влиянием переселенцев, извлекать из земли большие, чем прежде, доходы, собирать все больше хлебов и трав. Это вело к увеличению в колонизуемых районах казахского скота. При этом размеры скотоводства многоскотных групп сокращались вследствие сокращения площади, а обеспечение скотом бедных хозяйств увеличивалось. Расслоение казахов на богачей и бедняков более чем когда-либо приняло определенную форму. Но теперь это было расслоение уже в рамках нарождающихся в недрах феодализма буржуазно-капиталистических отношений.
Джатаки, хозяйственный прогресс, кочевое скотоводство, оседлое земледелие, мировая торговля, расслоение, буржуазно-капиталистические отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/142199337
IDR: 142199337 | УДК: 94(47).08:332.3
Текст научной статьи Колонизационная и землеустроительная политика самодержавия в степном крае в период проведения Столыпинской аграрной реформы (часть 2)
Наряду с мероприятиями по изъятию земель и выселению казахов в другие районы, пригодные для ведения пастбищно-скотоводческого хозяйства, местные органы администрации проводили политику приобщения к занятию хлебопашеством и перевода на оседлый образ жизни.
Результаты исследования
Необходимо отметить, что земледелие у казахов Степного края, как и у других коренных народов Сибири, существовало издавна [1–6]. Однако их земледелие конца XIX – начала XX в. качественно отличалось от земледелия более ранних эпох. Как отмечал В.Ф. Шахматов, «во второй половине XIX в. начинается отделение земледелия от кочевого скотоводства – земледелие обусловливает переход к оседлости и из подсобного занятия кочевника становится самостоятельной отраслью производства. Появляется казах-крестьянин, для которого земледелие является уже основным занятием. Удельный вес казахского земледелия в общей системе производства растет с каждым годом. К концу XIX в. оно по некоторым областям и уездам обогнало по выходу хлеба русское крестьянское хозяйство»… Особенно интенсивно развивалось казахское земледелие в
северных уездах Степного края: Омском, Кустанайском, Петропавловском, Семипалатинском и т.д. [2].
Из всех областей Степного края наивысший удельный вес земледелия в казахских хозяйствах в Акмолинской области. По данным переписи, если в 1897 г. земледелием занимались 3,3%, то в 1908 г. – 27% [1, 7]. Расчеты автора, полученные на основе материалов В.К. Кузнецова, примерно совпадают с последней цифрой: в 1906–1908 гг. в Омском уезде на 100 казахских хозяйств приходилось 28,8 хозяйств земледельческих и 50,2 – скотоводческих [8]. Такой высокий процент земледельческих казахских хозяйств в Омском уезде объясняется близостью Акмолинской области к Сибирской железной дороге и сибирским трактам, вследствие чего область была более доступна для колонизации. В результате увеличивались контакты казахов с русскими переселенцами: «Непосредственное соседство казахских аулов с русскими селениями ускорило процесс перехода казахского населения к земледелию… По примеру русских крестьян оседлые казахи обзаводятся инвентарем, начинают вести хозяйство на более рациональной основе» [9].
В дальнейшем тенденция усилилась, и уже к 1910 г. в Акмолинской области в трех северных уездах «чистых кочевников» не было вовсе. В северной части Омского уезда казахские хозяйства мало отличались по своим размерам от крестьянско-переселенческих [2, 10].
Несмотря на экстенсивный характер земледелия у казахов, оно в эпоху империализма становится в некоторых северных районах ведущей отраслью производства. Т.А. Кошкинбаева считает, что «переход некоторой части крестьян [казахов – Д.К.] от кочевого скотоводства к оседлому земледелию в эпоху империализма означал развитие в Казахстане более передовых форм хозяйства, был прогрессивным явлением в жизни аула» [8, 11]. Это привело к тому, что в 1916 г. количество зернового хлеба на одного человека, например, в Омском уезде, составило 70,1 пуд. в год, в том числе пшеницы – 61 пуд., овса 9,2 пуд. Для сравнения: количество хлеба в других уездах Акмолинской области за тот же год: в Петропавловском – 32,7 и 13,5 пуд., Кокчетавском – 18,8 и 9,4, Атбасарском – 6,6 и 1,0 и Акмолинском – 12,9 и 2,7. В среднем по области – 26,4 и 7,1 пуд. [12]. В хозяйствах казахов стали распространяться новые сорта пшеницы, появились лучшие пахотные орудия, жатки, сенокосилки, конные грабли, использовались телеги, строились землянки, избушки, глиняные мазанки и, наконец, обычные пятистенки. В зимовках начали строить деревянные дома, амбары для хлеба и разводить домашнюю птицу. В рационе появились новые продукты (хлеб, овощи, сахар и др.) [13, 7, 14]. Уменьшилась смертность, повысилась рождаемость. Общий годовой коэффициент прироста населения в 1890 г. был 1,68, в 1909 г. – 0,89, в 1910 г. – 1,42, в 1911 г. – 2. В Казахстане ежегодный прирост казахского населения достигал в районах кочевого скотоводства 1,2–1,4 [%], а в северных районах, где развивались земледелие и оседлость, был выше» [2].
Вместе с тем, нельзя забывать, что одновременно с ростом численности казахского населения шло быстрое сокращение принадлежавших ему земельных площадей. Как утверждал Г. Сапаргалиев: «Колониальная администрация изымала веками обжитую землю у казахов и передавала ее русским и иностранным капиталистам, которые расхищали богатство ее недр. При помощи администрации царизм осуществлял свою колониальную политику. По мере усиления последней расширялись функции колониального аппарата и создавались новые органы. Так, для более успешного и быстрого проведения земельной политики в Казахстане в 1906 г. в степных областях… были организованы так называемые временные партии и отряды, которые имели право неограни- ченного и бесконтрольного изъятия земель у казахского населения. При полной поддержке и помощи колониального аппарата чиновники этих партий по своему усмотрению определяли „излишки“ земель, не считаясь ни с какими обычаями ведения кочевого образа жизни. Под переселенческие участки забирали зимовые стойбища, а прежних хозяев передвигали на земли, неорошенные и непригодные для хлебопашества и скотоводства. Вся тяжесть земельных изъятий ложилась на трудящиеся массы, которые, разорившись, подпадали под еще большее влияние феодально-байской верхушки» [15].
Аналогичного мнения придерживался и О.А. Ваганов: «Ближайший помощник Столыпина и его коллега по кабинету – главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин – руководил практической деятельностью чинов Переселенческого Управления в Казахстане, направленной на проведение в жизнь этих мероприятий. Он же вместе со Столыпиным давал строгие указания не церемониться с казахским населением и беспощадно подавлять всякое противодействие работам землеотводных партий. Армия чиновников и топографов Переселенческого Управления усердствовала на местах, стремясь выполнить эти указания. Каждый чиновник, нередко применяя не только угрозы, но и прямое насилие по отношению к казахам, старался перегнать своих коллег в исполнительности и изобретательности по части изъятия земель у казахского населения... Переселенческие партии… отбирали в переселенческий фонд лучшие земли казахского населения в качестве „излишков“, а казахам оставляли по „нормам“, и даже сверх них, сотни и тысячи десятин бесплодных солончаков, гор и оврагов» [16, 17].
Эти утверждения, впрочем, нельзя принимать безоговорочно, поскольку они противоречат свидетельствам некоторых очевидцев того времени. Так, член III Государственной думы А.Л. Трегубов, специально посетивший некоторые области Степного края, чтобы выяснить действительное положение местных казахов в связи с изъятием у них некоторой части земель под переселенческие и запасные участки, отмечал: «Обвинения чинов переселенческой организации в том, что для образования переселенческих участков забираются все лучшие земли, киргизам же оставляются негодные земельные площади, для меня совершенно непонятно. Наоборот, я видел, что лучшие земли остались за киргизами, за ними остались и все водные хранилища… Несправедливы, по моему мнению, и обвинения переселенческих чинов в том, что подлежащие сносу киргиз зимовки низко оцениваются» [18].
Перешедшие к оседлому состоянию казахи назывались джатаками. Одни джатаки занимались земледелием, другие промыслами. Земледелием занимались все группы казахского населения, не только бедные, но и зажиточные хозяйства. Одна часть населения занималась земеледелием давно, другая недавно. Байские хозяйства, занимаясь товарным земледелием, торговали хлебом, скотом и продуктами скотоводства. Однако байство, хотя и занималось земледелием, выступало против перехода казахских крестьян к оседлому образу жизни и земледелию, так как при оседании аульной бедноты байство теряло дешевую рабочую силу, что наносило большой экономический ущерб [11]. Так, в Омском и Петропавловском уездах до 70% баев, имевших в среднем на одно хозяйство 500–600 голов скота, занимались крупной торговлей, засевали от 500 до 1000 дес. пашни и держали по 15–20 годовых и 100–150 постоянных рабочих. «Чтобы содержать свои громадные стада, киргиз-богач нуждается в пастбищах, обнимающих тысячи десятин, пользуясь неопределенностью границ киргизского землепользования, он беспрепятственно пасет свои многочисленные стада по всей территории своих сородичей, часто совершенно не считаясь с их кровными интересами. Таким образом, у киргиза-богача пока отсутствует побудительный стимул к земельному обособлению от массы киргизского народа» [11].
Сравнительно немногочисленным киргизам-богачам противостоит многочисленный класс бедняков и джатаков. Эта беднейшая группа населения, в большинстве случаев живущая исключительно продажею своего труда… не могла извлекать из простора киргизских степей никаких выгод. Вместе с группами «бедных» и «средних» киргиз, живущих не только скотоводством, но и земледелием, они представляли готовый материал для перехода в оседлое состояние. В противоположность киргизам-богачам, они были заинтересованы в скорейшем наделении их землей в определенных границах, как у крестьян [1, 19, 20].
Байская феодально-родовая верхушка использовала в отношении рядовых членов казахских аулов методы угроз, запугивания, подкупа, шантажа и прямого насилия, чтобы не допустить их перехода к земледелию. На этот факт обратил внимание, в частности, уже упоминавшийся Трегубов: «Будучи в Лепсинском уезде [Семиреченская область - Д.К.], мне пришлось, между прочим, быть очевидцем дикой расправы богатых киргизов с киргизами-бедняками. Последние просили перечислить их на крестьянское положение - в качестве оседлых. За эту просьбу бедняки-киргизы подвергнуты беспощадному избиению кочевниками, не сочувствующими переходу своих одноплеменников к оседлой жизни».
Излагая свою позицию относительно перехода казахов на оседлое состояние, автор далее отмечал: «На переселение они смотрят как на возможность в ближайшем будущем, перейдя на положение крестьян, освободиться от рабства манапов и произвола своей администрации и суда (управителей и биев). Неоднократно киргизы говорили мне, что положение бедняков с заселением степи русскими крестьянами улучшается. Батраки, работавшие ранее за кусок хлеба у своих манапов, баев и казаков, теперь имеют хороший дневной заработок. Избитые и изувеченные богачами на Конуровском участке киргизы-бедняки, заявившие желание перейти к оседлой жизни, откровенно говорили, что только с переходом к оседлой жизни они избавились от нищеты и рабства» [18]. Мотив перехода на оседлое состояние был один и тот же - это желание иметь землю на более постоянном праве и в более определенных границах, также появилась возможность уничтожить с переходом на оседлое положение земельные преимущества богатых, ставшие теперь пережитками.
В.И. Шахматов отмечал: «В эти годы были нередки случаи, когда аул, состоявший из бедняцких хозяйств, ходатайствовал перед местными властями о наделении их землей для поселения их и хлебопашества и о приписке их к „сельским обывателям“ (то есть крестьянам) на одних правах с последними. Таких прошений в местные управления, по мере развития крестьянского населения и развертывания работы переселенческих управлений по отводу запасных участков для переселения, поступало все больше. В 1908 г. Совет Министров принял особое постановление, которым разрешил одновременно с отводом земель для переселенцев нарезать наделы для желающих осесть кочевников на одинаковых правах с переселенцами. На основании этого решения местные власти тем казахским хозяйствам (или целому аулу), которые решили перейти на оседлость, отводили постоянный надел, как и переселенцам, из расчета до 15 дес. удобной земли на душу. В таких казахских поселках устраивались одинаковые с русскими селами управление и суд, они переводились с кибиточной подати на оброчную [21] в размере, определенном для переселенцев. Как только поселок устраивался и начинал вносить подати, его жителей причисляли к крестьянскому сословию, и он исключался из казахской волости, в которой ранее числился.
После этого в ауле организовывалось управление по типу русского села, волостной управитель и его аткаминеры, бий и бай, лишались права вмешиваться в жизнь аула. Как источник различных побочных доходов и незаконных сборов для местных казахских властей такой поселок был уже недоступен. С новоявленных „сельских обыва-телей“ нельзя было собирать доходного „кара-шыгына“, брать взятки и производить всякого рода мелкие поборы. Конечно, это было не в интересах ни волостного, ни его байско-аткаминерской партии. Поэтому просьба отдельных аулов или групп казахских хозяйств наделить их землей и причислить к крестьянам вызывала особенное озлобление эксплуататорской верхушки во главе с волостными» [2].
Вопрос о выработке основных принципов землеустройства, которые должны быть выработаны и осуществлены в отношении казахов в связи с колонизацией Степного края, рассматривался и обсуждался на совещании, происходившем весной 1908 г. в г. Оренбурге. Совещание состояло из чинов Переселенческого управления и местной администрации. Как утверждал Чиркин, вышеобозначенные должностные лица всегда ревниво оберегали интересы казахов. «По мнению названного совещания… можно надеяться, что землеустройство на вышеуказанных основаниях не только не нарушит хозяйственных интересов киргизского населения – как земледельцев, так и скотоводов – а, напротив того, освобождая попутно значительные пространства для малоземельного населения Европейской России, явится толчком для развития более культурной жизни в среде самого киргизского племени. Землеустройство на вышеуказанных основаниях устранит вполне основательное беспокойство киргизов относительно прочности владения на оставляемые в настоящее время в их пользовании земельные пространства, устранит возможное в ближайшем будущем значительное осложнение в земельном отношении самих киргизов – столкновение между оседлыми и кочевниками, между скотоводами и земледельцами – на то, что у них отбираются под переселенческие участки лучшие земли, а им оставляются одни пески, солонцы и горы, и сделает невозможным то расхищение киргизских земель, которое создается в настоящее время самовольной сдачей богачами земель общего пользования в аренду заемщикам. При надлежащей осведомленности киргизского населения относительно сущности проводимой реформы, вполне обеспечивающей интересы как основной земледельческой массы, так и богачей скотоводов, при участии представителей киргизского населения в работах по землеустройству, при полной солидарности всех органов местного управления и при надлежащей осторожности и постепенности в проведении реформы, можно надеяться, что введение ее в жизнь не вызовет сколько-нибудь серьезных осложнений политического характера» [13].
Эти соображения в известной мере перекликались с мероприятиями МВД и ГУ-ЗиЗ, которые эти ведомства намечали провести в Степном крае в связи с переселенческим движением. В 1909 г. состоялось заседание комиссии под руководством товарища главноуправляющего землеустройством и земледелием Иваницкого. На заседании обсуждался проект Переселенческого управления о порядке землеотводных работ в Степном крае. Как было отмечено в документах, Переселенческое управление особо отметило «предоставленную киргизам действующими узаконениями возможность в случае заявленного желания прочного землеустройства получать из находящихся в их пользовании земель участки не свыше 15 десятин на душу в постоянное владение на основаниях, общих с русскими переселенцами». Вместе с тем, «проект Управления за всеми остальными киргизами, такого желания не выразившими, временно сохранял все то определяемое весьма сложным порядком количество земли, которое необходимо для обеспечения их при кочевом быте, и не предрешал своим проектом тех оснований, на которых должно быть построено сплошное поземельное устройство киргизов и для установления которых необходим особый законодательный акт» [22]. Данное заключение было положено в основу новой инструкции «О порядке определения государственного земельного фонда в степных областях для переселения и других государственных надобностей» и одобрено Советом Министров 9 июня 1909 г. Таким образом, в соответствии с этим положением, проводя землеотводные работы на территории Степного края и в одной из его северных местностей – Омском уезде, – местные представители администрации и чины Переселенческого управления осуществляли практику изъятия земель сверх 15-десятинной нормы у казахов, занимающихся земледелием, точно так же, как они делали это в отношении собратьев-кочевников.
Поощряя в целом переход кочевников в оседлое состояние, царизм в то же время отнюдь не стремился к тому, чтобы этот переход был массовым и повсеместным. Именно поэтому правительство вело двойственную политику в отношении кочевников Степного края. С одной стороны, оно поддерживало переход казахов к оседлому состоянию, а с другой – ограничивало его, поддерживая в этом казахских богатеев (баев и биев). О.А. Ваганов был прав по сути, когда отмечал, что «политика Столыпина состояла, с одной стороны, в сохранении устоев патриархально-феодальной эксплуатации в ауле, с другой – в создании благоприятных условий для проникновения в Казахстан буржуазных отношений» [17].
В такой политике царского правительства не было противоречия. Царское правительство не было заинтересовано в массовом переходе кочевников на оседлый образ жизни, поскольку во-первых, это не позволяли сделать местные природно-географические и климатические условия, и во-вторых, такой переход мог значительно затруднить переселенческий процесс. Будучи оседлыми, казахи сами бы обрабатывали землю, не пуская переселенцев, и тогда возможности для колонизации Степного края значительно уменьшились бы. Это затруднило бы процесс переселений и обострило аграрный кризис в центральной России.
По-видимому, этими же обстоятельствами объяснялось и стремление администрации выселять казахов на неудобные с точки зрения сельскохозяйственной обработки земли. Ваганов утверждал: «Из писем Кривошеина Туркестанскому генерал-губернатору Самсонову и Степному генерал-губернатору Шмиту видно, что правительство собиралось поощрять переход на оседлость лишь в том случае, если в результате его можно было увеличить колонизационный фонд. Напротив, в тех случаях, когда наделение казахов землей по переселенческим нормам создавало угрозу закрепления за ними сколько-нибудь ценных земель и тем самым уменьшало возможности экспроприации, царское правительство отказывалось от так называемого перевода на оседлость. Кривошеин откровенно заявлял, что предоставление безземельным казахам Семипалатинской области земель, пригодных для земледелия, „нежелательно и недопустимо“» [16].
Такая политика в отношении казахского населения проводилась царизмом, по сути, до последнего дня его существования. Так, уже в годы Первой мировой войны, в 1916 г., Министерством земледелия был составлен план гидротехнических работ для Акмолинского района. План был утвержден и.о. министра земледелия Г.В. Глинкой 14 апреля 1916 г. Согласно этому плану, в целях получения дополнительного колонизационного фонда в Омском уезде предполагалось осуществить ряд мероприятий и среди них обводнение 225000 дес. земли, предназначенной в возмещение переселяющимся кочевым киргизам и находящейся на юге от линии, соединяющей озера Уль-куль-Карой и Теке.
План был составлен в связи с тем, что перед администрацией стояла дилемма: осуществлять ли образование переселенческих участков путем дальнейшего понижения земельных норм, намеченных В.К. Кузнецовым для здешних кочевых киргизов, или провести их добровольное или принудительное выселение в скотоводческие районы. По мнению и.о. министра земледелия, «понижение норм допустимо, если исходить из определенного бюджета киргизского хозяйства и учитывать рост земельной ренты, и совершенно неприемлемо, если принять во внимание рост потребностей, особенно усиливающийся при их приближении к оседлому образу жизни, связанному общим повышением культуры. Устройство киргизов на общих основаниях с крестьянами в широком масштабе не даст большого переселенческого фонда в северных уездах. Поэтому наиболее рациональным, как по практической осуществимости, так и с точки зрения государственных интересов, является развитие добровольного переселения киргизов с земель, вполне пригодных для земледелия на земли районов, пригодные для скотоводства. Таким путем государство достигает наилучшего использования земель… Причины, обуславливающие перемещение киргизов с лучших земель на худшие, суть следующие: рутина, заставляющая держаться за прежний уклад хозяйства и жизни; стремление к земельному простору; стеснение поселками, делающее невозможным прежний беспризорный выпас, наличность промышленных хозяйств с значительным количеством скота, отсутствие определенных границ землепользования между отдельными аулами. Перечисленные причины главным условием успеха переселения киргизов делают: 1) обводнение района, куда выселяются киргизы; 2) точное проведение границ между отдельными выселившимися группами и 3) снабжение сенокосами» [23].
Проводя столь жесткую политику в отношении казахов, правительство и в данном случае руководствовалось, прежде всего, соображениями практической целесообразности, прагматизма и государственной пользы, а не соображениями абстрактно понимаемого гуманизма. Не случайно в записке о поездке в Сибирь министры указывали, что «непосредственные впечатления нашей поездки говорили, что до сих пор переселенческая организация скорее поступалась интересами переселения в пользу кочевников, а не наоборот… Такие приемы, имевшие целью лучше обеспечить и устроить киргизов, основаны все-таки на ошибке. По глубокому убеждению нашему, устраивать нужно не киргизов, а самую киргизскую степь, и думать не о будущем отдельных кочевников, а о будущем всей степи» [24]. Эти общие замечания министров как нельзя лучше характеризуют ту политику, которая проводилась местной администрацией, переселенческими и землеотводными органами в отношении инородческого и крестьянского населения в степных районах Азиатской России в исследуемый период. В данном случае они являются наглядным и ярким подтверждением высказывания В.В. Кабанова, суть которого состоит в том, что «вряд ли есть смысл искать в [столыпинской] реформе социальную справедливость, (как и во всяких иных реформах, ибо эту категорию морали нужно давно отнести в разряд социально-этических утопий). Экономическая целесообразность оттесняла на задний план все прочие соображения» [25].
Заключение
Общее влияние колонизации на развитие казахского хозяйства сказалось двояким образом. С одной стороны, это влияние было отрицательным, поскольку изъятие из пользования казахов больших площадей под заселение и другие государственные потребности нарушало естественное развитие их хозяйств и искусственно создавало земельное утеснение, побуждая казахов приспосабливаться к более совершенным формам хозяйства. Но, с другой стороны, влияние колонизации сказалось на казахском хозяйстве положительно. Теряя миллионы десятин, казахи вознаграждались тем, что ос- тающаяся у них земля получила рыночную ценность. Благодаря земельному утеснению в степи увеличился спрос на казахские земли со стороны переселенцев: цены на покос, пашни, скот, хлеб росли в степных областях с каждым годом. Число бедных хозяйств уменьшилось почти в 11/2 раза. Соответственно, увеличилось число хозяйств обеспеченных. Так, по данным П.П. Румянцева, проводившего статистическое обследование Степного края в 1909 г., «повторные исследования киргизских хозяйств, произведенные после изъятия части земель, занятых киргизами под переселение в трех уездах Акмолинской области [Кокчетавском, Петропавловском и Омском – Д.К.], свидетельствуют о поднятии благосостояния киргизского населения и развитие у него земледелия» [26].
Значительно расширилась площадь собственных казахских запашек (в Омском уезде в отдельных волостях процент сеющих казахских хозяйств достигал 100). Оседая на уменьшившихся в площади, но значительно возросших по цене землях, казахи приучались, под влиянием переселенцев, извлекать из земли большие, чем прежде, доходы, собирать все больше хлебов и трав. Это вело к увеличению в колонизуемых районах казахского скота. При этом размеры скотоводства многоскотных групп сокращались вследствие сокращения площади, а обеспечение скотом бедных хозяйств увеличивалось [1, 27].
Колонизация Степного края вовлекала в мировую торговлю, которая начала усиленно развиваться после проведения железной дороги, что не могло не произвести переворота в хозяйственной жизни казахов. Натуральное скотоводческо-кочевое хозяйство превратилось в товарно-денежное, а возникшие капиталистические отношения раскололи казахский народ на новые социально-экономические классы, отличные от старых родовых групп. Расслоение казахов на богачей и бедняков приняло более чем когда либо определенную форму. Но теперь это было расслоение уже в рамках нарождающихся в недрах феодализма буржуазно-капиталистических отношений.
D.V. Kuznetsov
Omsk Agricultural College, Omsk
Colonization and land management policy of the autocracy in the Steppe region in the period of Stolypin agrarian reform (Part 2)
Список литературы Колонизационная и землеустроительная политика самодержавия в степном крае в период проведения Столыпинской аграрной реформы (часть 2)
- Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоящем/П.П. Румянцев. -СПб., 1910. -66 с.
- Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община/В.Ф. Шахматов. -Алма-Ата: Изд-во АН Каз. ССР, 1964. -207 с.
- Швецов С.П. Примитивное земледелие на Алтае/С.П. Швецов. -Омск: Тип. штаба Сиб. воен. окр., 1900. -28 с.
- Чермак Л.К. Оседлые земледельцы на реке Чу/Л.К. Чермак. -Омск: Тип. штаба Омск. окр., 1900. -32 с.
- Чермак Л.К. Формы киргизского землепользования/Л.К. Чермак//Сибирские вопросы. -1908. -№ 23-24. -С. 21-43; № 39-40. -С. 4-15.
- Вараксин А.В. Омский опытный хутор. Начало сибирской сельскохозяйственной науки/А.В. Вараксин, Л.В. Катин-Ярцев. -Омск: Сибирский НИИ сельск. хозяйства, 1986. -88 с.
- Хвостов Н.А. К вопросу истории взаимодействия и взаимовлияния тюркских народов Прииртышья с русскими. XVIII-XIX вв./Н.А. Хвостов//Россия и Восток. Традиционная культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. -Омск, РАН, Ин-т востоковедения, ОмГУ, ОИИФФ СО РАН, Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, НГПИ. -С. 16-20.
- Кошкинбаева Т.А. Развитие оседлости в казахском ауле в эпоху империализма/Т.А. Кошкинбаева//Исторические науки: темат. сборник науч. тр. профессорско-преподават. состава и аспирантов высш. учеб. завед. М-ва просв. Каз. СССР. -Алма-Ата: Каз. пед. ин-т им. Абая, 1975. -Вып. 2. -С. 38-45.
- Алексеенко Н.В. Русские и казахи Верхнего Прииртышья в XVIII -нач. XX века: автореф. дис.. д-ра ист. наук/Н.В. Алексеенко. -Усть-Каменогорск: Книжное изд-во, 1967. -35 с.
- Ахметова Н.К. Влияние переселенческого движения на процессы оседания казахского населения Омского уезда/Н.К. Ахметова, О.М. Бронникова//Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы сибир. науч. конф., 27-28 февраля 1996 г. -Омск: Изд-во ОмГАУ, 1996. -С. 25-27.
- Кошкинбаева Т.А. О некоторых изменениях в кочевом хозяйстве казахов в эпоху империализма/Т.А. Кошкинбаева//Исторические науки: темат. сборник науч. тр. профессорско-преподават. состава и аспирантов высш. учеб. завед. М-ва просв. Каз. СССР. -Алма-Ата: Каз. пед. ин-т им. Абая, 1974. -Вып. 1. -С. 40-46.
- Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф.Д. 151. Документальные материалы по сельскому хозяйству и переселенческому делу в Сибири. Опись 1. Дело 3.
- Чиркин Г.Ф. Землеустройство киргиз в связи с колонизацией степи/Г.Ф. Чиркин//Вопросы колонизации. -1908. -№ 2. -С. 44-68.
- Обзор Акмолинской области за 1915 г. -Омск: Акмолинский стат. Комитет, 1917. -130 с.
- Сапаргалиев Г.С. Карательная политика царизма в Казахстане (1905-1917)/Г.С. Сапаргалиев. -Алма-Ата: Наука, 1966. -376 с.
- Ваганов О.А. Земельная политика царского правительства в Казахстане (1907-1914)/О.А. Ваганов//Исторические записки. -М.: Изд-во АН СССР, 1950. -Т. 31. -С. 61-87.
- Ваганов О.А. Царизм и казахское байство (1900-1914)/О.А. Ваганов//Вопросы истории. -1947. -№ 5. -С. 90-95.
- Трегубов А.Л. Переселенческое дело в Семипалатинской и Семиреченской областях. Впечатления и заметки по поездке летом 1909 г./А.Л. Трегубов//Вопросы колонизации. -1910. -№ 6. -С. 104-172.
- Бекмаханов Е.Б. Байское хозяйство в Казахстане и его особенности во второй половине XIX и начале XX в./Е.Б. Бекмаханов//Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России: сб. ст. к 75-летию акад. Н.М. Дружинина. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С. 338-347.
- Макаров И.Ф. Казахское земледелие в конце XIX -нач. XX в. (по материалам экспедиционных обследований (1896-1905)/И.Ф. Макаров//Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. -С. 392-445.
- Несипбаева Н.Р. Российское налоговое законодательство о кибиточной подати в Казахстане (2-я пол. XIX -нач. ХХ в.)/Н.Р. Несипбаева//Известия АН Каз. ССР. Сер. обществ. наук. -Алма-Ата, 1987. -Вып. 5. -С. 47-50.
- Новая инструкция о порядке определения государственного земельного фонда в степных областях для переселения и других государственных надобностей//Вопросы колонизации. -1910. -№ 6. -С. 311-312.
- Государственный архив Омской области (ГАОО). Фонд 98. Переселенческое управление Тобольского района Главного управления Землеустройства и Земледелия г. Омск. -1909-1919 гг. -Опись 1. -Дело 17.
- Записка Председателя Совета министров и Главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 г. (Приложение к всеподданнейшему докладу). -СПб.: Тип. газ. Россия, 1910. -165 с.
- Кабанов В.В. Пути и бездорожье аграрного развития России в ХХ веке/В.В. Кабанов//Вопросы истории. -1993. -№ 2. -С. 34-46.
- Румянцев П.П. Социальное строение киргизского народа в прошлом и настоящем/П.П. Румянцев//Вопросы колонизации. -1909. -№ 5. -С. 79-137.
- Обсуждение сметы Переселенческого управления на 1914 г. в Общем собрании Государственной думы (заседание 30 мая 1914 г.)//Вопросы колонизации. -1914. -№ 16. -С. 172-205.