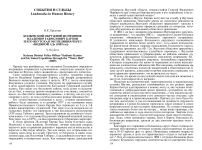Колымский окружной исправник Владимир Гаврилович Карзин и его якутская экспедиция через "водяной ад" (1889 год)
Автор: Крылова Вера Климентьевна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: События и судьбы
Статья в выпуске: 49, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе ранее неизвестных документов Национального архива Республики Саха (Якутия) рассматривается установление транспортных и экономических связей Якутской области с побережьем Охотского моря в конце XIX в. Необходимость налаживания таких связей была продиктована рядом социальных и экономических причин: нужно было найти более короткий и дешевый путь доставки товаров с побережья Охотского моря до города Средне-Колымска, центра Колымского округа. Колымский окружной исправник В.Г. Карзин задумал экспедицию по исследованию водно-сухопутного пути из Средне-Колымска до Гижиги (Колымско-Охотский тракт). Его намерение было одобрено и поддержано губернскими властями Восточной Сибири. Экспедиция Карзина состоялась летом 1889 г. Сохранившиеся дневниковые записи и отчетные документы Карзина об экспедиции свидетельствуют о том, с какими неожиданностями и смертельными опасностями в пути пришлось столкнуться ее участникам, оказавшимся наедине с дикой и суровой природой. Успех экспедиции Карзина оказался возможным благодаря его ответственному отношению к служебному долгу и мужеству участников экспедиции. Им помогло ясное осознание значимости открытия более короткого пути от Средне-Колымска до Гижиги, от которого зависело благополучие, благосостояние и все будущее населения Колымского края.
Якутия, якутская область, колымский округ, колымский край, гижигинск, средне-колымск, колымо-гижигинский тракт, река колыма, географическая экспедиция, торговый путь, в.г. карзин
Короткий адрес: https://sciup.org/14913779
IDR: 14913779
Текст научной статьи Колымский окружной исправник Владимир Гаврилович Карзин и его якутская экспедиция через "водяной ад" (1889 год)
Прежде чем разобраться, что заставило Колымского окружного исправника отправиться в рискованное, смертельно опасное путешествие по Якутии, через «водяной ад», представим его читателю.
Свою «коронную государственную службу» уроженец города Калуги Владимир Гаврилович Карзин, сын писаря департамента Военного министерства, начал в августе 1871 г. после окончания Калужского уездного училища. Поступил на гражданскую службу в штат канцелярских служителей Калужской губернской казенной палаты. Как гласит его послужной список, «под судом и следствием не был, в походах против неприятеля не участвовал, имений не имел», но «был богат знаниями и умением», а потому «по его уму и сноровке к делу» за годы службы исполнял разные обязанности»1.
Его «ответственное отношение к делу», «умение организовать работу» было замечено, и в сентябре 1877 г. на основании указа Правительствующего Сената Карзин был переведен из 2-го в 3-й разряд канцелярских служителей. Уже через год он возвысился до «классных чинов»: его произвели в чин коллежского регистратора (XIV класс Табели о рангах). Затем назначили на должность столоначальника 1-го отделения Калужской губернской казенной палаты. Еще через год, в 1879 г, он был произведен в губернские секретари2.
К этому времени 28-летний Карзин был отцом 8-летнего сына Всеволода и стал вдовцом. Возможно, личная трагедия сыграла какую-то роль в принятии решения о перемене места жительства и переезде в Якутскую область. Так или иначе, его «стремление поставить свои силы на службу Престолу и Отечеству, в таком отдаленном крае, как Восточная Сибирь», в дальнейшем получило подтверждение в конкретных делах. Как покажет время, гражданский губернатор Якутской области, генерал-майор Георгий Федорович Черняев не зря «отнесся благожелательно к его ходатайству и не отказал в своей мужественной опоре»3.
По прибытии в Якутск, Карзин поступил на службу в Якутское областное правление. Некоторое время он «исполнял обязанности общего журналиста Якутского областного правления»4: заносил в журналы и документально оформлял решения по вопросам, которые обсуждались на заседаниях областного правления.
В 1882 г. он был «назначен помощником Верхоянского окружного исправника»5. А в декабре 1883 г, - переведен в Средне-Колымск «исполнять обязанности Колымского окружного исправника. В должности начальника Колымского окружного полицейского управления он пробыл более десяти лет»6, и по своим полномочиям фактически являлся главным начальником Колымского округа. В десятках архивных дел (Ф. 12и. Якутское областное правление), содержащих многочисленную служебную переписку с Якутским областным правлением и губернаторами, не найдено никаких документов, адресованных Колымскому окружному исправнику В.Г. Карзину (Ф. 18и. Колымское окружное полицейское управление), в которых содержались бы какие-то порицания за плохое выполнением им должностных обязанностей. Все сведения, сообщаемые им начальству, отличались полнотой, конкретикой и объективностью. К тому же его рапорты, донесения и прочие документы написаны «по всем правилам грамматики», что встречалось не часто.
И за все это время его послужной список пополнился записями о заслугах, благодарностях и наградах.
Несмотря на климатические, территориальные и национальные условия Якутии, разительно отличавшиеся от его родных краев, Карзин быстро адаптировался к новому месту и, как человек ответственный и добросовестный, много времени «употреблял на обустройство жизни и быта местного населения», о чем свидетельствуют донесения и уведомления о его довольно частых отъездах «для обозрения округа и принятия решений». Причин для этого было более чем достаточно: в год его назначения на должность окружного исправника в Средне-Колымске произошло самое мощное и самое разрушительное за всю историю наводнение. По словам очевидцев «вода поднялась более чем на четыре... метра выше ординара, стихийным ее напором и льда снесло почти полгорода. Энергия этого наводнения, бегущего с быстротой водопада, была просто неописуема. Льды, точно громадные тараны, били в берега, бороздили их, беспощадно разрушали, срезали до дна довольно крупные мели и острова»7.
Благодаря его стараниям в Колымском округе были созданы несколько обустроенных почтовых станций, расположенных не далее как в 30-35 верстах друг от друга. Инородцам, взявшим подряд на перевозку грузов, в пути это гарантировало «отдых и теплый ночлег»8. Под его председательством в 1886 г. в Средне-Колымске было открыто Колымское окружное попечительство по презрению боль- 159
ных, а также церковно-приходская школа9. Он с готовностью принимал на себя «тяжелый труд руководить разными работами, наблюдать за исправным выполнением любого дела, за что пользовался заслуженным уважением и поддержкой не только горожан, но и инородцев всего округа»10.
Нередко «для обозрения округа» и исполнения своих полицейских обязанностей окружному исправнику приходилось совершать продолжительные поездки по бездорожью, связанные с риском для жизни. Так, Карзину удалось пресечь незаконную контрабандную торговлю чукчей, ведущих кочевой образ жизни, с американцами11. За «спасение и своевременное оказание помощи» команде шхуны «Алеут» от имени Морского министерства ему была объявлена благодарность. И это все за сотни километров от Средне-Колымска, куда он добирался на лодках, лошадях, оленях, а когда и пешком.
Карзину принадлежит заслуга в обустройстве и работе Колымской метеостанции по исследованию климата Якутии, состоящей при физической обсерватории Академии наук. В ее работе по регистрации температурного и водного режима, давления воздуха, количества выпадающих осадков, направления движения атмосферных масс и других природных явлений, активное участие принимали политические ссыльные. Среди них был участник польского освободительного движения Вацлав Серошевский, который «вместе с другими сотоварищами» в 1882 г. «совершил побег, но все были пойманы отрядом во главе с В.Г. Карзиным»12. Позднее между ними сложились хорошие взаимоотношения, и многие ссыльные внесли немалый научный вклад в изучение Якутии.
В 1892 г. в Верхоянске был зафиксирован «абсолютный температурный минимум - 69,8 градусов по Цельсию, который ни до, ни после никогда и нигде не наблюдался в мире». Многолетние наблюдения с отрицательным коэффициентом января для Средне-Колымска «указывали на то, что зимою Средне-Колымск лежит в области, подчиненной совершенно иному атмосферному режиму, нежели Якутск. Это позволяло сделать вывод о том, что между Якутском и Средне-Колымском проходит линия разрыва климатологической сплошности, с нулевым коэффициентом корреляции. Что весьма важно учитывать как в климатологии, так в прогнозе погодных явлений»13. Принимая во внимание «ценные для науки России сведения, представляемые Карзиным, конференция Императорской академии наук на заседании от 10 мая 1888 г. утвердила его общественным корреспондентом Главной Физической обсерватории с надеждой, что и впредь он будет способствовать решению многих вопросов равно интересных как для науки, так и для жизни»14.
Сведения, представляемые Карзиным в Академию наук в течение многих лет, позже использовались научно-исследовательской экспедицией Академии наук СССР 1925 г, организованной с целью изучения естественно-производительных сил Якутии.
О том, что свои силы Карзин действительно направлял «на службу Престолу и Отечеству в таком отдаленном крае, как Восточная 160
Сибирь», свидетельствует награждение его серебряной медалью «За усердие»15. За свою ревностную службу он был награжден всеми орденами вплоть до ордена св. Владимира IV ст.
Экспедиция, о которой пойдет речь ниже, на деле подтвердила, насколько титулярный советник В.Г. Карзин «радел не за карьеру, а за вверенное ему дело». Но вначале расскажем ее предысторию.
* * *
Несмотря на отдаленность Якутска от Охотского моря, многие экспедиции к его берегам совершались именно отсюда. Походы Ивана Москвитина, Михаила Стадухина, Андрея Горелого, который невзирая на трудности «коньим путем добрался до Охоты реки за пять недель»16, навсегда остались в памяти потомков. Сведения о богатстве Приамурья вынуждали якутские власти отправлять туда новые экспедиции под руководством Василия Пояркова, Семена Шелковинка, затем Семена Дежнева. Зимовье, выстроенное в середине XVII в. «вблизи совместного устья двух рек, впадающих в северо-западную часть Охотского моря, - Охоты и Кухтуя, стало играть роль некоторого центра, откуда совершались походы вдоль побережья и по рекам»17.
К концу XIX в. снаряжать экспедиции по поиску более удобных и коротких путей к побережью Охотского моря стали отдельные округа Якутской области. Один из них, Колымский, был практически отрезан от больших дорог. Расстояние от Якутска до Средне-Колымска, о котором пойдет речь, было больше, чем от других окружных центров, и доставка товаров стоила дороже.
В Национальном архиве Республика Саха (Якутия) сохранились дела об экспедиции 1889 г, в которых содержится переписка Колымского окружного исправника В.Г. Карзина с гражданскими губернаторами Якутской области генерал-майором Константином Николаевичем Светлицким и действительным статским советником Владимиром Захаровичем Коленко об открытии Колымо-Гижигинского тракта. Те, в свою очередь, свои действия относительно учреждения Колымско-Гижигинского (Колымско-Охотского) тракта согласовывали с генерал-губернаторами Восточной Сибири (Иркутскими генерал-губернаторами) - вначале с Алексеем Павловичем Игнатьевым, а с июля 1889 г. - Александром Дмитриевичем Горемыкиным.
Экспедиционная деятельность, проводимая в Якутской области, нашла свое отражение в работах современных ученых - М.И. Колесова18, Т.Н. Оглезневой19, С.И. Бояковой20, И.С. Астаховой21, П.Л. Казаряна22. Однако никто из них не ставил перед собой задачу выяснить, что заставило Колымского окружного исправника Карзина отправиться в столь рискованное путешествие по неизведанным притокам реки Колымы. Уже долгое время ждут своего ответа вопросы, связанные, в том числе, и с психологической стороной экспедиции Карзина23: с какими трудностями и неожиданностями в 161
пути пришлось столкнуться ему и его спутникам? каким образом и во имя чего эти трудности преодолевались на грани цены собственной жизни? какова психологическая составляющая всей экспедиционной жизни людей, оказавшихся наедине с природой, когда «тебе никто не может помочь, кроме себя самого»?
Наше исследование базируется на архивных документах, которые впервые вводятся в научный оборот. Они представлены, прежде всего, дневниковыми записями Карзина, которые последовательно излагают ход событий. Значимость их в том, что они содержат сведения об открытии в конце XIX в. жизненно важного для Якутии, прежде всего для Колымского края, Колымо-Гижигинского тракта от города Средне-Колымска до Гижигинска, окружного города Гижигинского округа Приморской области, стоявшего на реке Гижига в 25 верстах от места впадения ее в Гижигинскую губу Охотского моря.
Документы дела № 169, трудно поддающегося расшифровке, представляют собой переписку относительно данной экспедиции: донесения, доклады, распоряжения, бумаги казначейства. Особенно ценно в них то, что Карзин излагает свои мысли не только в форме сухой канцелярской отчетности, но позволяет себе небольшие комментарии, которые более выпукло, достоверно передают и события, и психологическое состояние, и реалии жизни Якутии того времени, ее региональные, территориальные, этнографические особенности. Они являются ценнейшими письменными источниками, отражающими картину взаимоотношения русского и коренного населения*.
Итак, прослужив около пяти лет, обозрев жизнь и быт калымчан, ввиду больших территорий лишенных сухопутных дорог, Карзин был готов приложить «все свои усилия для того, чтобы удешевить провозную плату на товары, завозимые в Колымский край, доходящей иной год до 14 р. за пуд»24.
В свою очередь, обретя надежного исполнителя в лице сведущего и инициативного окружного исправника, способного не только собрать необходимые сведения, но и обобщить их, толково и грамотно изложить на бумаге, якутские и иркутские начальствующие лица стали намечать конкретные шаги к достижению желанной цели. Стремление начальства Якутской области соединить Средне-Колымск с Гижигинском было, прежде всего, стремлением улучшить благосостояние населения Колымского и Верхоянского краев, отрезанных от цивилизаций тысячами верст непроходимых территорий.
Во многом успешному началу исследования Колымо-Гижигинского тракта, задачей которого было соединение колымского водного пути с Охотским морем, оказалась перестановка начальствующих лиц в генерал-губернаторстве Восточной Сибири (в июне
1887 г. было преобразовано в Иркутское генерал-губернаторство, в состав которого входили Иркутская губерния и Якутская область). В соответствии с «Высочайшим Указом от 12 мая 1889 г. и приказом Генерал-Губернатора Восточной Сибири [Иркутского. - В.К.] графа А.П. Игнатьева от 16 мая 1889 г. за № 65, Якутский Губернатор К.Н. Светлицкий» был «переведен на должность Иркутского Губернатора»25. А его предшественник В.З. Коленко был назначен вместо него губернатором Якутской области26. В это же время граф А.П. Игнатьев, хорошо знавший Светлицкого, отмечавший его «усердную службу, полезную деятельность и усиленные служебные труды на посту Губернатора Якутской области»27, получил пост товарища министра внутренних дел28. До отъезда в столицу Игнатьев был хорошо осведомлен о «заботах» Светлицкого «по поиску путей к Охотскому побережью и о том, что он активно занимался вопросами улучшения жизни северных окраин и даже сам осматривал путь от Якутска до Аяна»29. Все это, несомненно, способствовало организации предстоящей экспедиции.
Таким образом, оба гражданских губернатора были хорошо осведомлены об экономическом положении «вверенной территории» и, в частности, обширном Колымском крае, заключавшем в себе 31 134 квадратных версты. По причине «крайней суровости климата, он не производил ни хлебных, ни зерновых растений, ни овощей»30. «При отсутствии хлебопашества, - писал К.Н. Светлицкий Иркутскому генерал-губернатору в донесении за № 618 от 12 марта 1888 г, - занятия жителей составляют скотоводство, зверопромысел, но главным обеспечением народного продовольствия является рыболовство»31.
Как замечал Якутской губернатор, в служебной переписке иногда именуемый «Главным Начальником северного края», «при всем многообразии и обилии прекрасной рыбы, промысел не может служить надежным обеспечением народного продовольствия, так как успех зависит от многих случайностей. Виды рыб, имеющие особое значение для продовольствия, как-то: сельдь, ряпушка, омуль, нельма принадлежат к приходящим из моря в реки. Уровень же прилива воды зависит от погоды. Иногда выдастся неуловный год, и тогда следуют неизбежные голодовки. Без сомнения, если бы рыбный промысел велся не исключительно по реке Колыме и ее притокам, но и в море, то и население было бы более обеспечено»32.
Все эти промыслы год от года сокращались. Часто бывал неурожай травы. Либо «происходило затопление сенокосных угодий, и тогда водой уносило заготовленные копна и зароды сена. Все это приводило к нехватке кормов. За 20 лет заболевание сибирской язвой сократило количество скота более чем втрое. За последние пять лет вследствие ежегодного сбыта на золотые прииски, его число уменьшилось на 23 791 голов»33.
Опустошительные лесные пожары и беспорядочный хищнический промысел пушных зверей быстро вел к окончательному их истреблению. Но, как отмечалось в годовом отчете за 1888 г. Якутского губернатора К.Н. Светлицкого на имя генерал-губернатора А.П. 163
Игнатьева, «одним из главнейших недостатков народного продовольствия является то обстоятельство, при котором ближайший рынок находится только в Якутске и, который отстоит от Средне-Колымска на расстоянии 2 315 верст, представляет наисквернейший путь с трудно проходимыми дорогами, сопровождавшимися топями, дебрями, сопками, речками, гарями, горами»34.
Поэтому все привозное в Колымский край было баснословно дорогим. К этому нужно добавить все возрастающую стоимость доставки грузов от Якутска до Средне-Колымска, которая в иные года колебалась от 8 до 14 руб. за пуд35. И все привозные товары год от года дорожали. Также «по причине непомерно высоких цен на хлеб за наличные деньги, он почти не покупался, а раздавался местному населению в ссуду, которая обычно оставалась не возмещенной. При таком порядке с течением времени накапливались значительные хлебные долги»36.
Дороговизна перевозок подталкивала начальство Якутской области «к принятию мер по доставки грузов в Средне-Колымск из Гижиги [Так в служебной переписке часто именовали город Гижигинск. - 5. А’. | водно-сухопутным путем», так как расстояние между ними было немногим более 1 000 верст, тогда как до Якутска - 2 315 версты «сквернейшего пути»37. С проведением этой дороги доставка грузов (или, как в то время называли, «тяжестей») из Гижигинска в Средне-Колымск могла бы обойтись приблизительно в пять раз дешевле по сравнению с доставкой их из Якутска. А это могло бы снизить стоимость самих товаров: ведь «доставка грузов в Гижигу морским путем обходится значительно дешевле привоза товаров в Якутск через всю Сибирь»38.
Из рассказов бродячих инородцев ламутов (эвенов) Колымского округа, почти ежегодно совершавших поездки в Гижигинск, было известно, что из него в Средне-Колымск ведут два кротчайших пути. Первый - через реку Смолой вниз по ней приблизительно до устья реки Молоковой. Второй - к речке Коркодон затем вниз по ней и реке Колыме до Средне-Колымска. Бывший Якутский губернатор генерал-майор Г.Ф. Черняев, стремившийся к открытию сообщения между Средне-Колымском и Гижигинском, обращался к колымским торговцам с предложением, не смогут ли они «принять на себя исследование и само устройство пути без содействия в денежной помощи от администрации»39.
В 1878 г. на его призыв отозвался колымский купец Михаил Бережнов, поручивший разведку пути брату Нилу Бережнову. Выбрав в проводники ламутского старосту Савву Балагана, бывавшего в Гижигинске и хорошо знавшего этот путь, 1 июля с несколькими опытными работниками Нил Бережнов выступил из Средне-Колымска и направился сухим путем на восток к берегам Омолона. Отсюда они предполагали пойти вверх по этой речке, волоком, к Гижигинску и обратно спустится по рекам Коркодон и Колыме.
Однако «предприятие» Нила Бережнова успеха не имело. Достигнув брега реки Омолон, через 14 дней он повернул обратно в 164
Средне-Колымск. Причину своего возвращения Бережнов объяснил затруднениями, встретившимися на пути. По его словам, «подножный корм там можно найти только на небольшое количество лошадей, да и тот плохой, так как по всему пути почва покрыта мхами и каменьями. Кроме того, обширная область местности во многом подвержена гари. Поэтому, упавший и временами падающий лес, на каждом шагу грозил большой опасностью»40.
И все-таки, несмотря на такой исход, попытку Нила Бережнова нельзя назвать неудачей: был приобретен хоть и небольшой, но все же ценный опыт. Тем более что, со своей стороны, «Иркутский Губернатор признавал настоятельно необходимым, во что бы то ни стало произвести обследование указанных путей»41. Причем вполне допускал, «что и это предприятие может закончиться неудачей». Но даже и при таком исходе он не считал, «что расчеты на Гижигу не осуществимы». И посоветовал разведку пути «возложить на человека соответствующего по своим познаниям и подчиненности этому назначению, придав в его распоряжение землемера, 2-х казаков, в качестве проводников и 5 опытных рабочих, бывавших в Гижиге инородцев Колымского округа»42.
И таким человеком стал Карзин, во многом и сам инициировавший это исследование и получивший поддержку начальства области.
Включение этого вопроса в уже упомянутый годовой отчет за 1888 г. явилось следствием совместных действий, так как подготовительная работа началась гораздо раньше. Так, 30 марта 1888 г. за № 789 в Колымское окружное полицейское управление на его имя поступило официальное указание от губернатора К.Н. Светлицкого «Об отыскиванию пути из Колымека в Гижигу»: «Припровождая Вашему Высокоблагородию копию с донесения моего Иркутскому Генерал-Губернатору от 12 сего марта № 618 о назначении доступным для исследования пути из Колымска в Гижигу, поручаю Вам доставить мне свои соображения относительно поиска колымских рабочих, заготовления продовольствия, покупки лодок, закупа лошадей для провоза членов экспедиции, необходимой тяжести и другое, что сочтете нужным»43.
Взвесив все за и против, по согласованию с вышестоящей властью, Якутское областное правление во главе с губернатором приняло решение: «Осуществление данного предприятия может быть начато не ранее будущего 1889 г. немедленно по вскрытии реки Колымы, которое обыкновенно бывает в мае. Исследование удобного пути начать от Средне-Колымска, и далее по Колыме и Коркодону. Направлять лошадей вдоль берега от последнего пункта, где река перестает быть судоходной, а далее - волоком к Гижиге. Обратно - смотря по обстоятельствам: можно проследовать тем же путем до Верхне-Колымска, или возвратиться в Якутск по готовым трактам»44.
Началась подготовка к экспедиции.
27 сентября 1888 г. в своем донесении губернатору К.Н.
Светлицкому за № 134 Карзин сообщал о том, что «инородцы Василий Винокуров с родовичем Иннокентием Винокуровым, оба знающие кротчайший и удобнейший путь из Колымска в Гижигу, обязуется быть проводниками за 1 000 р. серебром»45.
На основании представленных Карзиным сведений о расходах на оснащение экспедиции из суммы, ассигнованной из казны, экзекутором и казначеем Якутского областного правления была составлена смета расходов на сумму 4 802 р. 96 к. (из расчета на одного человека в месяц). Предполагалось заготовить и закупить: «муки ржаной в количестве 1 пуда 20 фунтов - 757 руб. 62 коп. Крупы -10 ф. -111 р. 60 к. Соли по 3 ф. - 28 ф. - 13 р. 24 к. Масла коровьего по 10 ф. -9 ф. - 288 р. 2 ведра спирту - 100 р. Кирпичного чая, по кирпичу в месяц на каждого - 36 кирпичей - 90 р. Пороху - 10 ф. - 7 р. 88 коп. Свинца - 20 ф. - 4 р. 71 к. На заготовление рабочим инструментов, лодок и разные непредвиденные расходы - 300 р. Для провоза лодок приобретено 200 саженей бечевы [Прочного каната или веревки для тяги судов и лодок против течения реки. - В.К.], взят один компас»46. Кроме того, «были употреблены местные средства Статистического комитета в сумме 2 825 р. 19 к.»47.
Окончательное распоряжение губернатора К.Н. Светлицкого по кредитованию поиска проектируемых водных путей Колымского края Карзиным было получено 9 мая 1889 г. Но средств оказалось недостаточно, несмотря на то, что «Его Превосходительство нашло возможным, прислать в его личное распоряжение 850 р.»48. Не доставало 1979 р. 81к. Встал вопрос: что делать? До вскрытия Колымы оставались считанные дни. В такой ситуации по своему характеру Карзин не мог не взять ответственность на себя. А потому, чтобы не затягивать дело перепиской «по ассигнованию потребной суммы», обратился с просьбой к «некоторым лицам из колымского купечества» об оказании предстоящей экспедиции «какого-либо содействия». В противном случае намечаемое мероприятие могло не состояться, либо перенесено до лета следующего года.
На его просьбу, и прежде всего из уважения к нему лично, которое уже «не единожды было засвидетельствовано»4, а не только от осознания значимости данного мероприятия для колымчан, «сочувственно отозвались колымские купцы: Матвей Николаевич Бережнов и Иннокентий Николаевич Соловьев, которые и пожертвовали для экспедиции свои средства. М.Н. Бережнов - 60 р. без возврата и 90 р. - с возвратом. И.Н. Соловьев дал безвозвратно 100 р. Торгующий в Колымском округе инородец Якутского округа Иван Парников - 14 р., помощник Карзина Уваровский - 25 р.»50.
Осознавая всю важность экспедиции для населения, еще 15 февраля 1888 г. представители улусов и наслегов Колымского уезда тоже внесли свою лепту в общее дело и составили «Общественный приговор об исследовании Колымо-Гижигинского тракта», которым «приговорили»: «Постановить организовать подвоз экспедиции от Средне-Колымска до Верхне-Колымска на общие средства»51. При составлении и написании «приговора» присутствовали: голова 166
Нижне-Колымского улуса Алексей Винокуров, голова Верхоянского наслега - Иван Колесов, голова Эгейского - Никита Жирков и старосты близлежащих улусов. Все свои подписи скрепили печатями.
Задачей экспедиции было исследование течения реки Колымы, ее притоков Коркодона, Лавдона и Буюнды, берущих свое начало на Яблоневом хребте, и дальше поиск наиболее удобного пути в направлении к Гижигинску и Ямску. Карзину предстояло взять пробы встречающихся пород и отложений, описать фарватеры рек, их глубину, скорость течения, состояние берегов, грунта, местности, порогов, времени замерзания, вскрытия, пригодности для плавания, сплава по ним тяжестей, удобств прохождения судов и лодок. А по возвращении представить в Якутское областное правление свои «соображения».
* * *
В начале 20-х чисел мая 1889 г. по Колыме уже пронесло лед, и наступило половодье. Вода быстро начала прибывать и заливать все прибрежные низменности. В первых числах июня она снова вошла в свое русло. А к 5-му числу берега настолько обсохли, что экспедиция получила возможность тронуться в путь и отправить свою первую лодку с припасами.
В ночь с 8 на 9 июня, при прекрасной погоде, двинулись в далекий и трудный путь. Но радость была омрачена уже на другой день. «При температуре воздуха плюс 22 градуса разразилась гроза, и полил проливной дождь вперемежку с градом величиною с крупный горох. Потом опять наступила хорошая погода, продолжавшаяся до 13 июня. Однако, с этого дня начались дожди, сменяющиеся снежной пургой. Но самым страшным и неотступным испытанием для всех были комары и мошка, от которых нельзя было спастись никакими методами»52, что становилось «большим препятствием в продвижении». Нередко случалось, что «эти местные кровососущие властители в полном смысле слова могли лишить жизни не одну лошадь и те пали от комариной расправы»53.
Берега подсохли, поэтому на восьмой день уже можно было «идти бечевой», то есть, находясь на берегу, тянуть лодку против течения посредством каната или прочной веревки - бечевы. За восемь суток, проплыв от Средне-Колымска 470 верст, 16 июня в 8 часов утра причалили у Верхне-Колымска.
Таким образом, в среднем в сутки они преодолевали по 58 с лишним верст. За день до приезда Карзина в Верхне-Колымск туда же прибыла лодка с продовольственными припасами экспедиции.
Здесь необходимо было взять других проводников и двинуться дальше к верховьям Колымы, так как, не зная ее фарватера, очень легко было заблудиться среди островов в многочисленных притоках, какими изобилует эта река. Оказалось, что лучшими проводниками для таких путешествий могут быть ламуты и юкагиры, кочующие по водной системе в Верхне-Колымской части округа.
К исходу клонился день 21 июня, и часы показывали 7 пополудни. «Сидя в своей квартире, - вспоминал Карзин, - я был несказанно изумлен вдруг разразившимися перед моими окнами, многочисленными выстрелами. В чем причина такой пальбы? Состоящий при мне казак рассказал, что по реке плывут ламуты и юкагиры. Выйдя на улицу, я увидел совершенно изумительную картину. По реке в многочисленных карбасах подплывали также многочисленные инородцы со своими семьями и со всем походным такелажем. Довольные своим благополучным прибытием в это местечко, таким образом, они салютовали из своих винтовок. Тем же отвечали им местные жители. Причалив к берегу, они живо разбили свою урасу, натянули палатки на тонких бревнах, вокруг которых запылали яркие костры, а над ним на треногах закипели чайники и котлы»54.
С прибытием проводников, старшины Дельянского бродячего ламутского рода Михаила Егорова Тайшина и его сородича Прокопия Дормидондова Шадрина, можно было двигаться дальше. Карзин не зря дожидался именно этих людей, которые, по местному обычаю, до места назначения были доставлены чуть ли не всем селением. Тем самым инородцы выразили свое уважение Карзину и продемонстрировали поддержку экспедиции. Он знал их, доверял им и надеялся на них, как на самого себя. Именно эти два, по его словам, «неустрашимых, ловких человека», основательно знали не только фарватер реки Колымы, но и ее притоков до самых вершин - Коркодна, Лавдона, Буюнды. Они и сыграли ключевую роль в их исследовании. Оба охотно согласились быть его проводниками на время плавания по Колыме, «выговаривая себе только два дня на необходимые свои приготовления».
29 июня в 8 часов вечера, при добрых напутствиях и пожеланиях верхне-колымцев, экспедиция из двух лодок поплыла по направлению к устью Коркодона. С этого дня погода стала значительно ухудшаться, а вода в Колыме быстро пошла на убыль. Так что почти весь путь до Коркодона пришлось плыть по среднему уровню воды в Колыме и проститься с последними, жившими в этом крае, людьми. Дальше, по описанию Карзина, вверх по Колыме - сплошная тайга, в которой не встретишь ни одной души. Человек оказывается один на один с природой и надеется только на свои силы и самого себя. Несмотря на обилие леса - кругом пустынно. На десятки и сотни верст - в воздухе только изредка раздастся пронзительный крик куропатки или кедровника, стремящихся куда-то, да высоко в небе над лодкой покажется одинокая утка. «Остановки для обеда и ужина приходилось делать под открытым небом в неустанной борьбе с роем тех же назойливых комаров, дождем падающих в пищу, а в непогоду укрываться в палатке», - записывал Карзин55.
Временами однообразие сменялось разного рода неожиданностями. Случались они не так уж редко и всегда были сопряжены с риском для жизни. Вот, например, что произошло 11 июля в 140 верстах от горы Ороёк вверх по Колыме в начале 3-го часа пополудни. «Не приведи Господь, этого испытать никому!». «Мы, - пи- 168
шет Карзин, - шли бечевой по правому высокому берегу Калымы. Саженях в 40, впереди нас, виднелся громаднейший яр с подходом под берег высокой водой и с густо растущим на нем крупным лиственничным лесом, коих на Колыме многое множество. Яр этот нам предстояло огрибать на веслах. Моя лодка шла впереди, а с припасами экспедиции была в полуверсте сзади за загибами реки. Вдруг, как гром среди ясного неба, совсем рядом неожиданно раздался какой-то ужасающе страшный треск, описать который не в состоянии ни одно перо. В какой-то миг у всех промелькнула ужасающая безотчетная мысль, как будто перед нами разверзлись врата вселенной... Рабочие, тянущие «бечевой» мою лодку, остановились, как вкопанные и растерялись. В это самое время, сильное в этом месте течение реки стало отбрасывать ее к тому самому злополучному берегу, где находился с ужасающим грохотом рухнувший в речку, яр, образовав самые высокие, самые гигантские воронкообразный буруны (саженные волны). Они то и потянули в себя мою лодку и грозили затереть ее в месте обвала, с кружившимся в буруне обвалившимся с яра лесом. Мы все были в секунде от смерти. Нас спасла неведомая сила единства. Я с казаком с отчаянием схватился за мыс, чтобы хоть на миг задержать движение лодки. Потом буквально скоком оба едва выскочили на берег. Рабочие успели-таки выхватить ее из грохотавшего под ней водяного ада. Насколько позволили нам силы, со всем грузом вытащили лодку на берег, тем самым не попали под обвал, буквально в двух шагах от нас... Ну как после такого счастливого избавления не вознести Господу Богу благодарность за наше счастливое избавление от смерти! Все мы были несказанно рады, что представилась возможность еще, быть может, немного пожить на свете»56.
Точно так же все понимали, что северное лето кратко и изменчиво, а жизнь каждый день полна неожиданностей и сплошных трудностей. Потому что само существование в суровых условиях - это каждодневное испытание. Вот и сейчас, перетащив волоком лодку подальше от места едва не случившейся катастрофы, они двинулись в путь, не зная, что еще их ждет впереди.
На исходе был 12-й экспедиционный, тот самый злосчастный и одновременно счастливый, день 11 июля. Около 8-ми часов вечера, достигнув устья реки Коркодон, партия остановилась на ночевку. А на завтра была назначена дневка, для того чтобы людям, измученным трудной работой, впервые дать возможность отдохнуть и запастись силами на предстоящий дальний путь.
Пройденный же был «воистину труден»: поднимаясь вверх, приходилось преодолевать огромное сопротивление реки Колымы. По подсчетам оказалось, что расстояние от Верхне-Колымска до устья реки Коркодон составило 430 верст. Таким образом, позади остались 900 верст пути. Учитывая, что экспедиция прошла их за 12 дней, нетрудно догадаться какую физическую нагрузку выдерживали люди, работая от зари до зари. Перед всеми стояла одна задача - как можно скорее обследовать водный путь на предмет его пригодности и без- 169
опасности для провоза грузов и состояния берегов и прибрежной территории. Потому что в своем верхнем течении Колыма покрывается льдом уже в конце сентября, а в нижнем - в первой половине этого же месяца. Так что волей неволей нужно было торопиться.
Несмотря на встречающиеся трудности, партия сумела преодолеть столь значительное расстояние. И, в первую очередь, надо отдать должное ее руководителю, который, хотя и имел высокий для округа чин и должность, не ограничивался отдачей приказаний, а наравне со всеми выполнял всю необходимую работу. Во вторую - отметить мужество, выносливость, спаянность рабочих и проводников. Ибо чем ближе к верховью, тем сильнее было сопротивление реки. Протекая меж высоких гор, по не столь широкой лесной долине, даже при незначительном уклоне, Колыма течет особенно быстро. А потому приходилось затрачивать много сил, чтобы, преодолевая ее течение, тянуть «бечевой» лодки с грузом. «Все, что нам удалось сделать, - писал Карзин Якутскому губернатору Коленко в донесении за № 87, - сделано благодаря выносливости этих людей, подобранных мною и бесстрашно противостоящих быстрому течению Колымы, особенно между Верхне-Колымском и Коркодоном. И справедливость требует отдать достойную честь этим людям, их отношению к делу. Мы просто обязаны не оставить их без внимания и поощрения»57.
На другой день, 12 июля, посоветовавшись с помощниками и проводниками, наметив план дальнейших действий, «часа в три по полудни, согласно окончания срока соглашения», Карзин, поблагодарив часть рабочих и проводников «за усердный труд», распрощался с ними. И, снабдив необходимым продовольствием на весь обратный путь, «добавив денежную плату», проводил их в Верхне-Колымск, оставив при себе одного казака и шесть рабочих. При этом он сумел уговорить Михаила Тайшина, который согласился быть с ним до конца экспедиции.
План разработали следующий: более детально исследовать Коркодон на обратном пути, а сейчас двинуться по направлению к Лавдону и далее к Буюнде. Почему? Потому, что возвращение к Коркодону, затем от него, это - вторичная мучительная тяга «бечевой», большая потеря сил и времени, «которое можно употребить с пользою на исследование реки Буюнды», хотя «предписанием Его Превосходительства за № 914» в обязанность Карзину это не вменялось, а было отдано на его усмотрение. В противном случае можно было опоздать воспользоваться возможностью проходить водою до этой реки, имевшей, как тогда казалось, главное, решающее значение для соединения Средне-Колымска с местечком Ямск на побережье Охотского моря. Ввиду таких важных обстоятельств, и беря за основу мнение Михаила Тайшина, Прокопия Шадрина о незначительной пригодности Лавдона и Коркодона для судоходства, Карзин, как руководитель, решил сначала идти к реке Буюнде, исследовать ее и уже по ней спуститься к Колыме. А затем подняться вверх по Лавдону, «и если там найдется, хотя бы мало-маленькая 170
возможность прохода», спуститься водою по этой реке и Колыме, исследовать реку Коркодон, из которой и возвратиться водою обратно в Средне-Колымск.
На другой день, 13 июля, рано утром, уложив в лодку весь груз, тронулись в путь по Лавдону Погода испортилась, и день ото дня становилась все хуже и хуже. Начавшиеся дожди сопровождались градом и сильным ветром.
17 июля удалось прибыть к устью Лавдона, который, по предположению инородцев, отстоял от Коркодона на 150, а от Средне-Колымска - на 1 050 верст. Наступившее ненастье оказалось почти непреодолимым препятствием. К тому же из-за значительного уклона местности усилилось течение Колымы между устьями рек Ноучье и Лавдона, и без того имеющее строптивый характер. Сама по себе река Лавдон была крайне мелка, но чрезвычайно быстра; как змея, кольцеобразно изливалась в направлении Колымы. Она проходила через Колымский порог, образовавшийся из лежащих каменных голышей, а потому постоянно загромождавшийся наносным лесом с громадными корневищами, отчего устье Ловдона становилось непроходимым. Рабочим «стоило около часа усиленной работы, чтобы найти маленький фарватер, по которому они с большими затруднениями протащили лодку с грузом, сбившую водою как раз в то самое место, в котором было не более трех четвертей аршина в глубину»58. Немногим позже этот порог еще напомнит о себе.
Дальше двигаться не было никакой возможности. До вечера 17-го и весь день 18 июля шел проливной дождь. Поэтому вторая «дневка оказалась вынужденной, хотя все были здоровы и бодры».
К утру дождь прекратился, и 19 июля, при прояснившейся погоде, поплыли вверх по Колыме от устья Лавдона к устью впадающего в него реки Балыгычан.
20 июля в 60-ти верстах выше Лавдона, при устье впадающей в Колыму маленькой речки Кегаль, впервые встретились два семейства ламутов, занимающихся рыбным промыслом в устье рек Заимчан и Бобровой. Среди них оказался инородец 2-го Дельянского бродячего ламутского рода, участка старшины Михаила Тайшина, якут Василий Егорович Шадрин (Селюка), кочующий по реке Колыме, Коркодону, Лавдону и Балыгычану. Бывал он и на Буюнде, а потому мог дать достоверные сведения об этих реках. Карзин уговорил Шадрина, и тот нанялся к нему в проводники.
От изобилия выпавших осадков уровень воды в Колыме значительно поднялся, и к концу 20 июля были уже затоплены берега маленьких рек и острова. Разливы от берега до берега простирались верст на 10 в ширину. Лодку «тянули бечевой» по остаткам не затопленного бечевника (прибрежной сухопутной дорожки вдоль берега водного пути), а местами шли на веслах. Сумерки заметно сгущались. И уже, стало ясно Карзину, небезопасно двигаться дальше. «Вдруг мои рабочие что-то засуетились, испуганные стали перешептываться между собою, и я заметил, что лодка начала пополняться водою. Отливая ее, мы всеми силами налегли на весла и кое-как до- брались до первого попавшего острова. Быстро повыбрасывали всю кладь и вытащив лодку на берег. Вначале удивились, что в ее сучковатом деревянном дне выскочил один большой сук, который и пришлось затыкать. Потом вспомнили, где это могло произойти - на том самом злосчастном пороге, когда перетаскивали через него лодку»59.
Пока ее чинили, были так увлечены делом, что никто не обратил внимания на прибывавшую воду. И когда она поднялась до критической отметки, поняли, что оставаться здесь на ночевку невозможно. Опасаясь снова пробить лодку об острые осколки камней, «находящихся во множестве в воде у самого берега», в наступившей темноте, буквально на ощупь, перетащили ее подальше на воду и стали искать убежище на одном из островов, надеясь, что «до утренней зари его, быть может, не затопит».
Расположившись на нем на ночевку, - а ночи день ото дня уже становились все темнее, - в эту ночь на 20 июля, как потом окажется, многострадальную, а пока ничего худого не предвещавшую, оставив позади воспоминания о пережитых днях, все заснули крепким здоровым сном. «Часу во втором пополуночи, - пишет Карзин, - я проснулся от того, что почувствовал под собою что-то холодное и мокрое. Поднявшись на своей постели, совершенно удивился, что моя палатка вся в воде, а я не “утонул” во сне. Обувь и другие вещи чуть ли не плавают по ней, а матрац и покрывавшая его медвежья шкура, на которых я спал, напитались водою как губка. Прибывшая вода затопила за ночь и этот остров. Разбудив, спавших в другой палатке, стоящей на небольшом возвышенном месте, и побросав как попало в лодку вещи, мы поплыли к подножью тянущегося в устье вдоль берега реки горному кряжу. Уже брезжил рассвет. И мы, выбрав удобное для себя место, развели костры и начали просушивать вещи»60.
В течение следующего дня, 21 июля, «вода прибыла еще на два аршина». В ночь на 22-е уровень реки снова поднялся на столько же. И «вода снова подступила к краям палаток, залив огнище».
По мере ее прибытия приходилось перебираться выше в гору, подталкивая туда за собою и лодку. Днем 22 июля «вода снова прибыла на два аршина в высоту, затопив остальные острова». В довершение всего «дважды прибывала до утра 23 числа».
Так нежданно-негаданно путь вперед был отрезан «непреодолимым шумным, грохочущим течением Колымы». Поэтому здесь, на этой горе в 15-ти верстах выше устья, впадающей в Колыму реки Кегаль, экспедиция вынуждена была пробыть четверо суток в ожидании, пока спадет вода в реке и появится возможность для тяги лодки вверх.
К счастью, с вечера того же дня вода стала падать, и 25 июля представилась возможность идти дальше. В этот день, пройдя 22 версты, подошли к устью реки Балыгычан, впадающей тремя рукавами в Колыму с ее правой стороны по течению. Балыгычан меньше Лавдона, река мелководна и крайне быстра, поэтому, заключил Карзин, не пригодна для судоходства. Пройдя еще 23 версты от 172
устья Балыгычана вверх по течению Колымы, к вечеру того же дня достигли впадающей в Колыму небольшой речки Теплая вода, получившей свое название от местности с горячим ключом.
Как оказалось, вода в реке мягкая и очень приятная на вкус, в течение года не замерзает. Ее фарватер пригоден для мелких судов, предназначенных для сплава по Колыме разных «тяжестей». К тому же обширная ровная местность, лежащая по ее правую сторону, представляла собой удобные заливные луга. «Начиная от речки Теплая вода, по соображениям моим и по рассказам проводников, - пишет Карзин, - идет самая удобная вьючная дорога к Гижигинскому. Пролегает по каменистым, но не крутым подъемам и спускам горных хребтов, к тому же, по сухой местности. По словам кочующих якутов оймяконского ведомства и гижигинских ламутов, на всем своем протяжении тракт этот имеет хорошие кормовища для транспортных лошадей и оленей. Проходит по местности пригодной для полного ведения скотоводства, хлебопашества и сельского хозяйства. Здесь, около самой дороги более чем на половину всего пространства, имеются обширные поля, луга и пастбища. Пролегает прекрасный путь, удобный для проезда и перевозки тяжестей на лошадях, который не требует расчистки»61.
По местному исчислению ламутов, весь вьючный конный путь от речки Теплая вода до Гижиги составлял не более 600 верст, инородцы проходили его за 20 дней с учетом дневок. По рассказам проводника Шадрина, дорога эта начинается от речки Теплая вода и пролегает прямо по реке Балыгычан. Затем по пологим перевалам горного хребта, через два дня пути выходит к вершине реки Кегаль. Переваливается по низменной и очень пологой пади на имеющийся тут небольшой горный кряж. Подходит к самому истоку реки Осенней, берущей свое начало против вершины Кегаль и по Осенней в один день езды доходит до ее впадения в речку Сугой. Далее тянется к Лавдону, поворачивает на северо-восток до самой вершины, а затем через низменный перевал Станового и Яблоневого хребтов направляется к Охотскому морю, на берегу которого в пяти днях пути до Гижигинска, соединяется с Гижиго-Охотским трактом. И если, предположил Карзин, отсюда будет установлена сухопутная дорога к Колыме, то окажется, что весь путь от Теплой воды до Охотского моря будет равняться только 15-ти дням самой тихой езды и не более 10-ти дням на вьючных лошадях. В случае прокладки через окрестности Теплой воды Колымо-Гижигинского тракта и открытия судоходного движения к побережью Охотского моря могут сложиться благоприятные условиям для будущих предприимчивых поселенцев. Таким образом, заключил Карзин, «доставка грузов купечеству и подрядчикам лошадей, оленей для транспортировки тяжести до порта на побережье Охотского моря, поставка фуража для лошадей и заготовления лодок для сплава по Колыме, все это может служить источником для увеличения благосостояния не только местного населения»62.
Из-за продолжавшегося ненастья и прибывшей воды, затопив- шей весь бечевник, у Теплой воды пришлось задержаться до 31 июля. Находящуюся поблизости местность без названия Карзин поименовал «крепостицей Константиновской» в честь Константина Николаевича Светлицкого как главнейшего инициатора экспедиции, «и нашедшего (сколько было возможно) средств на ее содержание, без отягощения казны»63.
В этот день 31 июля, взяв с собой запасную кладь, Карзин с проводником Василием Шадриным налегке направился вверх по течению Колымы. 8 августа вечером прибыли к устью маленькой горной речки Залыкчан, что в 335 верстах от реки Теплая вода. По направлению течения Колымы по горной возвышенности пошли исследовать местность, которая оказалась довольно живописна, просторна и пригодна для устройства значительных поселений, так как имела обширные луга для скота. «Если бы эту местность заселить, то при развитии хлебопашества и огородничества ее в буквальном смысле можно было бы назвать житницей Колымского края»64, - писал в своем донесении Карзин. И здесь «в честь Господина Генерал-Губернатора Восточной Сибири, графа Алексея Павловича Игнатьева» одному из поселений инородцев он присвоил имя «кре-постицы Игнатьевской» (1 508 верст от Средне-Колымска).
Однако из-за неисправностей лодки пришлось задержаться на три дня. 12 августа утром направились дальше вверх по Колыме и, пройдя 30 верст по большой «прибыльной» воде, вошли в устье Буюнды: «при впадении в Колыму, река имеет 250 сажений в ширину, на остальном протяжении не более 75, а местами доходит до 5-6»65. Заросшая лиственничными лесами, кустами рябины, как показало обследование, она мало пригодна для плавания. По правую сторону до Ямска тянулись каменистые уступы. Осенью Буюнда бывала до того быстра, что по ней «нельзя плыть против течения даже на маленьких стручках - челноках». Ее русло запружено наносными корнями деревьев. Уровень воды беспрерывно меняется и зависит от выпадающих осадков, то глубока, то мелка. Поэтому иногда лодка натыкается на каменные наносы.
За три дня пути вверх проплыли 115 верст. При этом немалую часть составили «змеевидные речные огибы», на которые вынуждены были тратить дополнительное время, что значительно замедляло продвижение.
Дальше исследовать Буюнду было бессмысленно: стало ясно, что она может быть пригодна только по первому весеннему большому половодью для лодок весом до 10-пудовой клади. Больше грузить было просто опасно, так как о каменистые мели могли разбиться лодки, погибнуть люди и кладь.
Кроме того, возник вопрос: кто будет строить лодки на Буюнде? Живущие здесь инородцы выдалбливали только «сружки-душегуб-ки», а построить большие грузовые лодки не умели и не имели об этом понятия. Поэтому не случайно ежегодно регистрировались многочисленные случаи, когда и взрослые, и подростки в таких «лодках-ветках из-за одного неосторожного движения падали в воду 174
и тонули»66. Когда они увидели лодку экспедиции, которую вытащили на берег для просушки, то «неизъяснимо были удивлены. Долго ее осматривали, ощупывали руками, дивились, качали головами»67. Таким образом, заключил Карзин, вряд ли была какая-то надежда на то, что инородцы за 600 верст пойдут за лесом для того, чтобы изготовить лодки и затем плавать по Буюнде.
К тому же, если брать в расчет эту реку, то ближайшим к ней населенным пункт на побережье Охотского моря является Ямск, который располагается южнее Гижиги в 3 608 верстах от Средне-Колымска. То есть на 1 283 верст длиннее тракта от Средне-Колымска до Якутска через Верхоянск. В то время как водный путь от Средне-Колымска до Теплой воды составляет 1 838 версты. Кроме того, Колымо-Ямский путь всецело будет зависеть от уровня воды в Буюнде, а Колымо-Гижигинский может быть использован круглый год. Таким образом, возлагаемые на эту реку надежды, к большому сожалению Карзина, не оправдались. Долгим и многотрудным был путь от Средне-Колымска до Буюнда, но еще тяжелее было «похоронить в ней все надежды на пригодность доставки сюда казенной тяжести, купеческих товаров из Колымска»68.
-
15 августа Карзин от урочища Поворотное по пустынным берегам Буюнды решил вернуться на Колыму и далее двигаться к устью Коркодона и Лавдона. На Колыме стоял высокий уровень воды. Постоянно прибывая, заливая прибрежные бечевники и усиливая быстроту течения, вода до крайности усложняла труд рабочих, которые вынуждены были не только вкладывать всю свою силу в работу, но и постоянно находясь под открытым небом, работать под дождем и на холоде. Дожди, идущие почти все время, перепортили все вещи экспедиции, одежду, обувь. «При холоде, подобные процедуры превращались в настоящее мучение, в то испытание, которому в варварские времена подвергали людей наказанием водой»69.
-
17 августа часу в 5-м дня «по большой пребольшой воде доплыли до устья Лавдона». По рассказам проводника Шадрина, «река крайне быстра, никогда не замерзает и остается совершенно талой, образуя у берегов только небольшую наледь». Поэтому бродячие инородцы приезжают сюда для ловли рыбы.
С трудом перебравшись через Усть-Лавдонский порог и выбрав удобное место для остановки, «решили передохнуть до следующего дня». Утром 18 августа по высокому уровню воды в реке попытались проникнуть дальше вверх, «пошли бечевой» против быстрого течения Лавдона. Пройдя пять верст, столкнулись с другим порогом во всю ширину реки, преодолеть который «не представилось никакой возможности», так как несущаяся через него вода «буквально клокотала, кипела словно кипяток в гигантском котле». Убедившись в непригодности Лавдона к судоходству и сплаву по нему грузов, «устав лавировать между каменьями с большою для себя опасностью», они «с быстротою экстренного поезда пронеслись обратно к Усть-Лавдонскому порогу и во избежание какого-либо несчастья поспешили выбраться на Колыму»70, по которой вечером этого же 175
дня доплыли до устья Коркодона.
Утром 19 августа, распрощавшись с Шадриным, который уже исполнил роль проводника и не был нужен, Карзин с остальными рабочими и Михаилом Тайшиным «бечевой» направился вверх по реке. По сравнению с Лавдоном, Коркодон не имел порогов, поэтому сплав по нему, заключил Карзин, возможен до замерзания, а удобные берега не требовали особого исследования. Благодаря высокому уровню воды в реке удалось пройти вверх по ней только до ламутского урочища Арычимба (Арыкимба; по-юкагирски - Алчедын), отстающего от устья Коркодона на 205 верст. Сюда и прибыли 23 августа. Продвинуться дальше помешал спад воды, который грозил остановкой сплава по реке.
Учитывая это обстоятельство, 23 августа Карзин решил возвращаться к устью Коркодона и, войдя в фарватер Колымы, дополнительно исследовать его. Насколько позволяли условия и знания, он констатировал следующее: «До устья впадающей в Колыму реки Коркодона, по берегам извиваясь, тянутся высокие горы, от 1 000 до 3 000, местами до 4 000 футов и постепенно переходят в тундру. С правой стороны берег, соединяясь с отрогами реки Омолон, заканчивается при устье этой реки. Фарватер главной реки Колымского края извилист, имеет большую глубину от одной до десяти и более саженей при самом низком уровне воды. Поэтому сплавы для всевозможных тяжестей весьма безопасны и доступны на судах поднимающих несколько тысяч пудов тяжести. По причине быстроты Калымы, потяга бичевой вверх по главному течению совершенно невозможна. Приходится преодолевать огромное сопротивление реки, выбирая самый кротчайший путь, перегребая от одного острова к другому»71. Даже при тихой безветренной погоде их экспедиционная лодка «неслась по ее зыбунам, покачиваясь как на рессорах», за 12 часов преодолев около 300 верст.
Как показал опыт, тяга грузов вверх по Колыме возможна только в маленьких лодках, поднимающих небольшие тяжести. Причем каждая должна иметь не менее пяти рабочих. Ибо «при меньшем числе, течение может отбросить ее вниз и разбить о каменистый берег, или затянуть под нависший яр и затопить под ним». Также он определил течение Колымы от устья Буюнды до Лавдона как «быстрое» (70 000 футов или 20 верст в час), от устья Лавдона до реки Ноучьё - «очень быстрое» (30 вере в час), от устья Ноучьё до Верхне-Колымска - «быстрое», от Верхне-Колымска до Средне-Колымска - «средне-скорое» (10 верст в час), от Средне-Колымска до устья Омолона - «ниже среднее» (5 верст в час)7*.
26 августа доплыли до Верхне-Колымска, а 3 сентября благополучно возвратились в Средне-Колымск, исследовав в общей сложности более 3 726 верст сухопутного и водного пути.
* * *
К какому же результату пришла экспедиция Карзина?
Самым удобным и безопасным путем для постоянной доставки казенных грузов и купеческих товаров с побережья Охотского моря в Средне-Колымск может являться Колымско-Гижигинский путь через крепостицу Константиновская у реки Теплая вода. До нее, как и по Охотско-Гижигинскому тракту, может быть установлен и почтовый путь со станциями, через которые возможен провоз груза и в зимнее время. Причем летом треть из 700 верст водного пути «бечевой» можно пройти не долее чем за 10 дней. Пролегая по извилистой местности, легко проходимый для вьючных лошадей, свободный от топей, болот, путь изобиловал прекрасными пастбищами, удобными для скота. Он являлся лучшим и наиболее пригодным из всех обследованных дорог к побережью Охотского моря.
Но кротчайший путь вел от Средне-Колымска до Гижигинска, который Карзин исследовал по собственной инициативе. Это сухопутный тракт от Гижигинска, к реке Крест (Отворотная), впадающей в Омолон. Пересекая последний, пролегая через горы, по прямой линии, он направлялся к Средне-Колымску. Имел низменные и легко проходимые для вьючных лошадей перевалы, которых бродячие ламуты насчитывали девять. Весь он был расположен на сухой местности, имел хорошие отавы (трава, выросшая в тот же год на месте скошенной). И зимой на вьючных лошадях мог быть преодолен не долее как за 25 дней (по местному исчислению ламутов - около 1 000 верст).
Путь, что вел от Средне-Колымска к местечку Ямск через Буюнду, - очень далек. Поэтому он не мог стать постоянным, так как сплав был возможен только по весеннему половодью и то при наличии грузов в Ямском порту и при отсутствии задержки с поставками со стороны Охотского моря. Что касается доставки грузов водным путем через Коркодон, то здесь та же картина: только по весеннему половодью.
Завершая анализ своего «благоугодного дела» по исследованию главного водного пути Колымского края, Карзин выразил надежду на то, что наиболее удобный сухопутный путь «откроет для трудолюбивых колымчан новую сферу практической благодарной деятельности». Он был уверен в том, что «не далеко то время, когда по новому пути с берегов Охотского моря в Средне-Колымск прибудет транспорт удешевленных товаров и стряхнет с него тяготеющую, беспощадную дороговизну»73.
С чувством исполненного долга и благодарностью к той «крохотной кучке людей, не устававших проникать на хрупкой деревянной лодке по головокружительному течению в самые заповедные и труднодоступные места», 9 сентября 1889 г, Карзин закончил свое итоговое донесение, которое затем было представлено «на рассмотрение Якутского Областного Правления» и «отправлено Генерал-Губернатору Восточной Сибири А.Д. Горемыкину».
Ознакомившись с «описанием поездки исправника по рекам Колымы Лавдона, Коркодона и Буюнды», в ответном письме от 28 апреля 1890 г. за № 3241 к губернатору В.З. Коленко, Иркутский 177
генерал-губернатор А.Д. Горемыкин признал попытку Карзина, сделанную им «в интересах Колымского края, найти ближайший путь к одному из пунктов Восточного побережья, крайне важной. А соображения и сведения Карзина о водных путях и прилегающих к ним местностям, достойными глубокого внимания»74. А.Д. Горемыкин приказал от его имени «объявить Колымскому окружному исправнику особую благодарность за полезный труд по совершению экспедиции. И в силу высочайше представленной ему власти, счел своим долгом достойно наградить Карзина и участников за их труды и успехи»75.
Так, благодаря общей заинтересованности, как со стороны властей, так и населения, стараниям, прежде всего, Владимира Гавриловича Карзина, его заботе «о хлебе насущном для колымчан», упорству, выносливости северян оказалось возможным осуществление первого исследования рек и местностей для открытия пути от Средне-Колымска до берегов Охотского моря. И хотя это было только начало, тем не менее, оно вселяло надежду на будущее. Теперь уже стало ясно, что связь эта достижима, она не только необходима, но и выгодна. В чем не возникли сомнения и у генерал-губернатора, начальника Восточной Сибири. А посему он повелел «продолжить настоящее дело исследования по открытию иного кротчайшего и удобного пути до Гижигинска, Ямска, Охотска при посредстве того же Карзина...» и обязательно «уведомить его о дальнейших результатах», сообщить «точные сведения о местности Восточного побережья и тех главных продуктов, которые нужны для Колымского края. Составить соображения о стоимости их провоза до Средне-Колымска»76.
Так были заложены основы для дальнейших поисков кратчайших путей к Охотскому морю, от которых зависело хозяйственное развитие и повышение уровня жизни населения не только Колымского края, но и близлежащих территорий.
* * *
Но на этом «благоугодные» дела Колымского окружного исправника не закончились.
В 1893 г. при поддержки уже другого губернатора - В.Н. Скрыпицына - была предпринята еще одна экспедиция с той же целью: «отыскивание новых путей от Средне-Колымска до Гижиги» при совместном руководстве В.Г. Карзина и советника Якутского областного правления Д.И. Меликова. Маршрут включал в себя северо-восточную часть территории Якутии и начинался от Средне-Колымска, затем по Колыме через Верхне-Колымск и дальше до речки Балыгычан. От ее устья до Гижиги шли на конях. На обратном пути двигались по направлению к Омолону, который впадает в Колыму. Обследовали более мелкие реки Кедон, Парень, Кегали (Кегаль), Асыхой и другие. По «чукотской дороге», уже проложенной инородцами, половина членов экспедиции шла на лодках, дру- 178
гая - на оленях. Результатом исследования стала карта пути продвижения, составленная Карзиным77, которая затем легла в основу нового торгового маршрута. Его протяженность составила около 1 250 верст. В результате, «посредством чукчей, кочевавших по правой стороне реки Омолон, гижигинские купцы стали доставлять товары в Средне-Колымск вместо 8-14, всего по 2 руб. с пуда»78.
Тем самым «трудолюбивые колымчане получили возможность открыть для себя не только новую сферу практической деятельности», но и, по словам Карзина, «стряхнули со Средне-Колымска тяготеющую над ним беспощадную дороговизну»79.
Факт его «беспорочной службы на благо народа и Отечества» подтверждают не только его награды, но, что более важно, конкретные дела и искренние слова благодарности инородцев, которые на себе ощутили улучшение своих жизненных условий. Поэтому не случайно еще в феврале 1888 г. «родоначальники девяти родов на торжественном улусном собрании в помещении Колымской инородной Управы от имени всех инородцев обратились к нему с письменным благодарственным адресом. В нем они выразили свои теплые чувства глубочайшей и искренней признательности за то, что он с безукоризненной добросовестностью и благородством постоянно заботиться об их благосостоянии»80.
У губернатора В.Н. Скрыпицына были все основания рекомендовать Владимира Гавриловича Карзина на должность Якутского окружного исправника, о чем и последовал приказ от 10 марта 1895 г. Но это уже другая страница в его биографии, страница истории Якутии.
Список литературы Колымский окружной исправник Владимир Гаврилович Карзин и его якутская экспедиция через "водяной ад" (1889 год)
- Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС(Я)). Ф. 12и. Оп. 1. Д. 8615. Л. 7об.
- Визе В.Ю. Обзор исследований по гидрологии рек и озер Якутии//Материалы комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР. Вып. 2. Л., 1928. С. 178.
- Казарян П.Л. История Верхоянска. Якутск, 1998. С. 96, 97.
- Визе В.Ю. Некоторые особенности атмосферного режима Якутии в связи с проектированием сети метеорологических станций//Материалы комиссии Академии наук СССР по изучению Якутской АССР. Вып. 2. Л., 1928. С. 135.
- Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: Сборник документов. Л.; М., 1952. С. 56.
- Алексеев А.И. Охотск -колыбель русского Тихоокеанского флота. Хабаровск, 1958. С. 9.
- Колесов М.И. История колымского края. Якутск, 1991. С. 94.
- Оглезнева Т.Н. Русское географическое общество: Изучение народов Северо-Восточной Азии: 1848 -1917 гг. Новосибирск, 1994. С. 59-61.
- Боякова С.И. Колымские рейсы начала ХХ века//Исторические исследования в Республике Саха (Якутия): Поиски и проблемы. Якутск, 1999. С. 86-97.
- Астахова И.С. «…Эта безрассудная затея…»//Сокровища культуры Якутии. Ч. 1. М., 2011. С. 166-172.
- Казарян П.Л. Сухопутные сообщения Северо-Восточной России XVII в. -1920 г. Якутск, 2012. С. 120, 121.
- Крылова В.К. Путешествие в будущее: фантазия и реальность. Психология поступков//Мир науки, культуры, образования. 2015. № 4 (53). С. 200-204.